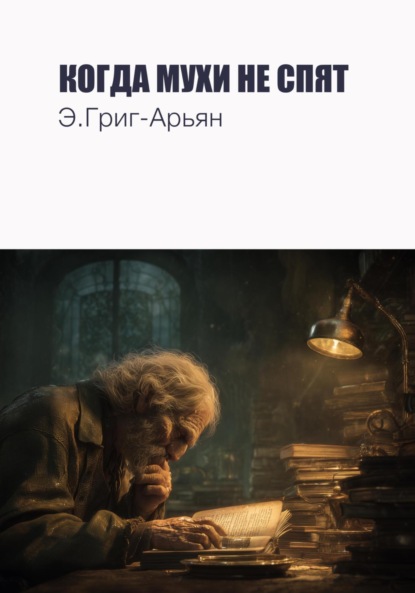
Полная версия:
Когда мухи не спят

Э. Григ-Арьян
Когда мухи не спят
Сын человеческий
Он стоял там. Рене Магритт. Неподвижно. Застывший в этом плоском, не прощающем свете, что не отбрасывал теней, но лишь подчеркивал ту странную, оскорбительную обыденность его облика. Человек. Да, человек – так, как его вылепило время, как его сковало это неумолимое, требовательное, вечно спешащее время, облачившее его в эту «униформу» – не солдата, нет, но нечто куда более коварное, куда более прочное. Пальто. Темное, глухо застегнутое, скрывающее – что? – грудь, дыхание, то слабое, уязвимое биение жизни, что отличает живое от камня или хорошо сшитого манекена. Пуговицы, рядком, как маленькие, немые свидетели его нерушимости, его отгороженности. И шляпа. Котелок. Твердая, круглая скорлупа, венчающая голову, скрывающая волосы, форму черепа – все то личное, что могло бы хоть намеком выдать в нем «этого» человека, а не «любого» человека. Он стоял так, будто ждал чего-то, но без всякой надежды, без нетерпения – просто стоял, как скала, как столб, как нечто, что время могло бы обтесать, но не сдвинуть.
За ним – или, быть может, «перед» ним, ибо свет был столь обманчив, а пространство вывернутым наизнанку – простиралось нечто неопределенное. Низкий парапет, грубый камень, линия раздела. Раздела между ним – этим плотно упакованным, непроницаемым «Я» – и тем, что лежало за ним. А за ним… Господи, что там лежало? То ли море – серое, свинцовое, без горизонта, без чаек, без волн, что бьются о берег с тем шумом, что напоминает о жизни и смерти, просто серая, бездонная «масса» воды, несущая в себе тяжесть всех невыплаканных слез мира. То ли небо – такое же серое, такое же бездонное, низкое, давящее, полное невысказанных угроз и предчувствий, которое не обещало ни солнца, ни звезд, ни даже дождя – просто «серость», простирающаяся до бесконечности. А может, это был дым. Дым заводов, дым городов, дым всех тех усилий, что человек прилагает, чтобы скрыть от себя самого свою собственную пустоту или свою собственную, неудобную, дикую природу. Неважно, что это было. Важно, что это было «там», за парапетом, за границей его мира, и оно было велико, безлико и равнодушно.
И вот тогда. «Тогда». Прямо перед ним. Не в руках, не в кармане, не на земле – но в воздухе. Висящее. Невозможное. Яблоко. Зеленое. Сочное. Невероятно, вызывающе «зеленое» на фоне всей этой серости и черноты. И оно не просто висело. Оно «заслоняло». Заслоняло «лицо». Ту часть человека, что должна была говорить о нем все – глаза, морщинки у рта, линия челюсти, – все то, что делает его «этим» человеком, а не безликой фигурой в пальто. Яблоко. Круглое, совершенное, банальное и при этом – чудовищно, непостижимо важное. Оно висело там, как завеса, как барьер, как тайна, которую нельзя разгадать, потому что она… слишком проста? Слишком сложна?
«Сын человеческий», – сказал бы он сам, или кто-то другой сказал бы о нем, глядя на эту фигуру, застывшую в неопределенности. Сын человеческий. Как тот, первый, что ел яблоко в другом саду, и как все те, что пришли после него, несущие на себе бремя этого знания, этого выбора, этой вечной, неутолимой жажды чего-то – чего? – что всегда оказывается скрытым, всегда заслоненным чем-то другим, чем-то таким же простым и таким же непонятным, как это зеленое яблоко. Это не яблоко греха, может быть, в чистом виде. Это яблоко «скрытого». Яблоко «невидимого». Яблоко «Я», которое спрятано так глубоко под слоями приличий, страхов, желаний и вот этого самого, обыденного, зеленого яблока, что ни сам человек, ни тот, кто смотрит на него, уже не может его разглядеть. Он стоит там, Сын человеческий, в своем пальто и шляпе, перед серым ничто, и перед его лицом висит яблоко – яркое, живое, зеленое – вечное напоминание о том, что самое главное в нем остается… «невидимым». Навсегда. Спрятанным за этой круглой, зеленой, совершенно обычной тайной.
Наоборот
Гюисманс. Жорис-Карл Гюисманс. Имя, которое звучало как сухой кашель в затхлой комнате. Тогда, в те годы, когда мир задыхается от собственной пошлости, когда каждый день был похож на предыдущий, серый, скрипучий, как несмазанная телега по разбитой дороге, – появилась эта книга. Нет, не просто книга, не стопка бумаги с чернилами, которую можно пролистать и забыть, а… ну, как если бы кто-то взял всю усталость мира, всю его боль от красоты, которая оказалась грязью, и спрессовал это в один плотный, удушливый комок. «Наоборот», – так она называлась. À rebours. Или «Против шерсти», или «Против природы», названия менялись, как тени в сумерках, но суть оставалась той же: что-то, что шло наперекор, что-то вывернутое наизнанку, как грязная перчатка.
Восемьдесят четвертый год, тысяча восемьсот восемьдесят четвертый – кажется, это было вчера, а на самом деле целая вечность прошла, и все изменилось, и ничего не изменилось, потому что та тоска, то отвращение к миру, они никуда не делись, они просто спрятались поглубже, как змеи в траве.
И герой… если можно назвать его героем. Дез Эссент. Жан дез Эссент. Последний в роду, выродившийся, болезненный, с нервами тонкими, как паутина, и душой, натертой до мозолей от постоянного соприкосновения с реальностью. Он не делал ничего, по сути, в этой книге. Он был. Он чувствовал. Он отгораживался. Как улитка прячется в раковину, только его раковина была поместьем Фонтене, выстроенным не из известняка, а из его собственных прихотей, из его отвращения, из его болезненной тяги к искусственному.
Он там сидел. Один. Среди своих книг – нет, не тех, что читают все, а тех, что забыты, что пахнут пылью веков и ересью. Среди своих цветов – не живых, вонючих от земли и росы, а искусственных, сделанных из шелка и металла, идеальных в своей неестественности. Он создавал запахи, как алхимик яды или эликсиры, смешивая их, чтобы вызвать воспоминания, чтобы утонуть в них, чтобы забыть, что за стенами есть мир, где пахнет потом и навозом. Он играл на своем «органе для ликеров», нажимая клавиши, и каждый вкус был нотой, аккордом в этой странной, пьянящей симфонии его одиночества.
И та черепаха… Господи, та черепаха! Ползет себе по ковру, медленная, древняя, сама природа во плоти, и он, Дез Эссент, смотрит на нее и видит… нет, не черепаху, а дисгармонию, пятно на своем идеальном, продуманном до мелочей искусственном мире. И что он делает? Он не убивает ее, нет, это слишком просто. Он берет ее, живое существо, и превращает в предмет, инкрустируя ее панцирь драгоценными камнями, превращая ее медленное ползание в тяжелый, сверкающий танец смерти, чтобы она вписывалась в его проклятый ковер. Превращая жизнь в ювелирное изделие, в красивый, бессмысленный груз.
Это была книга не о жизни, а о бегстве от нее. О том, как можно построить тюрьму из красоты, как можно умереть, захлебнувшись в собственных ощущениях. Это был крик. Тихий, удушенный крик в подушку из бархата.
Говорили, что прототипом был Монтескью, граф какой-то там, денди, фантом, скользящий по парижским салонам, весь из себя утонченный и пустой, как выеденное яйцо. Может быть. А может, это был собирательный образ всех, кто чувствовал себя чужим в этом новом, грохочущем веке. А может, это был сам Гюисманс, глядящий в зеркало и видящий там призрак усталости и отвращения.
И когда она вышла… о, когда она вышла! Это был скандал. Натуралисты, эти крепкие мужики, что нюхали грязь и писали о ней без прикрас, они плевались, говорили, что это яд, что это конец всему. Золя, их вожак, говорят, чуть не задохнулся от негодования. Но другие… те, кто чувствовал то же самое, кто тоже задыхался от этой липкой, сладкой пошлости, кто искал выход, пусть даже в безумии или в искусственности, они… они увидели в ней себя. Она стала их знаменем. Их библией. Декаданс, шептали они, вот оно. Вот куда мы идем. Вниз, в красоту распада.
И потом… потом этот англичанин, Уайльд, взял ее, эту книгу, и вложил в руки своего Дориана Грея. И она там, в той истории, стала не просто книгой, а отравой, медленно действующим ядом, что отравляет душу, показывает ей все мерзости и соблазны, заставляя ее гнить изнутри, пока лицо остается молодым и красивым. Вот какое влияние она имела. Как семя разложения, брошенное в плодородную почву.
А сам Гюисманс? Он не остановился. Нет. Он пошел дальше, или глубже, или еще куда-то в эту темноту. Он писал про сатанизм, про черные мессы, гоняя своего нового героя, Дюрталя, по самым грязным подвалам души и мира. И потом… потом он нашел Бога. Или Бог нашел его. Он ушел в монастырь, или почти ушел, стал послушником, и последние его книги – это уже совсем другое, это поиск спасения, это запах ладана после запаха серы и искусственных духов. Как будто, пройдя через всю эту грязь и всю эту вычурную искусственность, он смог увидеть что-то… настоящее. Или просто устал. Устал от всего, даже от собственного декаданса.
Но «Наоборот»… она осталась. Как памятник. Памятник эпохе, памятник человеку, который пытался построить свой рай из мусора и гнили, и который показал всем, что красота может быть смертельно опасной, а искусственность – единственным убежищем от невыносимой реальности. И до сих пор, когда листаешь эти страницы, чувствуешь этот странный, болезненный аромат – смесь старой бумаги, экзотических ликеров и той невыразимой тоски, что жила в сердце последнего из рода дез Эссентов, а может, и в каждом из нас, кто хоть раз чувствовал себя… наоборот. Против шерсти.
Давид с головой Голиафа
…и вот она, висит там, на стене, не просто краска на холсте, нет, но какая-то черная дыра, высасывающая воздух из легких, оставляющая лишь привкус старой пыли и чего-то еще, чего-то вроде запекшейся крови, хотя, конечно, ее там нет, невидимая, но чувствуешь ее, как чувствуешь приближение грозы задолго до первого раската грома. Это «его» работа, Караваджо, тот самый, что сам был беглец, убийца, человек, которого жизнь и смерть пережевали и выплюнули где-то на обочине, и вот он, выплюнул «это» обратно на мир, эту… эту правду, завернутую в ночь.
Свет. Не тот свет, что льется из окна в солнечный день, нет, и не тот, что мягко скользит по бархату или атласу, а свет резкий, жестокий, словно луч фонаря, выхватывающий из непроглядной тьмы лишь то, что нужно, только то, от чего нельзя отвернуться, что бьет прямо в глаза, обжигая сетчатку. И из этой тьмы, этой бездонной, всепоглощающей тьмы, что, кажется, могла бы поглотить и саму стену, и весь зал, и тебя самого, если бы ты позволил, выступает он.
Мальчик. Да, мальчик, еще не мужчина, с гладкой кожей, не тронутой ни ветром, ни горем, но уже… уже надломленный. Его лицо не сияет триумфом, нет, и в глазах нет ни праведного гнева, ни ликования победителя, ничего такого, о чем поют в церквях или пишут в книгах для детей. В его глазах – усталость. Глубокая, древняя усталость, которая, кажется, пришла к нему не с годами, а с этим… с «этим». Он смотрит на то, что держит, не с гордостью, не с отвращением даже, а с какой-то тихой, мучительной печалью, словно это не трофей, а тяжесть, которую он вынужден нести, бремя, которое легло ему на плечи с того самого момента, как камень покинул его пращу, а меч опустился. Руки его напряжены не от усилия, а от невидимого груза, который не измерить ни в фунтах, ни в унциях, но который гнет его к земле сильнее любого металла.
И вот. «Это». То, что он держит за волосы, свисающее, тяжелое, оторванное от жизни и от тела. Голова. Не просто голова великана из сказки, нет, а «голова», с которой только что сняли жизнь, с которой смерть еще не успела стереть последнюю гримасу ужаса и боли. Глаза полуприкрыты, но в них еще брезжит отражение последнего мгновения, последнего вздоха, последнего крика, застрявшего где-то глубоко в пересохшем горле. Рот приоткрыт, словно пытаясь выдохнуть то, что уже невозможно выдохнуть. И рана на лбу, кровавая, темная, точка, с которой все началось и все закончилось.
Но самое страшное, самое пронзительное, самое… самое «караваджевское» в этом – это то, «чье» это лицо. Они говорят, и ты «знаешь», что они правы, что это он сам. Сам художник. Беглец. Убийца. Человек, чья жизнь была искуплением, или попыткой искупления, или просто бесконечным бегством от того, что он сделал. Он изобразил себя не в сиянии славы, не в величии, а в самом низшем, самом униженном виде – обезглавленный, побежденный, брошенный к ногам юности или правосудия, или, может быть, своей собственной потерянной невинности. Это его собственное лицо, искаженное агонией, смотрящее с холста на мир, на себя, на мальчишку, который его держит, с немым упреком или с последней мольбой о прощении.
Это не история о победе добра над злом, нет. Это история о цене. О цене насилия, о цене греха, о цене жизни, отнятой рукой человека, даже если это была рука, движимая, как говорят, божественной волей. Это тяжесть, которая ложится на душу, как отрубленный кусок плоти ложится на руку мальчика. Это не триумф, а… послевкусие. Горькое, металлическое послевкусие крови и утраты, которое остается с тобой долго после того, как ты отвернулся от холста, долго после того, как покинул душный зал, долго после того, как свет погас в твоих собственных глазах. И ты стоишь там, перед этой черной дырой в стене, и чувствуешь, как эта тяжесть, эта древняя, невысказанная печаль, просачивается в тебя, оседая где-то глубоко внутри, рядом с твоими собственными несказанными историями, твоими собственными грехами и твоими собственными потерями, и ты понимаешь, что эта картина – это не просто изображение, это… это свидетельство. Свидетельство о том, что человек делает с человеком, и о том, что остается после. И остается только тьма, и тяжесть, и тихая, невыносимая печаль.
Gnossienne No. 1
Представь себе не просто описание, а… погружение. Вязкое, как южный зной, но здесь, под парижской мансардой, это скорее духота запертого времени, пыль, осевшая на все, даже на звуки.
И вот он сидит, некий человек, чье имя не столь важно, сколь важен груз на его плечах (груз ли? или просто форма, которую приняло время?), сидит в этой комнате, где воздух кажется плотнее воды, а свет, пробивающийся сквозь вековую грязь оконного стекла, не освещает, а лишь высвечивает бесконечные, медленно танцующие в нем пылинки – каждая, возможно, осколок чьей-то забытой секунды, чьего-то невысказанного слова. И из какого-то угла, или из самой сердцевины этой тишины, рождается звук. Не начинается внезапно, нет, он проявляется, словно старая фотография в проявителе, постепенно обретая форму из небытия.
Это Gnossienne. Само слово, придуманное им, этим странным человеком с зонтиком и моноклем, пахнущее пылью библиотек и чем-то древним, критским, или, быть может, просто запахом старой бумаги, на которой оно было написано – Gnossienne, тяжелое, как камень, брошенный в тихую воду прошлого, расходящееся кругами, которые никогда не достигают берегов настоящего. И это «Первая».
Она ползет. Да, именно ползет, Lent et douloureux – Медленно и болезненно, или скорее печально, да, печально, как взгляд, устремленный на пустую улицу под осенним дождем, взгляд, не ожидающий ничего, но и не отвергающий ничего. Это не просто темп, это состояние бытия, состояние этой комнаты, этого человека, этого мира, который она вызывает. Ритм… а есть ли ритм? Или это просто пульс, но пульс не живого существа, а чего-то очень старого, минерального? Длинная нота, за ней короткая, потом снова длинная – та-там, та-ам – словно чьи-то шаги, очень медленные, очень уставшие, идущие по бесконечному коридору, устланному пылью. Шаги, которые не спешат прийти куда-либо, потому что, возможно, идти некуда, или потому что все места, куда можно было прийти, уже исчезли, растворились в этой самой пыли. И нет тактовых черт, нет этих жестких клеток, в которые мы пытаемся запереть время, звук свободен, он просто есть, разворачиваясь, как древний свиток, на котором написана всего одна фраза, повторяющаяся снова и снова, но каждый раз с новым, едва уловимым оттенком печали.
Мелодия… если это можно назвать мелодией. Это скорее узор, нарисованный на тишине. Простой, примитивный, состоящий из нескольких нот, повторяющихся, варьирующихся лишь самую малость, словно память, которая цепляется за один и тот же образ, пытаясь вытянуть из него что-то новое, но находя лишь подтверждение старой, неизменной боли. Гармония… она не развивается, не движется к разрешению, нет. Она замирает. Параллельные аккорды, идущие рука об руку, как два призрака, не способные отделиться друг от друга, создающие ощущение статики, вечной неподвижности, словно время замерло в этом аккорде, зависло в воздухе вместе с пылинками. Это не музыка для движения вперед, это музыка для пребывания. Для погружения в себя, в плотный, душный воздух воспоминаний, в вязкий поток сознания, где прошлое и настоящее сливаются в одно бесконечное сейчас.
И эти указания – не для пальцев на клавишах, нет, они для души. Sur un banc – На скамейке. Сиди. Просто сиди. Не двигайся. Смотри на пыль. Conseillez-vous – Посоветуйся с собой. С какой частью себя? С той, что помнит? С той, что болит? С той, что уже не существует? Pas à pas – Шаг за шагом. Вот так и движется звук, вот так и движется эта мысль, вот так и движется жизнь в этой комнате, в этой музыке – медленно, неохотно, шаг за шагом, словно боясь разбудить что-то, что лучше оставить спящим в пыли.
Сад земных наслаждений
Словно пожелтевший, хрупкий лист, вырванный из старой, пахнущей пылью и чем-то еще, чем-то вроде застоявшейся воды или сгнивших персиков, фамильной хроники, что хранится где-то на чердаке, под стропилами, где воздух густой от времени и невысказанных тайн. Вот как он встал перед нами тогда, этот триптих, не просто картина, нет, но порог, распахнутый в самые глубины того, что мы зовем человеком, а может, просто в самые грязные сточные канавы его души, в те места, куда даже мысль боится заглянуть, те, что спрятаны под наслоениями приличий и пыли веков, но которые, как кровь, все равно просачиваются наружу, окрашивая все вокруг.
Он стоял там, Босх, или, вернее, его творение, тяжелое, на своих петлях, как старый сундук, полный не золота и драгоценностей, а какой-то извращенной, болезненной памяти. Створки закрыты, и вот он – мир, еще не оскверненный, или, может, просто еще не начавший оскверняться, мир в монохроме, в серо-зеленых, туманных тонах, словно увиденный сквозь мутное стекло или через завесу дождя, что идет уже сотню лет и не собирается останавливаться. Земля, молодая, еще не израненная плугом и не пропитанная кровью, заключенная в эту хрупкую, прозрачную сферу, как мыльный пузырь, готовый лопнуть от одного неверного вздоха. И эта надпись, эта латынь, холодная, как камень: «Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Слово. Еще только Слово, прежде чем оно стало плотью, прежде чем плоть стала грехом, прежде чем грех стал наказанием. Это было до. До всего этого невыносимого, липкого, кричащего сейчас. Обещание покоя, обещание чистоты, которое, как мы знаем, как кровь наша знает, было ложью. Всегда было ложью.
А потом… О, потом. Петли скрипнули, старый, усталый стон дерева под тяжестью веков и того, что оно скрывало. И створки распахнулись. И мир взорвался. Не золотом и светом, как должно быть в историях, нет, а каким-то диким, неистовым, болезненным цветом, вихрем форм, который ударил по глазам, по нутру, по самым потаенным, стыдным уголкам сознания.
Слева – Рай. Так его называют. Земной Рай. И да, вот он – Бог, или кто-то, кого они зовут Богом, соединяет руки Адама и Евы. Невинность, да? Должна быть невинность. Но посмотри повнимательней. Посмотри на эту траву, слишком пышную, слишком… живую, извивающуюся у ног. Посмотри на этих тварей. Слон, да, жираф, да, единорог, конечно. Но вот там, внизу, кот – он уже держит мышь. И эта птица, она несет в клюве лягушку. И фонтан. Этот проклятый фонтан. Он не из камня, не из чистого света. Он похож на что-то… органическое. На что-то, что растет, что пульсирует, что дышит смутной, тревожной жизнью, обещая плодородие, да, но и что-то еще, что-то липкое и опасное. Это не невинность. Это предчувствие. Тревога, разлитая в воздухе, как запах грозы или испорченного молока. Рай, в который уже заползла тень, и ты знаешь, ты просто чувствуешь это на своей коже, что долго он не продержится. Что-то уже сломано, или вот-вот сломается.
А центр… О, Господи, центр. Это не сад. Это… это кипящий котел. Это поле битвы, но не битвы с оружием, а битвы с самим собой, с собственной плотью, с собственным желанием. Тысячи их, обнаженных, словно только что вылупились из каких-то гигантских, грязных яиц, и вот они там, кружатся, ползают, ныряют, едят. Едят эту чертову клубнику, размером с человеческую голову, едят вишни, сидят в этих ягодах, словно в лодках или колыбелях. Они ездят верхом на животных – на лошадях, на ослах, на медведях, на каких-то фантастических тварях, которые могли привидеться только в лихорадочном бреду. Они сидят в этих прозрачных пузырях, хрупких, как обещание счастья, или в каких-то странных, похожих на раковины или цветы сооружениях, которые выглядят одновременно манящими и отталкивающими. Эротика? Да, она там, она разлита в воздухе, как сладкий, приторный запах гниющих фруктов. Но это не красота. Это… это просто делание. Бессмысленное, неуемное, нескончаемое делание.
Это не рай, не земля, какой ее создал Господь для жизни. Это… это состояние. Состояние одержимости, погружения в плоть, в чувство, в мгновение, которое никогда не насыщает, а лишь подталкивает к следующему, и следующему, и следующему. Это мир, где нет цели, нет смысла, кроме самого процесса этого дикого, яркого, немного безумного существования. Это может быть мир до Потопа, мир, утонувший в собственной похоти, мир, который просил о гневе Божием, сам того не понимая. Или это просто… мы. Все мы. Затерянные в этом огромном, переполненном саду, который на самом деле является лишь пыльной, душной ареной, где мы повторяем одни и те же движения, гоняясь за теми же призраками удовольствия, которые, как эти гигантские ягоды, оказываются пустыми внутри или слишком быстро гниют. Это не осуждение. Это… констатация. Холодная, отстраненная, но от этого не менее ужасающая констатация того, что мы есть. Того, что мы делаем.
И потом – Ад. О, этот Ад. Не просто огонь и сера, нет. Это… это «фабрика». Фабрика по переработке греха в страдание, но с какой-то дьявольской, извращенной фантазией. Переход резкий, как удар под дых. Из буйства цвета и движения – в мрак, в эти руины, охваченные огнем, в лед, что сковывает и жжет одновременно. И музыка. О, Господи, эта музыка. Инструменты. Любимые нами инструменты, ставшие орудиями пытки. Люди, распятые на струнах лютни, запертые внутри барабанов, вынужденные слушать эту какофонию боли и отчаяния. Это наказание, да, но оно связано с земными наслаждениями, с шумом, с суетой, с той самой музыкой, что сопровождала их дикие танцы в Саду.
И эти твари… Они больше не просто животные. Это демоны, гротескные, ужасающие, воплощение наших собственных страхов и пороков. Птица с котлом на голове, что жрет людей. Человек, пригвожденный ко льду, его внутренности вываливаются – за чревоугодие, конечно. И там, в центре этого кошмара … Древо-человек. Его тело – разбитое яйцо, пустое внутри, поддерживаемое этими тонкими, корявыми ногами-ветвями. Одна нога в лодке, другая… просто стоит там, на льду или на грязи. А внутри этого яйца – таверна. Таверна, где демоны пьют и играют, а люди корчатся в муках. Это символ. Символ человека, который разрушил себя изнутри, который стал своим собственным адом, своей собственной пустой скорлупой, наполненной только страданием и насмешками демонов. Это не просто конец. Это… «урожай». Урожай того, что было посеяно в Саду. Логическое, неизбежное завершение пути, начатого с первого шага в этот мир, где невинность оказалась хрупкой, а наслаждение – лишь дорогой в бездну.
Он стоит там, этот триптих. Тяжелый. Молчаливый, но кричащий одновременно. Он не объясняет. Он просто показывает. Показывает мир, который мы так отчаянно пытаемся понять, но который, может быть, не нуждается в понимании, а лишь в том, чтобы быть увиденным. Увиденным во всей его дикой, прекрасной, ужасающей сложности. Это не просто картина XV века. Это зеркало. Зеркало, в которое мы смотрим, и видим… себя. Свои желания, свои страхи, свои райские сады, которые всегда находятся на грани превращения в ад. И запах. Этот запах пыли, старого дерева и чего-то еще… Чего-то, что пахнет одновременно сладкими ягодами и горящей плотью. Он остается с тобой надолго, долго после того, как ты отошел от него. Он въедается в кожу, в память, в самые глубокие, темные уголки души. Как кровь. Как время. Как грех.
Винсент Ван Гог
Мастерская Юга и ее крах..и вот оно, это место, этот самый Прованс, не просто земля, нет, а идея, вбитая ему в голову, словно гвоздь, пылающая под этим безжалостным солнцем, которое не смягчало, а только выжигало все лишнее, оставляя лишь кости и жар, – идея «Мастерской». Не просто место для работы, а убежище, ковчег, где души, горящие тем же огнем (а его огонь был, Господи, он был как пожар в сухой траве, пожирающий все на своем пути, включая самого себя), могли бы собраться, дышать одним воздухом, обмениваться этим странным, опасным топливом, что они называли искусством. И он, Винсент, с этой своей лихорадочной, неистовой верой, которая была наваждением, ждал его, ждал «его», Гогена, как ждет апостол пришествия, как ждет пустыня дождя, видя в нем не просто художника, нет, а ось, вокруг которой могло бы закрутиться это его Солнце, этот его Юг. Тео, бедный Тео, вечно в тени этого бушующего пламени, пытался помочь, подталкивал – ну, конечно, подталкивал, ведь кто еще мог понять эту одержимость, кто мог попытаться направить этот поток, этот, не знаю, селевой поток эмоций и краски.



