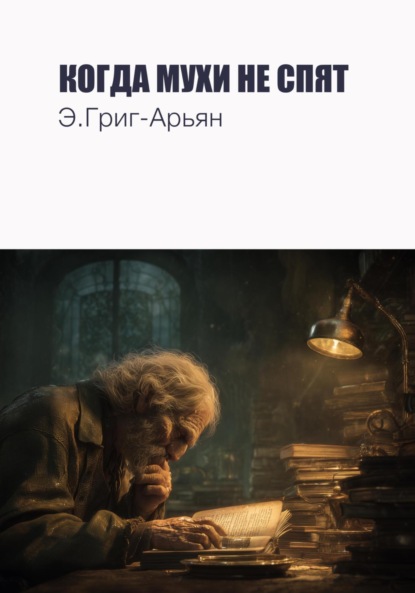
Полная версия:
Когда мухи не спят
Она. Вторая жена. Рут Венгер. Моложе на двадцать лет. Двадцать лет, понимаешь? Целая жизнь, которая для него уже прошла, или которой он, может быть, никогда и не жил по-настоящему, погруженный в свои книги, свои мысли, свои вечные поиски. Она была художницей, яркой, живой, с глазами, которые, наверное, видели мир в совсем других красках, чем его, приглушенные, пыльные оттенки. Она принесла в его жизнь – или он надеялся, что она принесет – этот вихрь молодости, свободы, чувственности, той самой «жизни», которую его герой, Гарри Галлер, так презирал, но которая, как ядовитый цветок, все равно притягивала его, манила своей запретной яркостью.
Они поженились в двадцать четвертом. Звучит так просто, правда? «Поженились». Но это было не строительство общего очага, нет. Это было, скорее, как попытка связать два корабля, идущих разными курсами, тонкой, натянутой нитью. И нить порвалась, как и следовало ожидать. Не сразу. Медленно, мучительно. Сначала она уезжала. Путешествия, встречи, ее собственная жизнь, которая не умещалась в рамках его, Гессе, тихого, устоявшегося мира, мира, где даже кризис был слишком интеллигентным, слишком книжным. А потом… потом ее отсутствие стало постоянным. Не было громкого развода, не было скандалов, только эта нарастающая, оглушительная тишина, которая осталась после ее ухода, после того, как ее вещи, ее запахи, ее смех постепенно исчезли из комнат.
И вот он. Гессе. Один. Приближается к пятидесяти. Годы, когда начинаешь подводить итоги, когда каждая упущенная возможность, каждая ошибка, каждое неправильно сказанное или не сказанное слово всплывает из глубины, как утопленник. Мир снаружи изменился до неузнаваемости после войны – этот грохочущий, пошлый, поверхностный мир джаза, автомобилей, сиюминутных удовольствий. Мир, который Гессе-Галлер презирал всем своим существом, чувствуя себя архаизмом, реликтом другой эпохи, других ценностей. Но внутри… внутри было еще хуже.
Кризис. Психологический ад. Да, он обращался к Юнгу, копался в подсознании. Но что стало детонатором? Что превратило глубокую меланхолию в этот вопль? Ее уход. Оставленность. Чувство, что ты не просто одинок, а неспособен не быть одиноким. Неспособен удержать рядом человека, который был для тебя одновременно спасением и пыткой, зеркалом, в котором ты видел все, чего тебе не хватало, и все, чего ты боялся. Провал этого брака, этого последнего, отчаянного броска к другому человеку, стал подтверждением его, Гессе-Галлера, фундаментальной отчужденности. Он был чужим для мира, чужим для других, и, самое страшное, чужим для самого себя.
Именно тогда, в этой тишине, пропитанной ее отсутствием, в этом доме, который стал памятником несбывшемуся, родился «Степной Волк». Или, вернее, явился ему во всей своей ужасающей ясности. Гарри Галлер – это он сам, доведенный до квинтэссенции своей отчужденности, своей интеллектуальной гордыни, своего презрения к миру и своей мучительной жажды этого мира. Его «Трактат о Степном Волке», эта холодная, псевдонаучная попытка разложить себя на части, понять свою двойственность – Человек и Волк – это же крик о помощи, попытка хоть как-то осмыслить собственную разорванность, собственную неспособность к целостности, к гармонии. Он писал себя, пытаясь понять, кто он, этот зверь, что воет в степи его души, пока мир вокруг танцует под джаз, а женщина, которую он, возможно, любил или отчаянно хотел понять, живет где-то своей, недоступной жизнью.
И вот тогда на страницах книги появляется она. Гермина. Невероятная, андрогинная, мудрая и порочная одновременно. И как же она похожа на его друга детства, Германа! Эта двойственность, эта игра с именами, с полом – это же тоже отражение его собственной путаницы, его поиска себя, его желания увидеть в другом то, что он потерял или никогда не имел. Гермина – это не просто персонаж. Это проводник. Она ведет Галлера туда, куда он боялся ступить – в мир чувственности, танца, спонтанности, в мир, который, возможно, был миром Рут Венгер. Она учит его танцевать фокстрот, этот символ ненавистной ему эпохи, учит его не только думать, но и чувствовать, жить моментом, не анализируя его до смерти. Это мучительное обучение, потому что каждый шаг в этом новом мире – это шаг прочь от старого, привычного, хоть и болезненного, «я».
И, конечно, Магический Театр. «Вход – цена рассудка». О, этот лабиринт, этот зеркальный зал, где нет стен, нет пола, нет потолка, а есть лишь бесчисленные двери, ведущие в бесчисленные версии самого себя, в бесчисленные кошмары и фантазии. Это кульминация его погружения в себя, в свое подсознание, в тот хаос, который Юнг помогал ему распутывать. В Магическом Театре Галлер сталкивается со всеми своими «я» – смешными, жалкими, возвышенными, низменными. Он видит себя в сотнях зеркал, и каждое зеркало искажает, но и показывает что-то истинное. Он видит призраков своих страхов, своих желаний, своих потерь. И, несомненно, он видит ее призрак – Рут, или Гермины, или той части жизни, которая ускользнула. Пабло, саксофонист, воплощение гедонизма и момента, и Мария, чувственная и земная – они тоже обитатели этого театра, аспекты того мира, который он так долго отрицал, но который теперь должен был принять, или хотя бы попытаться понять.
Написание «Степного Волка» было для Гессе не просто творческим актом. Это была операция на открытом сердце, попытка собрать shattered pieces, осколки своей души, разбросанные по комнате после того, как дверь за ней закрылась. Это было изгнание демонов, материализация боли на бумаге, чтобы ее можно было увидеть, назвать по имени и, возможно, хоть немного ослабить ее хватку. Каждая фраза, каждый образ, каждый мучительный диалог Галлера с самим собой или с обитателями Магического Театра – это эхо тех дней, той тишины, того одиночества в доме, который должен был стать их общим, но стал лишь его кельей и его ареной.
Так что да, это книга. Стоит на полке. Можно прочитать. Но загляни глубже. Почувствуй эту боль, эту отчужденность, эту отчаянную попытку понять, как жить, когда чувствуешь себя степным волком – неспособным жить ни со стаей, ни в одиночку. Это вой, который доносится из глубины души человека, оставленного в тишине, человека, который превратил свою личную трагедию в универсальную историю о поиске себя в хаотичном мире. История, рожденная из боли разрыва, из эха шагов, удаляющихся по пустой лестнице в доме в Монтаньоле. И этот вой звучит до сих пор.
Игра в Бисер«Игра в Бисер»… да, Гессе, этот старый, вечно ищущий человек, который нес на своих плечах всю тяжесть европейской души, или, по крайней мере, той ее части, что еще помнила о садах Духа, о музыке сфер, о том, что было до грохота и пыли. Его последнее слово, понимаете, выдох, стон, или, может быть, молитва, выстроенная из слов, как та самая Игра из бусин. Не просто книга, нет, это… это крепость, возведенная на бумаге против надвигающегося потопа вульгарности, шума, забвения. Попытка собрать воедино то, что уже рассыпалось в прах под гусеницами истории.
И место действия, да, Касталия. Не просто провинция на карте, нет. Это идея, воплощенная в камне и тишине, убежище для тех, кто еще верил, что есть нечто выше суеты, выше политики, выше денег, выше даже боли – Чистое Знание, Чистое Искусство, Чистая Мысль. Уединенный мир, отгороженный от «Внешнего», этого бурлящего, немыслимого в своей хаотичности, бессмысленного мира, где люди жили, страдали, рожали, умирали, не ведая, или забыв, или просто не имея времени, о том, что где-то там, в стенах этой Вальдзелльской обители, сохраняется, оберегается, лелеется все, что было когда-либо прекрасного, мудрого, вечного. Время? Будущее, да, но какое-то странное будущее, не футуристическое, нет, а скорее… отстоявшееся. Будущее, которое, кажется, уже пережило апокалипсис и теперь пытается собрать осколки. Неопределенное, как пыль на старых фолиантах, как тишина в монастырских коридорах.
И вот она – Игра. Не забава, упаси вас Боже, не досуг. Это суть. Это язык. Это ритуал. Высшая форма бытия в Касталии. Представьте: не просто бусины, нет. Стеклянные, холодные, гладкие, они – символы. Символы всего: музыкальной фразы Баха, математической формулы, философского понятия, исторической даты, астрономического явления. И Мастера, эти жрецы Духа, они играют. Они создают. Не истории, нет. Они создают связи. Находят аналогии. Строят мосты между, несовместимым. Синтезируют. Гармонизируют. Это попытка увидеть единство всего сущего через его бесчисленные, разрозненные проявления. Это медитация на высшем уровне интеллекта, созерцание Абсолюта через призму человеческого знания. Это… это дыхание Касталии, ее сердцебиение, тихое, размеренное, сосредоточенное. Цель? Не победа над соперником. Цель – постижение. Постижение Гармонии, Порядка, Смысла.
И в центре всего этого – человек. Йозеф Кнехт. Его имя, да, «Слуга», «Рыцарь»… Символично, не правда ли? Его жизнь. Роман – это его биография, написанная кем-то потом, кто пытался понять его путь, его выбор. От мальчика, пришедшего из Внешнего мира (хотя и с редкой предрасположенностью к этому миру Касталии), через годы строгого, аскетичного обучения, погружения в глубины знания, в лабиринты Игры… Его восхождение. Шаг за шагом, ступень за ступенью, от послушника до ученика, от ученика до Мастера. Магистра Игры. Magister Ludi. Высшая точка. Вершина. Человек, который воплотил в себе этот мир, эту Игру.
Но… ах, всегда есть «но», не так ли? Особенно у Гессе. На вершине, где должна быть абсолютная ясность, абсолютный покой, начинает зреть сомнение. Как червь в идеальном плоде. Сомнение в ценности этой идеальной, стерильной, замкнутой жизни. В ее оторванности. В ее бесплодности для того самого Внешнего мира, который продолжает страдать, бороться, жить по-настоящему. Осознание, мучительное, медленное, как прорастание семени, что чистое созерцание, каким бы совершенным оно ни было, может быть недостаточно. Что знание, не воплощенное в действие, не отданное миру, рискует стать мертвым грузом, прекрасным, но бесполезным артефактом в музее.
И тогда… тогда происходит этот разрыв. Этот уход. Не бегство, нет. Решение. Решение покинуть совершенство ради… ради чего? Ради жизни. Ради служения. Ради попытки соединить то, что было разорвано. Отказаться от власти, от признания, от безопасности ради неопределенности, ради риска, ради реальности. Он уходит. Возвращается во Внешний мир, чтобы стать… учителем. Простым учителем для детей, тех, кто еще не испорчен, кто еще может услышать. И вот тут… тут самая пронзительная, самая горькая часть. Его конец. Быстрый. Нелепый. Как будто сам мир, этот непредсказуемый, грубый Внешний мир, не выдержал прикосновения такой чистоты, такого идеала. Оборвал нить.
И эти «Три Жизни», да, что идут после основной биографии, как эпилог, но написанные им до конца. Три притчи. Три возможных пути. Как будто он знал, или чувствовал варианты своей судьбы, своих исканий. Аллегории, как будто он сам, еще будучи учеником, уже играл в эту великую Игру своей собственной жизни, перебирая возможные ходы, возможные исходы.
Темы? О, их много, и они тяжелы, как старые камни. Вечный спор между жизнью Духа и жизнью Дела. Бремя культуры – как ее сохранить, как передать, чтобы она не стала мертвым грузом или игрушкой для избранных? Ответственность тех, кто знает, кто видит дальше других. Должны ли они уединяться или идти в мир? Порядок против Хаоса – Касталия как воплощение первого, Внешний мир как воплощение второго, и человек, Кнехт, как мост, или как жертва, брошенная между ними. И, конечно, поиск – вечный, мучительный поиск себя, своего места, своего служения в этом мире, который, кажется, все больше теряет ориентиры.
Это книга, написанная в тени великой войны, когда мир окончательно сошел с ума. Попытка Гессе найти убежище, да, но не просто для себя, а для идеи человека, для идеи культуры. Но не наивная попытка. Он видел трещины в стенах своей Касталии, видел ее холодность, ее опасность стать самоцелью, забывшей о жизни, которая ее породила.
«Игра в Бисер»… это не развлечение. Это вызов. Вызов читателю. Вызов миру. Тихий, упорный, отчаянный шепот о том, что есть вещи, за которые стоит бороться. Что даже в хаосе можно искать порядок. Что знание – это не только сила, но и ответственность. И что путь человека, даже самого просветленного, остается путем, полным сомнений, потерь и, возможно, трагической незавершенности. Тяжелая книга, да. Но та, которая… которая остается с тобой. Как те самые стеклянные бусины, холодные и полные неведомого смысла.
Хемингуэй
Эрнест, Скотт и Снега КилиманджароПамять пришла, как всегда, без стука, без разрешения, ворвалась в комнату вместе с запахом, запахом не только гниющего мяса под палящим африканским солнцем – нет, это было слишком просто, слишком «буквально». Запах был сложнее, тоньше, но пронзительнее: запах дорогого парфюма, смешанного с алкогольным перегаром и пылью парижских бульваров, запах Ривьеры в разгар сезона, когда солнце не ласкает, а бьет по телу, высушивая не только кожу, но и душу. Запах денег, больших, легких, липких денег, которые оседали на всем, превращая золото в прах, талант – в компромисс, жизнь – в бесконечный, сверкающий банкет, на котором подавали только смерть.
Он сидел там, в этой хижине, с чертовой гангреной, ползущей вверх по ноге, ползущей так же неумолимо, как время ползло к концу, и писал. Писал в лихорадке, не только от заразы, но и от ярости, от осознания того, как много было потеряно, как много «позволено» себе потерять. Слова выходили не просто жесткими, они были как осколки разбитого стекла, как щепки кости, выдираемые из живого тела. Каждое слово было обвинением, брошенным в лицо миру, себе самому, «им». Тем, кто сидел в мягких креслах, кто смеялся дорогим, хрустальным смехом, который разбивался вдребезги при малейшем прикосновении к реальности. Кто пил шампанское, пока талант, подобно мясу под солнцем, покрывался коркой, чернел и начинал разлагаться.
И он вспомнил Скотта. Конечно, вспомнил Скотта. Как можно было не вспомнить? Скотт, золотой мальчик, который сиял ярче всех, чьи первые слова сверкали, как роса на паутине, как бриллианты в свете рампы. Скотт, который пришел в Париж с обещанием великой литературы, с изяществом, которое он сам, Эрнест, никогда не умел, да и не хотел иметь. Но Скотт пришел не один. Он пришел с ней. С Зельдой.
Зельда. Боже. Она была красива до боли, до сумасшествия. Хрупкая, нервная, сияющая, как бензиновое пятно на воде – переливалась всеми цветами, но была тонкой, легко разрывающейся. Она была частью этого мира, мира очень богатых, даже больше, чем Скотт сам. Она была его воплощением, его музой и его проклятием. Ее смех был частью того хрустального звона, ее легкость – частью той свинцовой тяжести, которая тянула Скотта вниз. Она танцевала, она тратила деньги, она была прекрасна и разрушительна, как ураган в шелках. И Скотт… Скотт любил ее так, как любят безумие, как любят огонь, который тебя сжигает. Он пытался писать о них, о мире, в котором вращалась Зельда, потому что он «был» там, потому что он «хотел» быть там, потому что «она» была там. И постепенно, незаметно, этот мир въелся в него, как морская соль в дерево, как ржавчина в металл. Его слова стали тоньше, его темы – мельче, его гений… его гений начал гнить.
И он, Эрнест, видел это. Видел, как Скотт, его друг, его товарищ по перу (хотя Эрнест всегда презирал эту легкость, эту сверкающую поверхностность, которая была у Скотта даже в лучшие моменты), продает себя по частям. Не за деньги напрямую – нет, это было бы слишком просто, слишком честно. Он продавал себя за право принадлежать, за право сидеть за «их» столами, дышать «их» воздухом, быть «их» частью. За право любить Зельду в «ее» мире. И Эрнест написал об этом. Не называя имен напрямую сначала, но потом… потом что-то прорвалось. Ярость? Боль? Презрение? Все вместе. И он поставил имя. Поставил его в уста умирающего человека, в самое сердце обвинения, которое было не только обвинением Скотту, но и обвинением себе самому – за то, что видел и молчал, или за то, что сам едва не поддался этому миру, или просто за то, что жизнь оказалась такой грязной и несправедливой. «Он видел, как Скотт Фицджеральд писал о очень богатых, потому что он был частью их мира,» – да, так, или почти так, это звучало. Как приговор. Приговор другу.
И письмо пришло. Или телеграмма. Из Америки. Тонкий конверт, бумага прозрачная, как кожа Зельды. И слова. Слова Скотта. Слова, которые не были написаны чернилами, а выцарапаны ногтями по сердцу. Слова, полные боли, недоумения, ужаса. – Как ты мог, Эрнест? – кричало оно. – Поставить мое имя туда? В эту историю? В уста человека, который умирает и обвиняет меня в том, что я продал свой талант? Ты же знаешь… ты же знаешь, как я боролся. Как все было на самом деле. Как больно было. Как больно сейчас читать это. Это неправда, Эрнест. Или правда, но не та правда, которую можно так бросить. Это больно. Больно так, как ты, возможно, никогда не поймешь, потому что ты не был там, внутри этого вихря, с ней… с Зельдой… Убери его. Пожалуйста. Убери мое имя.
И он прочитал это. В хижине, под палящим солнцем, с запахом смерти в ноздрях. Прочитал слова Скотта, слова, которые были не литературной критикой, не спором о стиле, а криком раненого зверя. И что-то… что-то шевельнулось внутри. Не жалость – Эрнест презирал жалость, особенно к себе или к тем, кто сам выбрал свой путь в ад. Не раскаяние – он верил в правду, какой бы жестокой она ни была. Но что-то другое. Что-то, что имело отношение к тем дням в Париже, до того, как деньги и слава и женщины и безумие Зельды стали стеной между ними. Что-то, что признавало боль другого человека, даже если эта боль казалась ему, Эрнесту, заслуженной или, по крайней мере, неизбежной расплатой. Или просто усталость. Или понимание, что некоторые раны не нуждаются в соли, даже если соль – это правда.
И он сделал это. Взял ручку. И зачеркнул. Небрежно? Нет. С усилием. Как будто вырывал зуб, как будто ампутировал часть себя, часть той ярости, той правды, которая казалась ему необходимой. Зачеркнул имя Скотта. Оставил пустое место. Многоточие. Тишину. Убрал его из текста, из обвинения, из умирающих мыслей героя. Почему? Он сам не мог объяснить. Момент слабости, пойманный в ловушку чужой боли? Признание того, что даже самая жесткая правда может быть искажена, если произнесена неправильно, не тем тоном? Или просто… дань прошлому? Да, возможно, просто дань тем дням, когда Скотт был просто Скоттом, а не символом продажности, и Зельда была просто Зельдой, а не воплощением разрушительной легкости.
Имя исчезло. Исчезло со страницы. Но не из памяти, нет. Никогда из памяти. Память о Скотте, о его письме, о его боли, о Зельде, о ее смехе и ее безумии, о своем собственном странном, необъяснимом поступке – все это осталось. Осталось, как запах гниения, как боль в ноге, как вечная, незаживающая рана, оставленная словами, которые были сказаны, и словами, которые пришлось убрать, оставив после себя лишь призрак былой дружбы и былой жестокости под вечными, равнодушными снегами Килиманджаро. Снегами, которые обещали чистоту и вечность, но видели только смерть, медленную и грязную, смерть от компромисса, смерть от жизни, прожитой не так, как следовало бы. Имя исчезло, но шрам остался. На странице. В душе. Навсегда.
Два языка, одна безднаФолкнер и Хемингуэй. Вот они. Видите ли. Или нет, не видите, конечно. Их не видно, как не видно ветра, что гнет верхушки сосен, пока не увидишь, как они качаются, не услышишь их долгий, тоскливый вздох. Но они есть, как старые, давно срубленные деревья, чьи корни, глубоко впившиеся в почву, все еще держат ее, не дают осыпаться в пропасть забвения, чьи тени, длинные и синие, все еще ложатся на землю, даже если солнце встало совсем над другим местом, над другими холмами, другими городами. Две фигуры, две силы, не то чтобы враги, нет, враги – это слишком просто, слишком… чисто, как будто вытереть доску влажной тряпкой и начать писать снова, а это никогда не бывает сначала, никогда, все уже написано где-то там, в воздухе, в пыли дорог, в крови, что пролилась давным-давно. Скорее два полюса, две стороны одной монеты, отчеканенной из одного металла, но с разным рисунком, брошенной высоко-высоко, в самое зенитное солнце, и вот она падает, падает, и никто, ни единая душа не знает, как она ляжет, только что это будет или орел, или решка, и никакой середины, никакого спасительного ребра, никакой возможности просто остаться в воздухе, в невесомости неведения. Фолкнер и Хемингуэй. Или Хемингуэй и Фолкнер. Порядок не важен, правда. Важно, что они были. Одновременно. Под одним небом, пусть и видели его по-разному – один видел его сквозь густую листву дубов, другой – над бескрайней гладью океана или выжженной солнцем равниной.
Мой собственный язык, если можно так назвать эту странную, неуклюжую, но живую вещь, что выросла из моей глотки и моих костей, из запаха мокрой земли после грозы в августе, когда пар поднимается от нагретого асфальта, из шепота старых, старых голосов, голосов рабов и хозяев, живых и мертвых, святых и грешников, всех вместе, сплетенных в единый, неразрывный хор, – он, видите ли, как этот самый юг, из которого я вышел и который никогда меня не отпустит. Густой, да. Вязкий, как патока, что медленно стекает по краю бочки, иногда. Предложения, которые начинаются где-то там, за горизонтом, где небо встречается с землей в мареве полуденного зноя, и ползут, ползут через страницу, как та самая патока, собирая по пути все, что попадается – обрывки памяти, что всплывают из глубин, как мусор из разлившейся реки, чьи-то невысказанные мысли, что висят в воздухе, тяжелые и пыльные, тени того, что могло бы быть, если бы только… и того, что было, что оставило шрамы на земле и в душах, и того, что будет, неизбежное и пугающее, – все это вплетается, переплетается, как корни старого дуба, что поднимают асфальт на дороге, как виноградная лоза, что захватывает все на своем пути, не спрашивая разрешения, не заботясь о том, что ее неумолимая тяжесть сломает ветку, просто растет, потому что не может не расти, потому что в ней сок земли, сок крови, сок времени, что не течет, как чистый ручей, а стоит, как мутная вода в колодце, и ты смотришь туда, и видишь свое собственное лицо, искаженное и слоистое, и лица тех, кто был до тебя, и тех, кто придет потом, и все они – одно, все они – здесь, в этой одной бесконечной, извивающейся, как старая змея, фразе, которая никогда по-настоящему не кончается, даже когда точка поставлена, потому что эхо ее все еще звучит, еще дрожит в воздухе, как тепло над асфальтом в полдень, как последний, невысказанный вздох. Это язык, который не боится заблудиться, нет, который хочет заблудиться, который не боится увести вас в самую чащу, в самое сердце болота, зная, что только там, среди терновника и забвения, среди комаров и запаха гниющей листвы, можно найти то, что искал, или, по крайней мере, понять, что искал вовсе не то, что думал, что искал совсем другое, что-то, что не имеет названия, но имеет вес. Это язык, который требует от вас усилий, который заставляет вас спотыкаться, продираться, чувствовать его тяжесть, потому что такова и есть сама жизнь здесь, на юге – тяжелая, запутанная, полная невысказанного и непрожитого.
А его… Хемингуэя… нет. Его язык – это нож. Чистый. Острый. Без зазубрин, без лишнего веса, без украшений, без пыли веков. Каждое слово – удар. Точный. Смертельный, если нужно, или просто констатирующий факт жизни или смерти. Предложения – короткие, как выстрелы в тире, как удары сердца в минуту опасности, когда все лишнее отсекается, когда остается только главное – дышать, бежать, стрелять, чувствовать. Ничего лишнего. Никаких теней прошлого, никаких шепотов из-за угла, никаких невысказанных обид, переходящих из поколения в поколение. Только факт. Вот человек. Вот он идет. Вот он смотрит. Вот он чувствует боль. Прямо. Необработанно. Как будто он берет реальность – войну, быка, рыбу, женщину – и сдирает с нее кожу, оставляя только напряженные мышцы и отполированные до блеска кости. Его мир – это мир действия, мир там, снаружи, где солнце бьет прямо в глаза, где смерть – это просто… смерть, мгновенный обрыв, а не долгая, изнуряющая история поколений, не родовое проклятие, тянущееся из тьмы веков. Мир, где можно найти честь и смысл не в понимании почему все произошло именно так, а не иначе, копаясь в прахе предков, а в том, как ты держишь себя перед лицом неизбежного, перед лицом боли, перед лицом конца. Он не хотел, чтобы вы шли к словарю, нет, он, наверное, презирал саму мысль об этом, как презирают слабость. Он хотел, чтобы вы чувствовали. Сразу. Без посредников. Как удар в живот, после которого перехватывает дыхание, но ты все еще стоишь на ногах.
И они говорили друг о друге, конечно. Как же не говорить? Два петуха на одном насесте, пусть и видели этот насест совсем по-разному, пусть один видел его как часть старой, гниющей фермы, а другой – как чистую, минималистичную конструкцию, пригодную только для того, чтобы сидеть и смотреть на мир. Мои слова, неуклюжие, наверное, как этот мой юг, говорили, что он никогда не использовал… ну, то, что отправляет к словарю. Может, это и была шпилька, тонкая, запрятанная в ворохе других слов. Может, просто констатация факта, такого же очевидного для меня, как то, что деревья растут вверх. Факта того, что он выбрал другой путь. Легкий? Нет. Простой? На поверхности, да, как гладкая сталь ножа. Но разве просто вынуть из камня скульптуру, оставив только ее абсолютную, голую суть? А его ответ… острый, как лезвие, как всегда, без лишних слов, без обиняков. Насмешка над моей… моей манерой виться, уходить в сторону, над тем, что он, наверное, считал многословием, ненужным шумом, за которым теряется главное. Он хотел тишины, чтобы услышать главный, единственный звук. Я хотел шума, всего шума мира, чтобы понять, откуда этот шум взялся, из каких глубин он поднялся, какие голоса в нем смешались.



