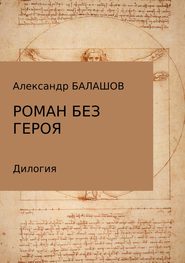 Полная версия
Полная версияРоман без героя
– Ну вот, – развёл руками сын. – Теперь пешедралом…
– Движение – это жизнь. Тут я с тобой не спорю, – сказал профессор.
Со скрипом открылась дверь первой квартиры, в которой жила дворничиха баба Дуся со своим сожителем. К образовавшейся смотровой щели приникла голова пожилой женщины в очках, к которым вместо дужек была привязана старая пожелтевшая резинка.
– А я думала, что опять пьяная компания тут базарит, – в щель высунула свой нос любопытная бабуля. – А это вы, пан профессор… Здрастьте. Нынче страшно по вечерам и на улице, и в подъезде. Моё место консьержа эта чёртова управляющая компания, – в этом месте своего монолога баба Дуся всхлипнула, – незаконно сократила, паразиты проклятые!.. Говорят, в целях экономии средств. А сами, понимаете ли, свои карманы набивают и набивают долларами и евриками этими… Вот рубль и дешевеет, дешевеет, а гречка всё дорожает и дорожает…
– Здравствуйте, – кивнул дворничихе Владимир, уже поднимаясь по лестнице.
Профессор ничего не сказал «незаконно сокращённому» консьержу, переквалифицированному в дворники. Он на дух не переносил дворовых сплетниц, уже давным-давно полностью «исчерпавших» не только себя, но и богатырский запас его, профессорского, терпения.
***
Они поднимались на пятый этаж довольно энергичным шагом. И Волохов-старший ничуть не уступал в темпе Волохову-младшему. Разве только дышал чуть тяжелее, но для своего («почти почтенного возраста», как определял его сам профессор) такая великолепная физическая форма старика могла восхитить любого геронтолога.
– Ты не обижайся, пап, – на третьем этаже сказал Игорю Васильевичу Владимир, – я не случайно удивился твоему, скажем так, нелестному определению бессмертию… Ведь, насколько мне известно, ты после смерти мамы бросился искать эликсир бессмертия. И, как понимаю, не нашёл его… Иначе бы ты уже давно осчастливил человечество.
Старик ответил не сразу. Он подошёл к широкому окну на лестничной площадке, которые сегодня ещё можно увидеть в многоэтажных домах старой постройки. Глядя на жёлтый пятачок дрожащего света под единственным горящем фонарём во дворе дома, задумчиво сказал:
– Я тогда пошёл не тем путём. В научном познании мира далеко не все давно проторённые предшественниками дорожки ведут к истине, сынок… Мама умерла, когда тебе было три года. Мы тогда оба увлекались альпинизмом, ездили с друзьями, такими же молодыми учёными, на Кавказ. В то наше последнее восхождение на Эльбрус Нина оступилась, сорвалась в пропасть, увлекая за собой страховочным тросом и меня… Я оклемался, мама – ушла… А у меня на руках двое детей – Иринка и ты, совсем ещё карапуз. Вот тогда и попутал меня бес заняться проблемой бессмертия… Хотя нет, не бессмертия, конечно, а вопросами долголетия человека. Стал собирать материалы из открытой печати, слухи, байки, мифы… Короче, всё, что было связано с личностями, который якобы прожили не сто, а двести, триста и более лет. У меня до сих пор в архиве хранится вырезка из французской газеты, в которой сообщалось, что легендарного Сен-Жермена видели в Париже, в декабре 1949 года. Это казалось невероятным. Журналист, писавший об этом, поднял подшивки парижских газет за 1750 год, которые муссировали слухи о графе Сен-Жермене, об этой странной личности. Газетчики тех лет утверждали, что графу известен путь, ведущий к бессмертию.
Владимир невольно улыбнулся, пытаясь скрыть иронию в голосе:
– И спустя 200 лет парижане, конечно же, узнали долгожителя…
Профессор уловил ироническую интонацию сына, но на этот раз совершенно не обиделся.
– Ты прав, Володя, к этому времени в Париже уже не осталось людей, лично знакомых с графом. Но я был молод, достаточно глуп и верил в эликсир бессмертия, который нашёл и счастливо принимал этот французский граф. Я верил, что Сен-Жермен нашёл путь, ведущий в бессмертие. Это ведь была не мифическая фигура, а реально существовавшая личность. Хорошо известно, что Сен-Жермен родился в 1710 году. Он объявлялся внезапно, как мой Серый кардинал… И не имел ни прошлого, ни даже какой-нибудь мало-мальски правдоподобной истории, которая могла бы сойти за прошлое. Одни считали графа испанцем, другие – французом, третьи – русским… Именно эта статья в газете, которую привёз из Парижа мой французский коллега, и сбила меня с панталыку. Стрелка автоматически перевела мой тогда шустрый локомотивчик на другой путь, который привёл меня в тупик…
– Почему же в тупик? – не понял Владимир. – Современная наука вовсю ищет сегодня пути, ведущие в бессмертие… Или лучше сказать, приводящие к значительному продлению жизни…
Старик энергично замотал головой.
– Нет и тысячу раз нет! Это тупиковый путь.
– Почему же, отец?
Волохов снял шляпу, достал из брючного кармана большой клетчатый платок и вытер испарину на крутом лбу.
– Я же говорил о снобизме и невежестве «светлых умов»… Они думают, что в Ведах, Упанишадах, в Библии – сплошные сказки, мифы да легенды… Они ослеплены своей гордыней, упиваются почётными званиями и премиями, которых недостойны. А были бы поумней, вспомнили бы историю с Агасфером…
Володя, которому уже изрядно надоела эта научная дискуссия, спросил, пряча зевоту в кулак:
– Это кто ещё такой? Очередной Сен-Жермен?
– Ты не знаешь этой правдивой истории? – удивился Волохов-старший.
– Не знаю.
– Это история о том, как бессмертие стало для человека проклятием. Весьма поучительная история, которая вернула меня на путь научной, а значит – Божественной истины.
Владимир уже взял отца под руку, чтобы продолжить восхождение по старым гранитным лестничным маршам к квартире под номером шестнадцать, где прошло его детство, юность и где сегодня в одиночестве бесславно доживал свой долгий век доктор технических наук, экс-профессор, лауреат многих престижных премий Игорь Васильевич Волохов.
– Ладно, пап, поздно уже… Потом как-нибудь расскажешь про Агасфера.
***
Эту историю Игорь Васильевич услышал от одного из своих «подопечных», как он называл добровольцев, с которыми он проводил сеансы регрессивного гипноза в созданном ещё в доперестроечные годы в их институте, входившем в систему Минобороны СССР, секретном «отделе Х». Тогда Волохов, искавший пути к бессмертию человека, впервые заинтересовался реинкарнацией, что в переводе с латинского означает «повторное воплощение». В Ленинке он перелопатил гору религиозно-философской литературы, которая бы помогла ему понять эту доктрину: как бессмертная сущность живого существа перевоплощается снова и снова из одного тела в другое. Сущность эту древние индусы определяли как дух или душа, или Божественная искра, или высшее, истинное Я.
Профессор уяснил, что доктрина реинкарнации является центральным положением в большинстве индийских религий. Таких, как индуизм, включая такие его направления, как йога, вайшнавизм, шиваизм, джайнизм, сикхизм. Перечитал некоторые труды Сократа, Пифагора и Платона, которые принимали идею переселения душ, но никак не объясняли её с точки зрения достижений науки того времени.
Волохов понимал, что нужно ехать в Индию, изучать санскрит и в оригинале, с карандашом в руках, тщательно штудировать Главный научный труд древних индусов – Веды. Сердцем, чутьём талантливого исследователя молодой учёный уже тогда чувствовал перспективность этого направления. Но советская наука тех лет с её атеистической концепции происхождения жизни на планете Земля никак не могла позволить Волохову заниматься «чёрт-те чем». Даже близкие друзья-коллеги, с которыми он облазил все доступные любителям-альпинистам горы Кавказа, отмахивались от его, как они считали, «бредовых идей». Всех устраивал вульгарный дарвинизм, который ставил больше вопросов, чем давал ответов.
Исследовательское учреждение, «шарашкина контора», как презрительно называл её Игорь, тоже нисколько не было заинтересовано в разработке, как считало руководство НИИ, совершенно бесперспективной для военного ведомства проблемы «чисто религиозного характера». Но на всю катушку использовало уникальные способности Волохова в области гипноза. Шарашкина контора тоже искала рецепт «эликсира молодости». Он её был нужен для создания универсальной таблетки выносливости. Такой волшебной пилюли, которая бы в сто крат увеличивала выносливость советского солдата, делала бы его, если не вечно молодым, то значительно бы увеличивала продолжительность жизни бойца при самом активном образе службы, высоких нагрузках в обстановке, близкой к боевой.
В те времена гонки вооружений их секретный отдел заинтересовался йогой. В кинотеатрах массовому зрителю показывали удивительный документальный фильм «Индийские йоги. Кто они?», и учёных в погонах интересовало, как это худые индусы могут запросто лежать на битом стекле, а в это время на их тщедушную грудь возлагали увесистую платформу, на которой прыгали и скакали трое или даже четверо человек. Никто из закрытого «ящика», конечно, не верил, что здесь всё дело в духе, в Атмане, в познании высшего, истинного своего Я, в умении управлять собой. Какой такой «секрет» может прятаться за впалой грудиной этих обожжённых солнцем, недокормленных йогов? Решили, что всё дело в «чудо-пилюле», «эликсире вечной молодости» человеческого организма.
И тут личная научная тема, которой Волохов занимался в неурочное время и, можно сказать, подпольно, одним боком всё-таки соприкасалась с интересами «шарашкиной конторы».
Порой весьма высокие военные чины присутствовали на его сеансах регрессивного гипноза. Происходило это примерно так…
– Так, сейчас вы находитесь в десятом веке, – вводил в гипнотическое состояние Игорь своих подопечных в большой комнате, похожей на спортзал обычной средней школы. Группа входила в транс, а через какое-то время Волохов спрашивал:
– Ну, что вы помните? Вспоминайте!
И всегда находился кто-то, ничего не помнящий из своего внутреннего путешествия в своё подсознание.
– Ага! – радостно восклицали проверяющие. – А почему же вот этот товарищ ничегошеньки рассказать не может?
Волохов не пасовал перед «конченными материалистами», как он про себя прозвал таких военпредов с кожаными папками в руках, и спокойно отвечал:
– Просто, товарищ полковник, этот товарищ тогда ещё не жил. Потому и рассказать нам ему нечего. Ячейка памяти того периода его подсознания – пуста. А с пустоты – какой спрос?
Но бывали изумительные по своей интриги исторические рассказы. Многие из них Волохов записывал на портативный магнитофон, потом расшифровывал записи и искал, искал пути к бессмертию человека, которые начинались с формул составов древних мудрецов, алхимиков и даже чародеев.
Так в одной из общих тетрадей молодого научного работника Волохова появилась удивительная история об Агасфере и его удивительном путешествии через века, в Россию.
4.
Агасфер любил свой дом. Начинал его строить в Иудее ещё его дед, потом достраивал его отец, а теперь обустраивал его он, неприметный человек по имени Агасфер, врач средней руки. Врачебное искусство он освоил в Галилеи, где уже тогда начал пользовать своих первых пациентов. Хотя, по законам Иудеи, не имел такого права до полного окончания курса. И когда после смерти родителей сын вернулся в опустевший отчий дом, только соседи и несколько человек, которых он лечил от поноса, знали такого врача из Галилеи по имени Агасфер.
Но отец, как добропорядочный иудей, кое-что всё-таки оставил-таки сыну на жизнь. Ровно столько, чтобы Агасфер не считал себя богатым, но и не был бедным. Типичный средний класс, костяк любого государства, отличающийся от непредсказуемой бедноты исключительным законопослушанием, а от богатых иудеев, уже составивших себе и состояние, и имя, неуёмной жаждой наживы. Если говорить о главной черте его характера, то именно алчность стала родной матерью многих пороков и всех достоинств этого типичного в своём роде еврея Агасфера.
Агасфер очень любил свой большой дом, в котором в зимние холода он согревался у очага, обложенного чёрным мрамором, а знойными летними днями спасался здесь от изнурительной жары. У него никогда не было друзей. Не то что не переносил шумных компаний, просто ещё при жизни отца, принимая заветы родителей, привык экономить и ещё раз экономить… А любые друзья, даже фальшивые, ненастоящие то есть, требуют и моральных, и материальных затрат. Тратиться на друзей Агасферу было не с руки, так как он мечтал за год обрести широкий круг богатой клиентуры, скопить достаточно денег и взять за себя дочь богатого ростовщика Семеона, жившего в Иерусалиме по соседству с Агасфером. Семеон был хорошо известен в узких кругах первосвященников и еврейских начальников. Поговаривали, что богатый ростовщик, суживающий деньги своим соплеменникам, был даже вхож в дом главного судьи, претора. Ростовщик первым узнал, что перед самой еврейской Пасхой в дом претора, в котором остановился приехавший в Иерусалим на главный праздник иудеев из Рима Понтий Пилат, по приказу первосвященников и начальников привели ужасного преступника, которого первосвященники требовали предать смертной казни. Этой сногсшибательной новостью, которая буквально распирала жирного Семеона, ростовщик поделился с соседом. Истекая потом от палящего солнца, он, брызгая слюной, повторял только одно:
– Какое ужасное преступление! Какое ужасное преступление!
– Он что, Сима, – сказал Агасфер, – отправил к праотцам дюжину твоих конкурентов? Что ты так радуешься с утра, негодуя на неизвестного тебе человека?
– Этот преступник совершил более страшное преступление, чем убийство! – воскликнул Семеон.
– Что может быть страшнее, Сима? – поинтересовался Агасфер.
– Слово его опаснее острого кинжала! Своим Словом, которое, будто смазанное оливковым маслом, проскальзывает в души законопослушных сограждан, он совращает народ, запрещает давать подать кесарю и называет себя… – в этом месте Семеон понизил голос до свистящего шёпота, – и называет себя, дорогой Агасфер, Царём!»
– Царём иудейским? – полюбопытствовал Агасфер, не впечатлённый рассказом соседа.
– Если бы иудейским!.. – ответил Семеон. – Говорят, – я это слышал от священников, бывших на тот момент в претории, – что он ответил самому Пилату…
– И что же он ответил, Сима?
– Он ответил, мой дорогой будущий зять, так, что язык повторить не решается…
– Перестаньте, папа! – подбодрил Агасфер будущего тестя. – Это же не вы придумали, вы просто повторите, а это в грех не вменяется.
– Понтий его спросил: «Значит, ты – царь иудейский?». А он ему так просто в ответ, как само собой разумеющееся: «Царство моё, уважаемый, не от мира сего».
– И что это, папа, значит?
– Это значит, что он знает Истину! А раз так, то это не простой странствующий проповедник без гроша в кармане. Это значит, сын мой, что он пришёл в наш мир, чтобы учить народ и возмущать его против несправедливой власти.
Агасфер вздрогнул при этих словах.
– Неслыханная в Иудее дерзость! И что есть Истина? Он поведал о ней претору?
– Пилат тоже поинтересовался этим, но пока ответа не получил. И хвала небесам, что не получил, иначе не миновать смуте в тихой Иудее, где даже нищие называют себя счастливцами.
На другой день он услышал от соседа Семеона, что игемон Иудеи римский наместник Понтий Пилат на открытой площадке претории, которая по-еврейски называлась гаввафа, собирает народ. И вовсе не для того, чтобы поздравить иудеев с великим праздником Пасхи.
Агасфер со своим соседом, с которым должен был вот-вот породниться, поспешили в преторию, к гаввафе, где уже на каменном помосте торжественно возвышалась фигура главного судьи, претора Иудеи. Только он мог узаконить просьбу первосвященников и казнить преступника. Но он мог и помиловать. Амнистировать одного из приговорённых к казне. В честь еврейской Пасхи. Это был древний обычай.
– По приказу своих начальников, воины привели ко мне вот этого человека, – сказал Пилат, показывая на молодого мужчину в светлых одеждах. – Они сказали, что своими речами он развращает вас, еврейский народ. Я допросил его и не нашёл его вины. Тогда я послал его к Ироду, но и тот не нашёл вины, достойной смерти. Я думаю всё же наказать его за проповеди и отпустить.
Еврейский народ молчал. Южный ветер, прилетевший с Синая, шелестел пыльными пальмовыми листьями.
– У вас же есть такой обычай – на Пасху отпускать одного узника. Вы что – хотите нарушить этот гуманный обычай пращуров ваших?
По толпе пробежал лёгкий ропот, который можно было трактовать и как «да», и как «нет». Как кому нравилось.
К уху Агасфера нагнулся сосед, только что о чём-то тайно переговоривший с первосвященниками.
– Надо просить не за этого преступника, а за Варавву! – горячо зашептал он. – Он хоть и убийца, но это менее безопасно для всех, чем проповеди Того, в белых одеждах…
И, придвинувшись так близко к Агасферу, что тот ощутил его дыхание, густо насыщенное запахами чеснока и варёной курицы.
– Ты, сын мой, должен первым крикнуть Пилату: «Распни его!». И увидишь – твой глас станет гласом народа. Толпа подхватит. Стоглоточным эхом отзовётся! Таков закон толпы. Будь мне зятем! Тебе зачтётся, сделай подвиг, Агасферушка…
Агасфер никак не решался на этот «подвиг». Семеон больно толкнул его локтём в бок.
– Что вы толкаетесь, папа? – недовольно буркнул врач. – Если вам не хватает места, то нужно меньше поглощать мучного и сладкого…И будете жить вечно. Или, примерно, около этого…
Но оба тут же замолчали. Потому что римские воины неожиданно увели с каменного помоста человека в белых одеждах. Толпа недоумевала. Ей было невдомёк, что Пилат, который невольно проникся к Человеку, знавшему Истину, симпатией, твёрдо решил для себя, наказав этого Проповедника-пророка, отпустить его на все четыре стороны. Но он боялся, что толпа, жаждущая не только хлеба, но и зрелища в свой святой праздник потребует распять Его. Нужно было вызвать сострадание толпы. И Пилат приказал воинам отвести Его во двор, жестоко избить, дабы побои были видны и задним рядам толпы, и надеть на преступника багряницу – короткую красную одежду без рукавов, застёгивающуюся на правом плече.
Один из воинских начальников, чтобы угодить главному судье, сплёл венец из колючего терна, возложил Ему на голову, и дал Ему в руки трость, вместо царского скипетра. Потом начальник, ёрничая, встал на колени и поклонился со словами: «Радуйся, царь иудейский!». А воины, угодничая уже перед своим начальником, стали плевать на Него и, взявши ту трость, били по голове и по лице Его.
После всего этого Пилат взял Его за руку и вышел к евреям.
– Вот я вывел его к вам, – сказал он застывшей в изумлении толпе. – Но я так и не нахожу в Нём никакой вины. Он – никакой не царь, каким представляется… Он просто – че-ло-век. Видите, как он измучен и поруган… Разве Он теперь не трогает ваши сердца?
Толпа напряжённо молчала, собираясь с духом и противоречиями. Фитиль давно был приготовлен первосвященниками, нужно было его только кому-то поджечь.
Семеон ещё раз вонзил свой острый локоть Агасферу под рёбра, отчего тот дёрнулся, как в конвульсии, широко открыл приспущенные веки, округляя заблестевшие, как чёрные оливки маслянистые глаза начинающего врача.
– Салус попули супрэма лэкс! – по латыни процедил Семеон. Агасфер знал, что эта фраза переводилась так: «благо народа – высший закон». Это же другое дело! Если есть закон, то и грех не вменяется!
И тогда он крикнул во весь голос, срываясь на фальцет:
– Распни Его!
И толпа тут же подхватила:
– Распни Его! Да будет распят!
Тут же острая боль в животе скрутила Агасфера.
– Куда же ты, зятёк? – перекрывая рёв толпы, крикнул ему Семеон, видя, как ретируется Агасфер, юркой змеёй выскальзывая из ряда, где они стояли с соседом бок о бок.
– Домой! – только махнул рукой Агасфер. – Живот что-то схватило…
…Через два часа Его вели на Галгофу. Путь Его, одетого в изодранную багряницу, с терновым венком на голове и тяжёлым крестом на спине, который Он сам и нёс, проходил мимо дома Агасфера. Измученный изводившим его поносом, врач стоял рядом с уборной. Агасфера мутило, живот пучило, газы распирали всё брюхо.
Путь обречённого на казнь был тяжел и долог. Агасфер с ненавистью смотрел на Него, изнемогающего под тяжестью деревянного креста. И когда Он хотел было прислониться к стене дома, чтобы передохнуть, Агасфер прикрикнул под одобрительный смех фарисеев:
– Иди! Иди! Нечего отдыхать!
– Хорошо, – разжал спекшиеся губы Он. – Но и ты тоже всю жизнь будешь идти. Ты будешь скитаться в мире вечно, и никогда тебе не будет ни покоя, ни смерти…
Семеон, тоже слышавший эти слова, прошептал:
– Проклял бессмертием!
5.
Возможно, предание это было бы в конце концов забыто, как и многие другие, если бы после этого из века в век то там, то здесь не появлялся человек, которого многие отождествляли с личностью бессмертного Агасфера.
Волохов завёл специальную папку, которую подписал так: «Прыжок через временной барьер». Вскоре в этой папке появилось свидетельство итальянского астролога Гвидо Бонатти, того самого, которого Данте в своей «Божественной комедии» поместил в аду. В 1223 году Бонатти встретил его при испанском дворе. В своих мемуарах Гвидо писал о том человеке, что в своё время он был проклят Христом и потому не мог умереть.
Пятью годами позже об Агасфере упоминает запись, сделанная в хронике аббатства св. Альбана в Англии. В ней говорится о посещении аббатства архиепископом Армении. На вопрос, слышал ли он что-нибудь о бессмертном скитальце Агасфере, архиепископ ответил, что не только слышал, но и несколько раз лично разговаривал с ним. Человек этот, по его словам, находился в то время в Армении. Он был мудр, чрезвычайно много повидал и многое знает, но не прочь был порой разыграть своего собеседника, который мечтал о бессмертии. И розыгрыши эти были порой далеко не безобидны. Собеседники проникались уважением к Агасферу, так как тот разговаривал почти на всех основных языках мира. А из древней истории, относящейся ко времени Понтия Пилата, знал многие подробности.
Следующее сообщение относится уже к 1242 году, когда человек этот появляется во Франции. Затем на долгое время воцаряется молчание, которое нарушается только через два с половиной века.
В 1505 году Агасфер объявляется в Богемии, через несколько лет его видят на Арабском Востоке, а в 1547 году он снова в Европе, в Гамбурге.
О встрече и разговоре с ним рассказывает в своих записках епископ Шлезвига Пауль фон Эйтзен. По его свидетельству, человек этот говорил на всех языках без малейшего акцента. Он вёл аскетический образ жизни, не имел ни своего дома, никакого другого имущества, кроме платья, которое было на нём. Если кто давал ему деньги, он всё до последней монеты раздавал бедным. В 1575 году его видели в Испании. Здесь с ним беседовали папские легаты при испанском дворе Кристофор Краузе и Якоб Хольстейн. В 1599 году его видели в Вене, откуда он направлялся в Польшу, собираясь добраться до Москвы. Вскоре он действительно объявляется в Москве, где не раз бывал и позже. (Волохов все его посещения России описал отдельно и более подробно, о чём будет рассказано чуть ниже).
В 1603 году он появляется в Любеке, что было засвидетельствовано бургомистром Колерусом, историком и богословом Кмовером и другими официальными лицами. Городская хроника сохранила такую запись: «Минувшего 1603 года 14 января в Любеке появился известный бессмертный еврей, которого Христос, идя на распятие, обрёк на искупление».
В 1604 году профессор нашёл эту странную личность в Париже, в 1633 году – в Гамбурге, в 1640 – в Брюсселе. В 1642 он появляется на улицах Лейпцига, в 1658 году – в Стамфорде, что в Великобритании.
Когда в конце ХVII века вечный странник снова объявился в Англии, скептически настроенные англичане решили проверить, действительно ли он тот, за кого его принимают. Оксфорд и Кембридж прислали своих профессоров, которые устроили ему пристрастный экзамен. Однако познания его в древнейшей истории, в географии самых отдалённых уголков Земли, которые он посетил или якобы посетил, были поразительны. Когда ему внезапно задали вопрос на арабском, он без малейшего акцента отвечал на этом языке. Он говорил чуть ли не на всех языках, как европейских, так и восточных. Однако «серый кардинал», как его назвал один из профессоров Кембриджа, откровенничал не со всяким собеседником. Заметили, что он каким-то непонятным образом, внутренним чутьём, острой интуицией, находил людей, кого волновала проблема человеческого бессмертия, кто искал пути в бессмертие или был близок к открытию желанного для многих учёных «эликсира молодости». И такие встречи для ищущих свою тропинку во вторую молодость, как правило, заканчивались для них трагически.
Вскоре человек этот появляется в Дании, а затем в Швеции, где следы его снова теряются. В Германии бессмертный странник бывал трижды. В начале 1770 года он был принят самим Иоганном Вольфгангом Гёте, который в ту пору только задумал своего великого «Фауста». Работал над этим произведение Гёте тяжело и практически всю свою жизнь. Ещё в 1829 году, через 58 лет после рождения первых глав «Фауста», была написана и 19 января была поставлена готовая часть в театре Брауншвеге. Но дальше Гёте, будто споткнувшись о невидимый барьер, продвинуться никак не мог. Закончил Иоганн своё гениальное произведение только после встречи с Агасфером. Один из биографов гениального немца утверждал, что Гёте 18 июня 1831 года долго говорил с гостившем у него легендарным восточным лекарем о реальных возможностях человека стать если не бессмертным, то хотя бы открыть для себя путь к второй молодости. Ведь именно этого, по его задумке, и ищет его вымышленный герой Фауст. И как же писатель был удивлён, узнав от гостя, что Фауста он не выдумал. Фауст реально существовал в первой половине ХVI века, во времена Реформации. В прошлой жизни Иоганна Вольфганга Гёте. Писатель, помимо своей воли, извлёк из запасников своей памяти эту историю и изложил её на бумаге. И договор Фауста с чёртом – это тоже не выдумка. «Ты вспомни всё хорошенько!» – сказал Гёте странник. И тогда Иоганн перенёс сделку Фауста с Мефистофелем в своё произведение, в котором дьявол за продажу души, Атмана, как называлась она в древне-индусских Ведах, обещал герою вторую молодость и все немыслимые наслаждения. Говорили, что именно его загадочный гость произнёс тогда сакраментальную фразу: «Остановись, мгновение! Ты – прекрасно!». В начале 1931 года «Фауст», через 60 лет после начала, был наконец-то закончен. А автор вскоре умер.



