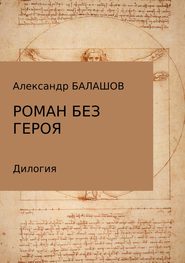 Полная версия
Полная версияРоман без героя
– Так в Непале, как сказано в энциклопедии, все говорят на непали, на своём языке, на котором у нас никто ни гу-гу, – сказал тогда Игорь Васильевич.
– Мы едем к тем людям, которые лучше нас с тобой, Игорь, говорят по-английски, – ответил Бергман. – Так что за языковый барьер не переживай.
– Но ведь там не занимаются проблемами стволовых клеток, – возразил всегда настроенный на полемику Волохов.
– Но там живут до 100 лет и больше, – возразил Бергман. – Это – аргумент?
– Это аргумент, – согласился Игорь Васильевич с руководителем. К тому же мы едем по приглашению самого короля Непала и королевского научного Общества.
В этой поездке, в которую он всё-таки поехал вместе с Бергманом и группой молодых учёных-геронтологов, Волохова, что называется, осенило. После встречи с Брахманом, которая оказалась сакраментальной, в трёхзвёздочном отеле Катманду Игорь Васильевич воскликнул: «Эврика!». Теперь он был уверен, что, наконец-то, нашёл свой путь. Там же, в этом чертовом Катманду, «городе магов, йогов и шарлатанов», как говорил Бергман, он под окном своего одноместного номера впервые увидел застывшую фигуру Серго посланника. Тогда он его называл «Серым кардиналом». Человек, одетый во всё серое, часами стоял внизу, уставившись в одну точку. И этой точкой было окно номера профессора Волохова.
Непальское королевское научное общество встречало русскую делегацию по-королевски. Программа была перенасыщена встречами, экскурсиями, поездками к знаменитой Джомолунгме, к монахам старинного монастыря, вырубленного в одной из гор древних Гималаев. Правда, самая креативная экскурсия в один из горных тоннелей, где им обещали показать тела йогов, которые, якобы, находились там уже тысячу лет и оживут, когда наступит время «Ч», и в эти засушенные мумии вернутся их атманы.
Доктор Сикхарт, почётный профессор трёх европейских университетов, в том числе и Кембриджского, в обстановке чрезвычайно секретности привёз в горы русскую делегацию и долго о чём-то говорил с монахом, одетом в нелепые серые одежды. Гид русской группы долго в чём-то убеждал своего собеседника, размахивая руками и воздевая их к небесам, но серый монах, по всему, был непреклонен.
– Моей вины в срыве экскурсии нет, – сказал англоговорящей русской группе доктор Сикхарт. – Настоятель монастыря почувствовал присутствие в вашей группе Духа Великой Горы, главного хранителя тайны бессмертия.
– Не переживайте, коллега, – успокоил учёного индуса Бергман. – Жаль, конечно, что не удалось взглянуть на мумии в горе, но у русских есть такая пословица: что ни делается – всё к лучшему.
– Там не мумии, – тихо ответил Сикхарт, с опаской поглядывая на наблюдавшего за группой монаха в сером. – Там – люди. Просто они научились управлять своим высшим Я, своим духом до такой степени, что остановили все метаболические процессы организма до такой степени, что ни пульс, ни давление не фиксируются. Но тела – живые. Они не разлагаются и наполнятся жизненной энергией с возвращением в них Атмана.
– А где же они сейчас, души их? – ошеломлённо спросил один из молодых геронтологов, недавно защитившийся кандидат биологических наук Саша Чуркин.
– Путешествуют где-то, – пожал плечами профессор Кембриджского университета, знаток, кажется, всех многочисленных философско-религиозных учений древних индусов, доктор Сикхарт. – Душа может отлетать от своего корпуса, оболочки, в нашем понимании тела, за две тысячи километров. Если улетит дальше, может заблудиться и не вернуться назад, в тело…
Любознательный молодой учёный не унимался.
– А куда ж ей возвращаться, если, как вы утверждаете, этим… «оболочкам» – под тысячу лет? Пульс не прощупывается, давление у трупов, извините, оболочек, нет… Они же – мертвы!
– Вы ошибаетесь, коллега, – серьёзно ответил доктор Сикхарт. – Они оживут, когда к ним вернётся Атман. Атман – это то, что послано Вселенной для того, чтобы билась жилка жизни на Земле. Во всё её фантастическом многообразии. Пока на то воля Ноосферы, будет в биосфере Земли и Атман. Будет Атман, будет и жизнь на Земле. Только такая связь.
В Непальском Центре левитации, – оказалось, что в Катманду есть и такой научный центр, который трудно было назвать «научным», – Волохов познакомился с удивительным человеком – учёным йогом, доктором философии, которого все звали Брахман. Имя старого мага-йога несколько удивило Михаила Исааковича, который при знакомстве с мастером магической левитации пошутил:
– Бергман и Брахман – братья навек! У нас даже фамилии созвучные, только я летать не умею – Бог крылья не дал.
Мастер левитации промолчал, глядя поверх бергманской головы, а индус Сикхарт покраснел так, что румянец проступил на его смуглых щеках.
– Брахман, простите, профессор, – не фамилия, – деликатно вставил Сикхарт, улыбаясь неудачной шутке руководителя русской делегации. – В индийской философии имя Брахман означает высшее духовное начало, коллега.
– Брахман так брахман, – нисколько не конфузясь, бросил Бергман. – Нам, татарам, всё равно.
Брахман был одет в типичные для гималайских и тибетских монахов одежды, был сух, сморщен и смугл, как печёное яблоко. Но глаза его излучали удивительный, как когда-то написал поэт, «несказанный свет». Доктор Сикхарт утверждал, что Брахману 113 лет, что он владеет телепатией, телепортацией и левитацией. Последнее Брахман продемонстрировал делегации по горячей просьбе русских учёных.
Доктор-йог долго усаживался в позу лотоса на грубой циновке в небольшом светлом зале, лишённом какой-либо мебели. Потом сложил руки, закрыл глаза и после пятиминутного мегитирования стал вдруг подниматься в воздух. Брахман поднялся примерно на полтора метра над полом, чуть сместился вправо, к широченному окну и завис над полом. Таким макаром этот загорелый старик с горящим пронзительным взглядом глаз, напоминавших переспевшие сливы, провисел в воздухе четыре минуты сорок секунд. (Время засекал Саша Чуркин). А когда он так же плавно совершил мягкую посадку на свою циновку, группа бурно зааплодировала.
– Это всё йоговы фокусы, магия, шельмование, другими словами. – шепнул Михаил Исаакович Волохову. – Даже европейская продвинутая наука не признаёт левитацию. Человек без технических приспособлений, просто так летать не может. Об в России любой дурак знает.
– Не любой, значит, – так же шёпотом ответил Волохов.
– Это вы на кого намекаете?
– Это я о себе, – поспешил успокоить коллегу Игорь Васильевич.
С Брахманом у Волохова неожиданно сложились самые дружеские отношения, полные духовной близости и взаимопонимания. Старик прекрасно знал не только основополагающие доктрины, изложенные в Ведах, но и цитировал Библию.
– В вашем «Апокалипсисе» ещё больше двух тысяч лет назад пророк написал о будущем так: «Смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет».
– Это в будущем, а вы, йоги, уже сейчас можете продлевать свою жизнь до бесконечности? Увы, уважаемый Брахман… Никакой позой лотоса бренное тело не спасти от умирания. Тело отслужило, подавай новое! Где тут оболочек наберёшься, если душа бессмертна…
Брахман снисходительно улыбнулся, как любящие терпеливые родители улыбаются, когда ребёнок не понимает прописных истин.
– Душа, по-нашему Атман, после смерти тела может отлетать от своей бывшей оболочки на две тысячи километров, – спокойно, как само собой разумеющееся, поведал учёный йог. – Если жизнь тела по каким-то причинам окончилась до срока, то Атман на своей волне ищет и обязательно находит только что родившегося младенца и воплощается в его тельце.
– Так это будет уже другое Я! Другой человек, совершенно другая личность! – воскликнул профессор Волохов.
– Отнюдь, – опять улыбнулся Брахман. – Как бы вам объяснить, мой русский друг… Ну, скажем, ваша машина сломалась. Вы выходите из машины и дальше идёте пешком. Изменились ли вы? Нисколько. Изменилось только ваше передвижение в пространстве и времени. Вскоре вы покупаете новую машину, садитесь в неё. Изменилось ли ваше истинное Я? Нет, разумеется. Машин на вашем жизненном пути может быть много, но ваше Я, когда вы будете в них вселяться, останется только вашим Я.
И Брахман, достав из холщовой сумки старинную книгу, процитировал вслух:
– «Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные».
– Это откуда, уважаемый Брахман? – спросил Игорь Васильевич.
– Из Вед, – ответил йог и поцеловал древний фолиант. – Древние славяне знали о её существовании. Современные – нет.
Волохов, поднаторевший в научных дискуссиях ещё в студенческие годы, неожиданно пошёл в атаку.
– И всё-таки, – сказал он, – в вашей философской доктрине немало проблемных мест. Вот тебе уже за сто лет, твоя оболочка – и это видно невооружённым глазом – давно одряхлела. Вот-вот, как говорят у нас, в России, даст дуба… Ну, вылетит твой Атман, а куда лететь? Куда глаза глядят? И кто даст гарантию, что тот младенец, в которого он по своей волне вселится, завтра сам не даст дубу. Значит, снова в свободный полёт, на свободную охоту?
Брахман пожал плечами.
– Круговорот жизни и смерти контролирует Ноосфера. Человек тут бессилен…
– Человек, вооруженный научными знаниями, может расшить и все узкие места в теории реинкарнации.
Йог, дотоле соблюдавший поистине олимпийское спокойствие, постепенно начал выходить из себя. Брахман сменил позу и, раздражаясь, ответил упрямому русскому:
– Атман – это высшая и тонкая материя, которая имеет свою карму. Это тонкое пространство пока современной европейской науке недоступно. Это я по-дружески говорю, как своему парню… Так, кажется, у вас в России говорят?
Волохов хлопнул его ладонью по загорелой коленке.
– Э-э, дедушка! – засмеялся он и, проникшись симпатией к «своему парню», перешёл на ты. – Ты не знаешь русских учёных, лучших учёных в мире!.. Наш профессор Демихов ещё тридцать лет назад первым в мире пересадил голову одной собаки на туловище другой. Он же считал, что любой здоровый мозг из одного тела, переставшее выполнять свои жизненные функции, можно пересадить в другое тело. Тело загнулось, померло. Мозг пересаживаем в новое тело. И так до бесконечности… Мозг не коленка, не сустав, не вечно ноющая спина… Мозг, если не поражён склерозом, может жить лет 300. Правда, и тут есть слабое место: где столько тел наберёшься? К тому же здоровых, крепких тел, биологических оболочек для биокомпьютера, каковым является человеческий мозг.
Брахман покачал головой.
– Мозг жабы можно пересадить в тело лягушки, как это сделал доктор Сикхарт в лаборатории Кембриджского университета. И лягушка обрела все повадки жабы, хотя жизнь её тоже была недолгой. У высших животных, тем более у человека, такой фокус не пройдёт. Ведь и собака Демихова после пересадки головы прожила только три дня. Не в мозге, значит, всё дело, а в Атмане. В этом энергетическом пузыре, вполне материальном, а не виртуальном и с точки зрения последних изысканий науки.
Брахман сменил позу, поёрзав на циновке, и продолжил:
– Атман – он, как своеобразный накопитель опыта, в том числе и чувственного, знаний, всей информации, полученной за жизнь живого существа. Выходит, мозг здесь не при чём… Так?
Волохов удивился познаниям учёного Брахмана.
– Так, дедушка-а… – удивляясь познаниям старика, мастера магической левитации, протянул Игорь Васильевич. – А откуда ты про собаку Демихова знаешь?
Старик не ответил на вопрос русского, продолжил, пряча старинную книгу в свой бездонный мешок.
– Сознание – это не мозг, – сказал Брахман. – Я точно знаю. Моя душа не раз покидала уже моё бренное тело, тогда я был уже не Я. Моё сознание жило независимо от тела. И это был – Я.
В гостинице Волохов достал из кармана диктофон, на который в тайне от Брахмана («сугубо в научных целях», как он сам оправдывал этой шпионское действие) записал всю свою беседу с тибетским монахом, ещё раз прокрутил её и задумался.
«Так что же такое Я? Тело моё? Нет, это не Я. Мои эмоции, чувства? Это тоже не моё Я. Мозг мой – тоже, оказывается, не «высшее Я, не Божья искра», которая есть в каждом живом существе за Земле. Я – это Атман, дума, моё высшее, истинное Я. И оно неизменно, когда выходит из своей оболочки, из тела. Каждый Атман имеет свою карму. Слово «карма» буквально переводится как «действие». Индусы называют её ещё сансарой. И, если Брахман прав, то карма имеет волновую структуру. У каждого Атмана – своя карма, а у каждой кармы – свой волновой диапазон. Это передатчик, но если создать приёмник, работающий в диапазоне той или иной кармы, то можно поймать в свою ловушку Атман, который освободился от умершего тела! Поймать, чтобы потом посадить в заранее приготовленное для него тело. Сегодня это выглядит, как научная фантастика! Но ничего фантастического тут нет. На принтерах 3 D уже делают искусственные копии человеческих органов… Запчасти для дряхлеющих корпусов атманов, бренных биооболочек. А почему же нельзя человеку вообще отказаться от дарованного ему природой тела? Почему нельзя на том же принтере из подходящего синтетического материала, которому сносу не будет, скопировать всю оболочку для пойманного в ловушку Атмана? Когда я его туда подселю, эта кукла какого-нибудь нанолатекса оживёт, получит энергию, истинное, высшее Я… Энергия Атмана даст биотоки, которые и будут управлять искусственным телом! Почему нельзя? Можно! Очень даже можно. Спасибо, о друг истины, великий Брахман, за наводку. Волновая природа кармы. Как я сам-то, дурак, не догадался: всё, что излучает энергию, имеет свою волну. Нужно её только найти в океане волн. Нащупать диапазон кармы Атмана – и дело в шляпе. Точнее, всё дело, конечно же не в его шляпе, а в атманоприёмнике. Как только я его создам, так вопрос жизни до 200 – 300 лет, а может быть, и вековая проблема бессмертия для человечества будут ре-ше-ны».
Поток к сознания учёного прервал стук в дверь волоховского номера.
– Войдите!
В номер ввалился весёлый Бергман, прижимая к груди бумажный пакет.
– Представляешь, Игорь! – с порога воскликнул академик. – В этом зачуханном азиатском бедламе я отыскал бутылку русской водки! Левитация – дрянь, дешёвый гипноз, шарлатанство чистой воды… А это, – он поцеловал бутылку, – настоящее чудо. Так выпьем, умная голова, за успешное окончание научного обмена! Завтра улетаем.
Бергман, уже где-то подзарядивший свою энергетику, был в превосходном расположении духа. Он, не спрашивая разрешения хозяина номера, нажал на кнопку вызова Стюарта, и через минуту в дверь тихо постучали.
– Да-да! – сказал Михаил Исаакович и сам открыл дверь прибывшему работнику отеля.
– Милейший, – с барскими интонациями процедил сквозь зубы академик. – Принеси-ка нам, силь ву пле, фруктов, шампанского и селёдочку с чёрным хлебцем.
Стюарт, не раз обслуживавший туристов из России, на ломаном русском спросил:
– А тефочек надо?
– Моя твоя не понимайт! – замотал головой Бергман и игриво посмотрел в сторону профессора.
– Не надо «девочек», – по-английски сказал Волохов. – Принесите просто обычный, стандартный ужин. Что там у вас обычно подают на ужин? Шницель там, шашлык… Только не перчите до почернения мяса, пожалуйста.
Через полчаса коллеги уже молча ужинали в небольшом номере гостиницы «Китманду», носившей имя столицы королевства.
– Миша, ты не помнишь работу Дорошенко, сумевшего взвесить душу человека? – первым нарушил молчание Игорь Васильевич.
– Ты имеешь ввиду взвешивание живого человека и человека умершего на точнейших электронных весах?
– Ну да, пусть так. Разница ведь и составит вес души…
– Отнюдь. Разница действительно составила 21 грамм. Но это не вес некой мифической души, которая якобы отлетела от тела…
– А что же это?
– Это из-за окислительных процессов в неживом объекте мёртвое тело стало легче на 21 грамм.
– Значит, не веришь, что душу можно взвесить?
– Почему не верю? Верю, верю… Только авторитетному зверю.
– Но раз её можно взвесить, значит душу, Атман, как её называет Брахман, можно и выделить.
– Ну, предположим.
– А раз можно выделить, её можно и поймать в волновую ловушку…
Бергман махнул рукой, будто отгонял назойливую муху, и потянулся к бутылке.
– Ты опять, князь Игорь, за своё? Смотри, не загони лошадку… Выпей вот лучше по полной – и сотри всякую муть в памяти свого мозгового компьютера.
Он поднял стакан и, не чокаясь с коллегой, выпил водку залпом. И налил себе снова.
– Поверь, дорогой ты наш гений, что так будет лучше для всех. А в первую очередь – для тебя и твоих близких.
Профессор промолчал. Думая о чём-то своём, рассеянно спросил руководителя научного института:
– А у нас трёхмерный принтер работает?
– Ещё как! – загадочно улыбнулся Бергман. – В прошлом месяце Чуркину пришлось выговор влепить за то, что клон своего пениса из нанолатекса изготовил. В возбуждённом пионерском состоянии «всегда готов!» От настоящего жена родная не отличит!..
И он захохотал, расплёскивая содержимое стакана на дорогой летний костюм.
– Главную для себя запчасть сварганил, паразит! Хотя, думаю, его собственный член ещё не истёрся в работе.
Волохов пропустил скабрёзность мимо ушей. Со стаканом в руке он отошел к окну, приподнял жалюзи – за окном стояла загадочная азиатская ночь, дневным светом горели светодиоды уличных светильников и зазывно перемигивалась яркая световая реклама. А на углу здания отеля «Катманду», выкрашенного в кичливый цвет переспевшего апельсина, серела фигура загадочного человека. «Ну, ну, – с грустной усмешкой подумал Волохов, когда их взгляды встретились, – так-то они доверяют патриоту своей родины. Видно, без тотального контроля за своими гражданами нынче не обходится ни одно демократическое государство. Доверять, доверять, но контролировать. А то как бы чего не вышло…Старая песня на новый лад».
8.
Дежурная группа, которую на место происшествия вызвал Владимир, прибыла в считанные минуты. И не мудрено: полицейский участок, откуда прибыли коллеги старшего лейтенанта Волохова, располагался на пересечении улицы академика Келдыша и Староконюшенного переулка. Это буквально в пяти минутах езды от монументального дома, сохранившего все характерные черты сталинской застройки, в котором и находилась квартира №16 со старомодной медной табличкой на двери «Проф.Волохов». Может быть, отслужив год в армии, понюхав пороху в одной из своих армейских командировок, Володя и выбрал своё новое место работы по случайному формальному признаку – близко от дома. (По крайней мере, даже в детстве, когда он вместо детских книг Гайдара, как говорится, запоем читал детективы, фэнтези и прочую литературную «развлекуху», желания стать сыщиком у него никогда не возникало).
Если не было пробок, то буквально пять минут – и у отца дома. Его же квартира, которую Владимир Волохов снял, получив погоны старлея и повышение по службе, находилась в том же районе столицы, но подальше и от отца, и от места работы – в пятнадцати-двадцати минутах езды на машине. Волохов-старший, похоронив Ирину, и, как он сам с грустью говорил, «оставшись полукруглой сиротой», обижался, когда даже на большие праздники у сына не находилось времени, чтобы «на пять минуток заскочить к одинокому сивому мерину». Нет, не затем, чтобы задать ему в ясли свежего сенца, а просто так – поговорить со стариком, задать ему ничего не значащие для мпрашивавшего вопросы о здоровье, «жить-нытье», о ноухау, которые, несмотря на возраст, неустанно генерировал работавший на износ мозг профессора Волохова.
Игорь Васильевич и обижался на такую эмоциональную чёрствость сына, и тут же прощал его. Он любил его всем своим сердцем, больным сердцем человека, знающего цену не только творческому озарению, когда он на весь дом, заселённый прошлой «номенклатурой», забыв о приличии, орал «эврика!», но и тихому семейному счастью, теплоте домашнего очага. Потому, наверное, несмотря на замкнутость своего характера, тяжелее сезонного гриппа переносил «одиночество души». Не «своё одиночество», которое известно каждому из нас, а именно так, с такой формулировкой состояния человека, когда мёрзнут не ноги, не руки, а зябнет именно душа, которой и нужно-то совсем немного по меркам нашего меркантильного времени – всего чуточку тепла и пару простых искренних слов человеческого участия. Сын теперь оставался последней пристанью сильно сдавшего после смерти дочери отца.
Владимир любил своего «нетипичного предка», как он как-то назвал его в школьном сочинении на «свободную» тему – «Мои родители». Маму Волохов-младший помнил плохо, знал её больше по рассказам отца, который, как всякий творческий человек, одну и ту же историю всегда рассказывал по-разному. Отец, несмотря на свою кошмарную занятость в секретных лабораториях, где он работал с тех пор, как Володя начал осознавать своё Я, формируясь как личность, а значит, – и гражданин общества, – вырастил и воспитал его и сестру Иру. Ирина была старше Володя на двенадцать лет. Она хорошо помнила маму, любила её, наверное, но никогда не рассказывала брату о ней и своих дочерних чувствах. Будто боялась их расплескать в пустой болтовне и суете сует. Она была типичной «профессорской дочерью» – отличницей в немодных круглых очках, потом студенткой МГУ с именной стипендией «за заслуги перед отцом и отечеством», как по своему обыкновению, с доброй порцией иронии и самоиронии, говорил Игорь Васильевич.
Что любил профессор Волохов больше всего на свете? Тут ответ был однозначен – своё дело, которое истерзало его сердце, но постоянно, ежедневно, ежеминутно тренировало его мозг. Кого любил профессор Волохов? И тут ответ был всегда прост, как всё не только гениальное, но и настоящее, не придуманное конъюнктурными и конформистскими биографами, сшибающие гонорары в вечной серии «Жизнь замечательных людей». Он был большим однолюбом и всю свою жизнь любил близких и очень дорогих его истрёпанному чиновниками от науки всех рангов (вплоть до ФАНО – федерального агентства научных общества) сердцу людей – жену Нину, дочь Ирину и сына Игоря. И считал это проявлением истинного русского патриотизма, ибо, как был убеждён профессор Волохов, любовь к ближнему своему – это не только первостепенная Божеская Заповедь, но и необходимая строка Гражданского Кодекса любого государства. Увы, его бы мысли да нашему государству в уши…
Прибывшая на место происшествия группа сыщиков во главе с капитаном полиции Вячеславом Дробязко, прихватила с собой и служебную собаку по кличке Джим. Старую несуетливую немецкую овчарку сопровождала бой-баба в синеватом камуфляже с головы до пят. Было видно, как жарко было собаке, которая, равнодушно поглядывая на бедлам в квартире профессора, тяжело дышала, свесив из клыкастой пасти язык. Но ещё тяжелее, наверное, было проводнице в камуфлированном комбинезоне.
– Привет, Володь! – дружески кивнул Владимиру Вячеслав. – Версия своя есть?
Старший лейтенант Волохов хотел было заикнуться о «сером человеке», но неожиданно прикусил язык и в ответ только покачал головой.
– Да нет, Слава, пока никакой версии не созрело… Входная дверь была не взломана, открыта как бы подобранным ключом или отмычкой.
– А что украли?
– Ровным счётом ни-че-го! – резко вступил в разговор профессор, недовольный прибытием оперативников.
– Да нет, папа погорячился, – возразил Владимир. – Ноутбук отца пропал, все флэшки, которые вместе с бумагами выгребли из сейфа…
– Это можно в протокол не вносить, – перебил сына отец. – Это всё мелочи, ерунда на постном масле!
Капитан, усевшийся было за стол для составление официальной бумаги, вопросительно посмотрел сначала на отца, а потом на сына.
– Так было ограбление или нет? – хрипловато спросил он голосом уставшего от собачьей жизни человека.
– Было, было, – кивнул сын.
– Не было, – отрубил отец.
– Пальчики нужно бы снять, запахи… Ну ты, Слава, не первый год в своём отделе – знаешь, что почём.
Волохов поправил шляпу, сбившуюся на затылок и тем самым делавшая его похожим на городского сумасшедшего, похлопал капитана по плечу.
– Учёного учить – только портить! Нет заявления потерпевшего – нет и самого преступления. Тем паче, что этот непрошенный гость повесит вам, капитан, на шею ещё один очень крепенький «висяк». Кажется, так вы называете нераскрываемые преступления?
Волохов-старший бесстрашно подошёл к собаке и погладил её по шерстяной голове.
– И даже чуткий нос вашего помощника не продвинет следствие ни на полшажка. Так что, господин капитан, не было никакого ограбления. Ветер окно раскрыл, бумаги со стола слетели… А у страха, как известно, глаза велики.
Дробязко кинул вопросительный взгляд в сторону Владимира Волохова и невольно пожал плечами: мол, хозяин – барин…
– Вам виднее, господин профессор, – ответил капитан, прочитавший медную табличку на двери.
– Уверяю вас, господин сыщик, – виновато улыбнулся Игорь Васильевич, что по вине моего сына вы только потеряете своё драгоценное время. Никаких отпечатков, запахов и прочих улик Серого посланца вы всё равно не найдёте…



