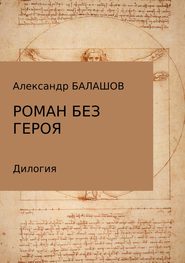 Полная версия
Полная версияРоман без героя
Он снова выкатился из «красного угла».
– Ты у младшего своего давно в гостях не был? Съездил бы. Проведал. Заодно узнал бы, что коренные москвичи требуют вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. Как символ беззаветному служению власти.
Степан Григорьевич встал, многозначительно посмотрел на часы.
– Для кого-то железный Феликс, пес диктатуры пролетариата. Для других ностальгия по прошлому. Русского человека хлебом не корми, дай поностальгировать.
Он снова многозначительно посмотрел на свой дорогой хронометр.
– Да и христианин ли ты после своих требований, Иосиф? Тебе любой батюшка скажет: прощать нужно, тогда и тебе Бог простит… Быть может. Всё, гражданин Захаров. Пиём окончен! У меня сейчас совещание.
Я, не попрощавшись, молча повернулся и пошел к двери.
– А стишок на память не подаришь? – в спину с усмешкой бросил мне Карагодин. – Ты, говорят, стишки для утренников сочиняешь…
В зеркале, висящем у выхода, я увидел его отражение. Он улыбался, торжествуя победу.
Я лихорадочно перетряхивал память. Но всплыли лишь митяевские строчки из песни:
Жизнь и боль – вот и всё, что имею,
Да от мыслей неверных лечусь,
А вот правды сказать не умею,
Но, даст Бог, я еще научусь.
– Иди, иди, стихоплет, – холодно сказал он. – И слова твои ничтожны. Впрочем, по Сеньке и шапка.
Я взялся уже за ручку двери, но не удержался, повернулся к нему и сказал спокойно, когда приходит полное понимание, что мосты все сожжены:
– В мире нет власти грозней и страшней, чем вещее слово поэта.
Я ждал его лающего смеха. Наверное, в тот миг было действительно смешно: кабинет главы в европейском стиле, уверенный в себе Степан в «гламурном» темно-синем костюме «от кутюр» и эти, неведомо откуда пришедшие ко мне, слова…
Но он даже не улыбнулся.
В зеркало я видел, каким взглядом смотрел он мне в спину. Будто Расстреливал.
***
Я вернулся домой, когда уже стемнело.
Где-то за Свапой, в строящемся поселке кирпичных коттеджей, басовито брехала сторожевая собака.
Моргуша уже спала. Я достал «бурдовую тетрадь» с полки. Открыл дверцу и бросил на жаркие угли в печи «Записки мёртвого пса».
Это ведь всё изощрённые выверты воспалённого писательского мозга, что рукописи не горят… Через минуту я увидел, как печально сморщилась обложка и на ней появилась траурная каёмка – обгоревшие края.
На столике настойчиво затрещал телефон. Звонил Пашка.
– Прости, что не зашел на праздничный ужин, – сказал он. – В больнице денек горячий.
– Что такое? – без энтузиазма спросил я, вспоминая подписанное Степаном представление.
– Только что менты с автовокзала привезли старикашку одного…. Черепно-мозговая травма. Кто-то чем-то его тюкнул по черепу…
– Бывает, – вяло ответил я.
– Самое интересное, что фамилия у старикашки знакомая нам обоим…
– Иванов?
– Шнуров. Маркел Сидорович Шнуров… Не знаю, выживет ли. Уж больно дряхл. И травма тяжелая. Повезу беднягу в область. Вот только довезу ли?
Пашка положил трубку, а я бросился к печки и кочергой выцарапал у огня рукопись, сбросив дымящуюся тетрадку на загнетку78.
– Слава Богу, великий писатель прав, – сказал я сам себе. – Рукописи, кажется, действительно не горят.
В дверь кто-то постучал. Не позвонил от калитки, а – постучал.
Кого принесла нелегкая?
На пороге стоял человек в картонной маске собаки. Его карнавальный костюм, сшитый из искусственного чёрного меха, весьма напоминавший шкуру чёрного пса, основательно промок под новогодним дождём. Лица пришельца я не видел, оно было под маской, но согбенная фигура, выбившиеся из-под маски мокрые седые пельки79 выдавали старческий возраст.
– С Новым годом! – машинально сказал я и полез в карман за мелочью.
– Так это ты требуешь вскрытия моей могилы? – утробно спросила собачья маска, красноречивым жестом останавливая мою благотворительность.
Ряженый склонил голову и, поблёскивая холодными жёлтыми глазами в прорезях маски, некоторое время молча разглядывал меня.
Наконец взгляд его остановился на рукописи, которую уже полизало пламя. Эту чёртову рукопись я всё ещё держал в руках.
– Тэмпора мутантур!80– засмеялась маска лающим смехом. – Времена меняются, но люди, как я заметил за всю свою бессмертную жизнь, не меняются вместе с ними.
«Сумасшедших на Аномалии всегда хватало», – мелькнула у меня мысль.
– Вот и ты, старик, – продолжал он, поправляя оскаленную пёсью маску на лице. – не оригинален с сожжением рукописи, хотя не веришь, и никогда не верил, что рукописи не горят…А не помнишь, что littera scripta manet. Ты – вульгарный материалист, как все нынешние писатели. А значит, человек без веры… Шаткий человек. Ибо слабому человеку необходимо веровать. Без веры – всё шатко. Абсолютно всё.
– А во что верить? – хмуро спросил я колядовавшего деда.
– Не во что, а в кого…
– Уж не в тебя ли?
– Если не в Него, то в меня… Другого выбора, прости, никто тебе не предложит.
Он задрал морду к чёрному небу и весьма правдоподобно завыл по-собачьи.
«Шизофреник!» – подумал я и захлопнул дверь. Какое-то время еще постоял в прихожей, слушая, как удаляются шаги ряженого шутника.
Глупая, дурная шутка, подумал я. Если это Пашкины проделки, то завтра отплачу ему той же монетой.
Я прилег на свой любимый диван, но сон не шел. Меня сильно знобило. Сам себе потрогал лоб. Ничего не понял, но за градусником не пошёл. Если так колотит, то не меньше тридцати девяти, а то и все сорок. Неужели этот проклятущий грипп? Говорил Пашка: Прививайся, старик! Вульгарный грипп выкашивает на планете людей больше, чем умирает от лихорадки эбола».
Я до носа укрылся шерстяным пледом, но не согрелся и под одеялом. Знобило уже так, что зуб на зуб не попадал.
Чтобы отвлечься от навалившейся болезни, которая туманила голову, стал по привычке анализировать только что услышанные слова новогоднего коляды. А ведь он сказал tempora mutantur. Это явно латынь. А потом он добавил на этом же языке – littera scripta manet. Мёртвый язык, но как я понял перевод без словаря? Это ведь буквально означает: «написанная буква остаётся». Не может слободская коляда, подвыпивший старый бомж знать латынь. Исключено!
Я почувствовал, как страх без спроса заползает под одеяло, потом за пазуху, как он холодит разогретое гриппозным жаром сердце, заставляя его работать на повышенных оборотах.
Я встал, взял обгоревшую рукопись Лукича в руки и посмотрел на печную дверцу. По своему обыкновению, стал ковырять душу, анализировать свой визит к Степану Григорьевичу Карагодину. И, как всегда, искал смягчающие обстоятельства для внутреннего суда.
«Нет, – думал я, это не душевный понос, не трусость, не мелкотравчатость. Я всё делаю верно. Я – мужественный человек. Гражданин, в конце концов!.. Где же моё гражданское мужество? Ведь этому самодуру Степану все-таки сумел сказать правду. Коряво, не отесано, но такая уж, наверное, она и есть, моя правда… Пусть знает, что и мы, люди простые, слабые, без поддержки штанов власть предержащими, не лыком шиты. И бояться мне нечего. Чего или кого мне бояться?!. Собаки чёрной?.. Пса этого помойного, которого пусть с почестями, но всё-таки давно погребли мои земляки – в землю сырую закопали…На веки вечные! Хотя это всё – легенда, мифы, суеверия. Темна ещё слобода наша. В ХХI век одной ногой вступила, а хвост в средневековье увяз. Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»
За окном послышалось какое-то царапанье и чьё-то воспалённое дыхание – будто запалился кто-то от быстрого бега.
***
Отбросив плед, босыми ногами встал на холодный пол. Грипп уже валил меня с ног. Штормило и бросало по сторонам, как пьяного матроса на утлом судёнышке в волнующемся море. Чихнул, почесал нос и снова чихнул. Показалось, что в комнате, несмотря на приоткрытую форточку, стало нестерпимо душно. Запахло не то серой, не то палёной шерстью. Повозившись с заедавшей ручкой, я распахнул окно своего кабинета настежь. Шёл ледяной дождь… Он барабанил по подоконнику, а корявая ветка рябины, раскачиваемая ветром, скребла по белому пластику отлива.
Я вгляделся в промозглую ночь – под окном дрожала насквозь промокшая чёрная собака, задрав оскаленную морду к моему освещённому окошку. И в жёлтых холодных собачьих глазах отражались красноватые отблески моего освещённого окна. Это, подумал я, мой вечный страх перед неведомым, таинственным, потусторонним.
– Времена меняются, – гоня от себя прочь ночные страхи, сказал я собаке. – Но вот только мы не меняемся вместе с ними… На что ты надеешься, пёс, в промозглую новогоднюю ночь? Ну, заходи, коль пришёл, бедолага!
На улице, не преставая, лил новогодний дождь. Чёрный пёс, оставляя грязные следы на светлом ламинате пола, нагло прошлёпал к моему письменному столу. И лёг, отекая и сверля меня внимательными жёлтыми глазами.
Я потерял сознание, вырубился из реальной жизни на какое-то время, а когда очнулся, то увидел человека, одетого во всё серое. Удивило меня, что он не снял ни мокрое серое пальто, ни серую шляпу – по всему, торопился доктор. (В том, что это был врач со «скорой», которого вызвала Моргуша, я тогда, проходя пик кризиса своей внезапной болезни, ни на минуту не сомневался). Врач в серых одеждах сидел за моим столом и что-то писал на листке бумаги.
Это было последнее, что я увидел в тот вечер.
…Утром, когда слободской народ ещё не садился за праздничные столы с недопитым и недоеденным «поправлять больные головы», я проснулся на диване, бережно укрытый поверх пледа старым овчинным полушубком. «Моргуша позаботилась, родная тёплая душа, – подумал я о супруге, которая в гордом одиночестве спала в нашей спальне. – Ну, что ж… Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Дай Бог, чтобы не в болезни!».
Болезнь так же внезапно отступила, как и началась.
Я спустил ноги с дивана на пол, потянулся и увидел на столе листок бумаги. Рядом лежала старая перьевая школьная ручка, коих сроду не водилось в нашем доме. А на краю стола синел пузырёк с фиолетовыми чернилами. «Что за чёрт? – сам себя спросил я. – Откуда эти музейные раритеты?».
Накинув плед и ловко перебросив его длинный край через плечо (ну, вылитый римский сенатор времён Домициана), я взял листок в руки, надеясь увидеть список необходимых для лечения медицинских препаратов. Но я ошибся в своём предположении. Серый человек, наставив клякс ржавым пером, нацарапал посредине листа для пишущей машинки: «Срочно вызывают в Москву, к профессору Волохову. Вынужден вас покинуть. До встречи».
ЧАСТЬ II
МАСКА БЕССМЕРТИЯ
«Вы слышали о графе Сен-Жермене,
о котором рассказывают так много чудесного».
А.С.Пушкин. Пиковая дама.
«Посланник сказал: «Своим открытием, если оно станет
достоянием твоей паствы,
ты умножишь Вселенскую скорбь.
Поэтому ты должен умереть».
Шлезвинг Пауль фон Эйтзен, епископ.
Гамбург, 1598 г.
1.
Детище отечественного автопрома, белая профессорская «Волга», уже давно не считавшаяся жителями дома «элитным средством передвижения», осторожно, почти крадучись, въехала во двор и замерла недалеко от парадного первого подъезда.
Двор медленно опускался в июньский вечер и чарующий душу медовый запах цветущих лип, посаженных жильцами ещё в их младые годы. Никто не обратил внимания на въехавшую во двор уже в солидном возрасте, но ухоженную «Волгу» – знали, что это машина профессора Волохова, замкнутого и странноватого, с точки зрения соседей, человека. Двор с незапамятных времён приклеил к Игорю Васильевичу прозвище – «Пан профессор». Хотя ни тогда, ни сегодня Волохов внешне не был похож на известный в своё время стране персонаж из телевизионного кабачка «Тринадцать стульев».
Странное дело, кличку «Профессор» ему дали ещё в Волоховском детском доме, куда в чёрном для страны сорок первом попал ещё немовавший, то есть не говорящий, малыш. Из Краснослабодского дома малютки вместо свидетельства о рождении в тощем «личном деле» мальчика лежала краткая история начала жизни нового человека страны Советов. Фиолетовыми чернилами и каллиграфическим почерком кто-то из сотрудников дома малютки написал: «Мальчик (на вид месяца 3 – 4 от рожд.) найден 18 сентября 1941 года у разбомблённого немцами эшелона с беженцами, в трёх километрах от станции Дрюгино Краснослободского района. При погибшей матери документов не оказалось. Установить личность отца не представляется возможным. Имени у мальчика нет, фамилия неизвестна». Имя ему придумал Василий Хромушкин, директор детского дома, назвав «мальчика без имени и фамилии» Игорем, а фамилию дали «Волохов» – по названию детского дома, эвакуированного в город Волхов. Свою фамилию Василий Петрович дать не решился. Подростком Хромушкин попал под поезд, лишился правой ступни и на всю жизнь остался хромым, оправдывая тем самым свою говорящую фамилию.
Игорёк запомнился детдомовским худеньким, смышленым мальчонкой, любимым занятием которого было чтение книг в неплохой по всем меркам библиотеке сиротского дома. Кличку «Профессор» книгочей получил ещё во втором или третьем классе. С того самого времени она, наверное, и определила судьбу человека, родившегося на Аномалии.
Блестяще закончив школу с золотой медалью, Игорь получил путёвку в жизнь – направление в главный вуз страны, как тогда называли Московский государственный университет. И там Игорь Волохов удивлял седых профессоров неординарностью мышления, свежим взглядом с неожиданным ракурсом на привычные вещи, тривиальные суждения. Была, правда, у талантливого студента, а потом блестящего аспиранта одна странность, которая настораживала идеологических вождей его факультета: парень увлекался чтением сказаний, легенд, мифов, философско-религиозных трактатов народов мира. Нет, точными науками, научными темами, спущенными кафедре в плановом порядке профильным научным комитетом, как и было положено младшему научному сотруднику Волохову, он занимался серьёзно, глубоко, а главное (был такой критерий оценки научной работы) – эффективно. Но всё своё свободное время от «плановых тем» посвящал изучению древних манускриптов и фолиантов.
Как-то его спросили: «Чего ты там ищешь, Игорь? Это ведь всё авторские или коллективные фантазии невежественных в научном отношении народов». – «Ищу то, что Шлиман нашёл в фантазиях гомеровской Илиады», – пожимал парень худенькими плечами. В конце концов, этот «пунктик» парню простили. Знали, что всякий гений, даже непризнанный, сходит с ума по-своему.
Более понятными и, так сказать, приличествующими научному окружению Волохова увлечениями считались альпинизм и автоспорт. Игорь души не чаял в покорении горных вершин, вместе с университетской командой облазил весь Кавказ, в числе избранных (опытных альпинистов) ездил в Тибет, был в Гималаях. А из автоклуба ушёл ещё на третьем курсе. А через несколько лет, за свою первую государственную премию, купил «Волгу», легендарный «аппарат» с прозаическим названием в техпаспорте – «ГАЗ-21».
…Белая «Волга», только что замершая у парадного монументального (когда-то элитного) дома была третья (или четвёртая?) профессорская машина, которая неизменно парковалась с левой стороны арки, у жёлтой стены, пёстро размалёванной ещё в лихие девяностые креативными уличными художниками. Игорь Васильевич ценил в жизни человека стабильность. Он был консервативен в выборе одежды и марки автомобилей – все машины Волохова были «Волги». Разных модификаций (в зависимости от лет выпусков), но – неизменно «Волга». А на голове – причём в любое время года – красовалась чуть надвинутая на лоб широкополая шляпа. Головные уборы, как и профессорские машины, тоже менялись. Но всегда профессор был верен одной модели. Той, которую носил ещё в те старые добрые времена, когда Волохов денно и нощно трудился в «почтовом ящике» – НИИ военного ведомства. Тогда его возила персональная чёрная «Волга» с шофёром, у которого было маршальское выражение лица, а дети профессора – девочка лет шести-семи и очаровательный мальчик, малыш лет двух-трёх – гуляли во дворе дома в сопровождении нанятой семьёй домработницы.
Никто из соседей не обратил внимания на давно знакомую двору белую «Волгу», которая припарковалась на своё привычное, законное место. Игорь Васильевич выключил ближний свет, подфарники, но из машины выходить не торопился – тревожное предчувствие надвигающейся беды не покидало его с самого утра. Теперь, всматриваясь в глубину двора, где на бортике детской песочницы сидел какой-то человек, одетый во всё серое, Волохов серьёзно забеспокоился. Этого «серого кардинала», как про себя называл профессор неизвестного соглядатая, неизменно оказывавшегося в «нужное время и в нужном месте» Игорь Васильевич, приметил давно. Ещё с той памятной поездки на научный симпозиум геронтологов и учёных, занимающихся генной инженерией, в Катманду.
Профессор задумался. А не раньше ли? Непал, Катманду, Гималаи, доктор Брахман, поразивший русскую делегацию своим «выходом» из «биологической оболочки», своего тела… Да-да, сам себе кивнул Волохов, именно с тех пор, он стал замечать за собой «хвост». Сначала решил, что это служба безопасности НИИ Жизни, где он теперь работал, приставила к нему личного охранника. Но вскоре от этой версии пришлось отказаться. Соглядатай в сером появлялся только тогда, когда постоянно работающая мысль профессора Волохова достигала своего пика, высшей точки напряжения, и наступал «момент истины», который Игорь Васильевич называл озарением.
Откуда рядовой охранник службы безопасности мог знать время этого озарения? Нонсенс, подумал профессор. Он будто читал мои мысли на расстоянии. Он вспомнил, как увидел фигуру «серого человека» даже в стенах его секретной лаборатории, где шли эксперименты по поиску путей к продлению жизни человека. Работы по пересадке стволовых клеток добровольцам старый учёный называл для простоты делового общения с коллегами «второй молодостью». Формально он был руководителем именно этого научного проекта. Но уже давно, по сугубо личной инициативе, занимался созданием атманоприёмника. Сложнейшего устройства, которое, по глубокому убеждению доктора технических и медицинских наук Волохова, должно было перевернуть представление человечества о жизни и смерти.
Тогда, в очередной пик озарения учёного, он нащупал «конгениальный», как говорил Остап Бендер, ход в решении конструкции волнового приёмника Атмана, избирательно работающего в нужном Х-диапазоне его кармы.
«Давненько тебя было не видно, дружок! – подумал Игорь Васильевич. – Уж, не болен ли был ты, вечный странник, мой Серый посланник?». Не спуская глаз с серой фигуры незнакомца, сидящего спиной к профессору, Волохов достал из брючного кармана мобильный телефон и в его записной книжке отыскал строчку – «Володя, сын». Телефон светился в темноте кабины, подсвечивая усталое лицо профессора, изрезанное горестными бороздками морщин у рта, старомодная шляпа была глубоко надвинута на крутой бледный лоб. С февраля он не давал себе никакой передышки – только работал, работал и работал. Вкалывал у себя в институте, занимая лабораторию в ночное время, за что приходилось постоянно материально стимулировать ночную охрану НИИ. В своей трёхкомнатной квартире, которая тоже был больше похож на научную лабораторию, он продолжал доделывать то, что не успевал «довести до ума» в НИИ Жизни.
Профессор спешил, вечно боясь не успеть и снова потерять. Это чувство поселилось у него в душе с того самого дня, когда Игорь Васильевич похоронил дочь, широко известную в научном мире доктора технических наук Ирину Долгушину, возглавлявшую в Академии наук России три последних года инициативную группу учёных, занимающуюся проблемами генной инженерии. Ирина, помогавшая отцу, как она сама говорила, в «коварном деле» (так она в шутку называла создание атманоприёмника) неожиданно умерла от скоротечного рака лёгких. В самом расцвете своих физических и духовных сил. Меньше чем за месяц проклятая онкология превратила тело дочери в серо-жёлтую мумию, уничтожив молодое и, как казалось ещё вчера, цветущее тело женщины. Тем страшнее и нелепее на похоронах над неузнаваемо постаревшем теле Ирины звучали слова коллег-академиков, что «именно она, Ирина Долгушина, ближе всех подошла к открытию тайны второй молодости человека».
Хоронили Ирину на одном из «элитных кладбищ» (профессор считал, что слово «элитный» по отношению к погостам употреблять «в высшей степени кощунственно»). Стоял морозный январский денёк, к обеду из-за рваных облаков выкатилось ослепительно яркое солнце, но за спиной мужа Ирины, член-кора Петра Георгиевича Долгушина, профессор опять увидел фигуру загадочного «Серого кардинала», как он стал называть вечного филёра. Лица незнакомца, одетого во всё серое с головы до пят, он тогда не разглядел. Не до того было на кладбище…Но и позже, когда понял, кто послал его в наше время, зрительная память будто не желала (или не могла) зафиксировать лица Серого посланника.
…Июньский вечер во дворе старого дома, которые московские старожилы всё ещё называют «сталинскими», был окутан запахами цветущих лип и поперчён острыми выхлопами многочисленных разномастных авто, заполонивших всю полезную (и бесполезную) часть дворовой территории. Профессор, нажимая на вызов, подумал, что сейчас, когда его лицо подсвечено дисплеем телефона, «Серый кардинал» обязательно обернётся к его машине.
– Есть! – даже глуховато вскрикнул Волохов, когда увидел, что человек в сером, сидевший в детской песочнице, обернулся и поймал в фокус своего взгляда профессорскую «Волгу». – Сиди, сиди, голубчик! Если ты фантом, мой глюк, как говорит Володька, то никто, кроме меня, тебя и не увидит. Но ты ведь реальная, а не виртуальная фигура! Я-то знаю, парень… Вот сейчас и проверим экспериментально.
Вызов шёл исправно, но Владимир трубку не брал.
– Опять своего очередного маньяка ловит, – вслух сказал Волохов. – Ну, сынок, возьми, дорогой мой человек, трубку! Ну, пожалуйста… Только не сбрасывай вызов…
Владимир, сын Игоря Васильевича Волохова, был, как утверждали его немногочисленные друзья, «чуток не от мира сего». В этом не раз убеждались на кафедре экспериментальной психонавтики Московского госуниверситета экономики, статистики и информатики. Аспирант Владимир Волохов не столько удивлял, сколько постоянно раздражал научного руководителя своими нестандартными подходами к предложенным «плановым темам» по изучению проблем Внутреннего Космоса.
Три года аспирантуры пролетели для Владимира, как один день. Но когда аспирант уже почти вышел на защиту кандидатской диссертации, Волохов-младший неожиданно для всех ушёл из аспирантуры, забросил на антресоли готовую диссертацию и через месяц, переболев, как и положено в таких депрессионных случаях, русской тоской, пришёл в районный военкомат с нехитрыми пожитками в модном рюкзачке. На тот момент призывной возраст парня ещё не истёк, и кандидата в мастера спорта по самбо с радостью тут же призвали в воздушно-десантные войска.
Волохов-старший и пальцем не успел пошевелить, чтобы вернуть сына из солдатского строя в строй научный. «Ладно, – решил Игорь Владимирович, – пусть перебесится! Невелик срок разлуки с наукой будет – всего лишь год. Возмужает, повзрослеет, поумнеет – и всё вернётся на круги своя».
Но, демобилизовавшись, Володя удивил его ещё больше – устроился на работу в полицию. Причём, пошёл на должность простого оперативного работника в отдел по борьбе с организованной преступностью. И не принимал никаких доказательств мудрых людей в бесперспективности своего случайного, как это казалось окружающим, выбора. Хоть кол у него на голове теши! Игорь Васильевич сперва пытался вернуть «этот упрямый локомотив с запасного на свой основной путь», но потом, в суете сует, достижений и ошибок, побед и неизменных потерь, только рукой махнул на «упёртого» сына. После мужского разговора с сыном по душам, понял, что решение Володи было мужским, осознанным, обдуманным и твёрдым, как кремень. Главное, успокаивал он сам себя, что Володька занимается любимым делом, если дело по поимке преступников и негодяев вообще можно было назвать «любимым».
Профессор ещё раз нажал на кнопку вызова. Владимир взял трубку.
– Володь, – тихо сказал Волохов, – это я.
– Да, пап.
– Он опять здесь…
– Кто – он? – с плохо скрытой иронией спросил сын.
– Ну, этот… Серый кардинал.
– Серый? – переспросил Владимир. – Он у тебя, как в детской загадке: зимой и летом одним цветом.
Профессор снял шляпу, вытер пот со лба и водрузил головной убор на место.
– Ты, пожалуйста, не иронизируй… У меня у самого яда хватает. Ты давай, товарищ старший лейтенант, приезжай домой. Тут его и увидишь…



