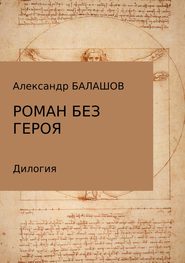 Полная версия
Полная версияРоман без героя
В тот день, когда он меня встретил в Курске, Петра Карагодина уже знали, как верного большевика, героя гражданской войны. Покинутый Любовью, он вернулся в Слободу другим человеком.
…На маленьком вокзале станции Дрюгино, где сошел с переполненного вонючего вагона человек в серой солдатской шенели, держа за руку чернявого тихого мальчика, он зашел в станционный буфет. Заказал себе бутылку дешевого яблочного вина, которым из-под полы торговала рыхлая баба – вокзальная буфетчица. Гришке взял кусок ситного хлеба и кружку чая с сахарином. За долгую дорогу оба похудели, осунулись.
Петруха пил кислое вино, не хмелея от этой бурды, с ненавистью глядя на изрытое оспой лицо буфетчицы.
– Ишшо, что ли? – не поняла колкого взгляда буфетчица.
– Спирт есть? – прохрипел Петруха.
– Пей винцо, касатик, – подмигнула ему буфетчица. – Ща другого сорту плесну.
– Ну, плесни…
Буфетчица дрожащей рукой налила ему немного в жестяную кружку.
– Вот это винцо! – сказал он, вытирая рот рукавом колючей шинели. – А сперва, признайся, тетка, что нассала. Я уж хотел тебе про меж глаз врезать, для поддержания революционного порядка. Теперича не буду.
– Господь с тобой!.. – замахала руками буфетчица, посмотрев опасливо на пудовые кулаки Петрухи. – Ребенок-то – твой?
– Мой, – ответил Карагодин. – Аль не видно?
– Да видно, видно, – быстро согласилась буфетчица. – Темно тута – поди разбери, на кого похож…
– В отца, а не в проезжего молодца! – сказал Петр. – Пойдем, Гриня. Нам еще пешки тащиться через всю Пустошь Корень. Путь, сынок, не близкий.
Глава 25
«СИНДРОМ КАРАГОДИНА»
Воспоминания Иосифа Захарова, слободского краеведа и литератора
С раннего утра я ждал приход друга. Смотрел в окно, смотрел, как краснопузые снегири перелетали с яблони на яблоню, оживленно обмениваясь птичьими сплетнями. Включил радиоприемник. Русский хор пел «Над окошком месяц…». «Шапки долой, Россия! – вспомнился мне Астафьев. – Есенина поют!».
Я полистал вчерашнюю «желтую прессу», пробежался глазами по сплошной «светской хронике», – кто из «див» и ярких представителей «попкультуры» развелся, кто все еще разводится и кто с кем, в конце концов, остался, – усадил себя за роман. Через четверть часа я уже с головой нырнул в прошлый век и чужие жизни.
К обеду зашел Пашка.
– Что делаешь? – спросил он, разуваясь в прихожей.
– Всё скриплю пером гусиным… – ответил я неопределённо. – И вином не магазинным в прошлом веке душу грею.
– Плесни тогда и мне! – попросил Пашка, дуя на озябшие руки. – Душа свернулась от холода… Никак ее за хвост не поймаю.
– Это ж в романе…Виртуальная реальность, так сказать…
– А в реальной виртуальности винца – нет?
– Есть, – ответил я. – Покупное… Извини, старая добрая «Анапа». У настоящих писателей одна хроническая болезнь…
– Знаю, знаю, – кивнул друг.
– Хроническое безденежье… А ты что подумал?
– Плесни…
– Безденежья?
– Не накаркивай себе болезни.
Я разрезал последнее яблоко пополам: ему – половина и мне половина, но, как хозяину, с червоточинкой. Молча чокнулись, выпили вина нашей юности. Без удовольствия. И даже без ностальгии. Потому что нынешние буржуазные подделки с ностальгией и прочими романтическими прибамбасами пить невозможно.
– А знаешь, – сказал я Пашке. – Если бы Люба с Щербатым не сбежала от Петрухи Черного, его болезнь так бы и осталась вялотекущей… Ну, падал бы периодически от судорожных припадков, так где сейчас здоровенькие? И не было бы ни похорон пса, ни черного обелиска в духе Ремарка над могилами двух Карагодиных… Не было бы лжи во спасение и патетического вранья со страниц «Краснослободских зорь».
С душевным подъёмом после только что написанной главы «Любовь» я сказал очередную расхожую глупость:
– Любовь – врачует душу…
Пашка молчал, потрескивая сочным яблоком.
– Ты плохо читаешь «бурдовую тетрадь» врача Фоки Альтшуллера. Петр Ефимович не был душевнобольным. Это было нечто другое… Такая особая социально-психическая болезнь. Понимаешь? – Он доел яблоко. – Ею болели, болеют и будут болеть… Она, в принципе, неизлечима. И ею заражаются люди всех классов и сословия: от дворника до министра. Хотя, думаю, что и отцу не удалось избежать синдрома Карагодина.
– Но, согласись, Петр любил свою жену! – пафосно и от того не искренне и не убедительно возразил я. – Я внимательно изучил записанный Лукичом стенограмму его же рассказа под гипнозом… Кое-что добавил, конечно… Домыслил художественно, так сказать. Но настоящей литературы без этого не бывает. Наше поколение Отечественную войну 1812 года изучало не по учебнику истории, а по «Войне и миру» Толстого. И попробуй скажи, что граф Лев Николаевич, в этой войне не участвовавший, ошибался, когда трактовал тот или иной образ…
Я перевел дух, потянулся к бутылке.
– Так выпьем за любовь, которая исцеляет всё, кроме, увы, синдрома Карагодина.
Доктор Шуля опустил очки на кончик своего о швейковского носа, исписанного мелкими красными сосудиками закаленного антиалкогольными войнами пьяницы, сказал с дидактическими нотками:
– Беспричинная восторженность, как и беспричинный страх, гневливость, злопамятство – это тоже синдром Карагодина…
– За синдром!
Мы выпили.
– Но ведь встреча с Куцинской была не случайна. Не бывает случайностей в жизни. Это известная закономерность: не было бы Любочки, не было бы и красного героя Щербатого, революционным сказкам которого поверила красавица. И другая бы жизнь сложилась у мелкого беса Петрухи Черного.
Пашка поискал глазами, куда бросить свой огрызок, не нашел пепельницы и торжественно водрузил обкусанное яблоко на мою стопку бумаги, которая, как известно, всё стерпит.
– Но в том-то и дело, что все было. Стоит только убрать одну бабочку из прошлого – и хана настоящему. Всё развалилось на атомы. Ход истории покатился по другому руслу… Лучшему или худшему, но по дру-го-му.
Эту фразу он проговорил с интонацией старого университетского профессора, которому до смерти надоели банальности школяров.
– Я же гипотетически, так сказать…
– «Гипотетически»… – передразнил он. – Откуда только таких глупых наукообразных слов набрались, господин начинающий писатель?
Он доел яблоко и сам наполнил наши стаканы.
– Правильно сделал Степка Карагодин, наш незабвенный Чертенок, что снял тебя с исторической должности главного редактора местного брехунка. И даже места школьного учителя истории не дает…
– Это почему? – обиделся я и отодвинул от себя стакан.
Альтшуллер покачал головой:
– Да потому, что даже круглый троечник на истфаке, что история не имеет сослагательного наклонения. «Было, было, было – да прошло…». Вот эпиграф к жизни настоящего историка. Выводы будут делать политики, под дудку которых пляшут авторы учебников по истории.
Конечно, он прав – Пашка Шулер! Прав, как всегда, зараза… Кажется, только он при эпидемии нынешней социальной истерии избежал «синдрома Карагодина». Или принимает противоядие в виде вот этого дешевенького винца.
Я выпил один, не чокаясь с Пашкой.
– Ты что-то долгенько на первой мировой застрял… Основные события в «Записках мёртвого пса» дальше…
– Не дает Чертенок сосредоточиться, – сказал я. – Степка из области вызвал какую-то ревизию КРУ во главе с бывшим начальником УБЭПа. Ковыряют, как я расходовал редакционный бензин за последние пять лет… Надеются, что торговал ГСМ налево и направо. Про бракованную спонсорскую бумагу вспомнили. Копают землекопы…
– А ты зря смеешься, – посерьезнел Фокич. – Наш глава всему голова. Сажать собираются.
– Как это – сажать?
– Да просто. Напишут неподкупные ревизоры то, что надо Чертенку, свидетелей найдут. Из твоей же конторы. Свидетелей много находится, когда их по-настоящему ищут. Потом тихой сапой дело в суд передадут…
– Постой… Средневековье какое-то.
– История человечества идет, мой друг, по кругу, а не по спирали. Сейчас мы в круге, параллельном времени, когда инквизиция подменяла и нравственный, и юридический законы.
– А чего же они от меня хотят?.. – печально глядя на почти пустую бутылку, пессимистически спросил я сводного брата своего.
– Чего, спроси, хочет Степан Григорьевич… – он долил остатки крепленной «Анапы» себе в стакан.– Да ты же, чего… Покорности. Не лояльности – ты же не Евтушенко и даже не Дарья Донцова, – а элементарной рабской покорности. Смирения крепостного холопа. Вывалившегося из ряда гордеца. Ух, как они, брат, ненавидят гордых людей…
Доктор Шуля выпил магазинную бурду залпом, как противную, но необходимую для выздоровления микстуру.
– Я всегда говорил, что гордыня – наказуема, – пессимистически оценил я содержание, точнее – полное его отсутствие – в винной бутылке.
– Да не гордыня это, в том-то и дело, что не гордыня. Гордость для них звучит так же, как непокорность. Как Правда. Россия задохнется от удушья бездуховности, захлебнется меркантильностью в предложенном нам Западом капитализме, Европейском или любом другом союзе, в ВТО, КБО, у черта или ангела за пазухой, – если не будет трех главных ориентиров: Любви, Добра и Правды. Нет этих векторов движения – Россия мертва. Ни голод, ни войны, ни сверхсовременное оружие не в силах разрушить Русь-матушку – не родился еще такой витязь в тигриной шкуре… А вот убери с пути нашего этих трех сестер – и всё! И нет России. Нет русского человека. И никакие государственные подачки, премии за второго ребенка не спасут нацию от вымирания. Тогда им и наши слободские земли выкупать не придется. Бери – не хочу. Мертвые не взыщут… Понимаешь?
– Я одно понимаю: прады боялись и боятся всегда, если правда не на стороне власти… Я ведь помню, Паша, как диссидентов усмиряли… Но нынче диссидентов нет.
– Времена, конечно, меняются… Но вместе с ними меняются только методы, но не цель. Методы, разумеется, не те, что при «дорогом Леониде Ильиче»… В мордовские лагеря тебя не погонят. Тебя посадят, как уголоника. И не за гордыню, а все то же банальное правдоискательство. Сладок этот плод во все времена. Потому что – запретен. Степан потоньше, поумнее своих знаменитых родственников будет. Пришьют тебе преступную халатность, растрату или чего там – и в кандалы. И на каторгу. Да на уголовную, не на политическую, где «университеты» проходят… Глядишь – и склонилась в поясном поклоне еще одна русская бошка правдолюбца. А не склонилась, так отскочит. Нет головы – нет проблемы.
– А суд, наш самый гуманный суд в мире? А правоохранительные органы? Разговоры о гражданском обществе, правовом государстве?..
– Господи, Иосиф… Все от человека, все – в человеке. Сейчас ведь не политическая, а , так сказать, нравственная инквизиция. О, времена, о нравы… Кто осудит нравственную позицию сильных мира сего? Не родился в России еще такой прокуратор Пилат.
И тут я понял, что все эти дни только неясно мерцало серди последних событий, случившихся со мной. Паша танцевал от печки и с необычайной полнотой обозначил в своем монологе те мотивы, которые меня и привели к переосмыслению жизни. Я-то, дурак, думал, что своими статьями, позицией, борьбой, наконец, я приближаю новый день молодой России, что народ мой многострадальный и талантливый от природы, будет жить достойно хотя бы в ХХI веке… И наконец – прозрел, как щенок в сенном сарае. Увидел, что, заступаясь за попранную Правду, я все-таки еду к русской печке!.. Я возвращаюсь к ней. И на душе становилось теплее, впервые за всю эту лютую зиму.
– Они хотят, чтобы я не писал правды. Потому что истины, мол, не знает никто… А разрешение – знать или не знать людям правду – выдают исключительно главы, избранные «самым демократическим в мире путем».
– Оригинал записок моего отца «они» хотят… Вот что. Чертенок знает, что первая и самая интересная во всех отношениях для них часть бурдовой тетради – у тебя, а вторая часть – у меня. И теперь это не просто записки сумасшедшего. Это, мой дорогой историк, – документ времени. Свидетельство против карагодиных. Понял, любитель интеллектуальной русской рулетки?
Доктор достал из кармана сигареты, закурил, усевшись на край письменного стола.
– Он ведь и мне условие поставил.
– Какое? – думая о своем, грустно спросил я.
– Говорит, хочешь заслуженного рвача России получить к пенсии – отдай копию «Записок»… Тогда точно получишь. Он, оказывается, в областной комитет по здравоохранению должен характеристику-рекомендацию мне писать… В медицине – ни рылом, ни ухом, а характеристику на заслуженного рвача подает он.
Я прикурил от его сигареты.
– А мне что делать прикажите, доктор?
– «Каждый выбирает по себе: женщину, коня, вино, дорогу… Дьяволу служить или же Богу, каждый выбирает по себе», – проговорил он – Ну, я пошел, Захар. «Анапы» у тебя больше нет. Греть обледеневшую в мерзости душу больше нечем…
– Зачем приходил? – спросил я, провожая друга.
Он грустно улыбнулся:
– Я же сказал: душу у писательского очага погреть…
У порога он обернулся.
– Да, сегодня по календарю международный день поддержки жертв преступлений. Заодно и отметили праздник.
Глава 26
ПОЕТ ЕЩЕ РОССИЯ
Продолжение воспоминаний Иосифа Захарова
Он ушел, а мне нестерпимо захотелось надраться. Да так, чтобы не помнить, как допивал последний стакан. Бывали времена трудней, но, кажется, и впрямь, не было подлей.
Говорят, нет худа без добра. Правда, добра было с гулькин нос. Но теперь я знал, ЧЕГО хочет от меня власть. Молчания. Покорного молчания. И никаких эксгумаций! Не нужно, мол, ворошить прошлое! Не позволим к святыням нашим даже прикасаться, даже дышать на них всяким там эксредакторам!
Фока Лукич не был сумасшедшим, требуя эксгумации могил Григория Петровича и Петра Ефимовича Карагодиных. Годы, сожженные в сумасшедшем доме, – это была его плата за правду.
Я перебрался на кухню, размышляя о «синдроме Карагодина», наследственных или приобретенных его корнях, обшарил все свои «похоронные места, надеясь обнаружить счастливо забытую мною чекушку. Сухо было во рту. Сухо было и в заповедных местах.
Как хорошо, что врачи под смерти без покаяния все-таки запретили мне пить водку. И как невыносимо стало жить после этого запрета… « Стакан сухого красного вина, Иосиф Климович!… Это теперь ваша программа-максимум!» – про себя передразнил я Гиппократа, главного врача Краснослободской ЦРБ. Нет, правильно говорит Пашка: для русского человека сухое вино, что сухое дерьмо. Но ему, относительно здоровому человеку, не понять моих «послевкусий». Он, по существу ставший моим сводным братом, так и не стал романтиком. Он – прирожденный циник. А циникам никакие синдромы, даже карагодинские, не страшны. Отец его умер, протянув после психушки немного. Но – в своей постели. Не расстрелян. Не реприссирован. Не страдалец, не борец, не боец, не герой… Сплошное отрицание. О какой романтике тут вообще можно говорить?
В своей холодной холостяцкой постели умрет, наверное, и Пашка. И он – сплошное «не». Нет, не герой, не боец и не борец.
А у меня, что – сплошное «да»? Но ведь утвердительно можно отвечать на подлые вопросы. И это будет подлое «да». Не это ли «да», которое своей готовностью или молчаливое согласие, что воспринимается тоже как «да», в конце концов и погубит то, о чем с такой неизбывной любовью пел Есенин?
Я включил радио. Хриплый голос с неизбывной русской тоской выводил:
Толька-а-а рюмка водки на столе-е-е…
«Шапки долой! – подумалось мне – Россия еще поет. Значит, не всё ещё потеряно».
Я слышал, как, скрипнув, отворилась входная дверь – пришла Моргуша. Молча положила на стол историческую по нынешним временам редкость. Раритет просто – письмо от младшего сына Сеньки.
Семен, несмотря на свой Никий социальный статус студента, живет, как кот: сам по себе. Он заканчивает в столичном вузе свой «ликбез программиста», как он сам называет престижный факультет, требует не столько любви и отеческой заботы, сколько денежных переводов. Он готовится стать тем не знаю кем – каким-то «менеджером». Я его понимаю, хотя ничего не понимаю, что это такое. И слово-то какое-то поганое, не нашенское… Но, думаю, что из Сеньки получится очень хороший менеджер. Лучше его из меня и его матери, моей жены, никто деньги не вытрясал. Порой отправляли все. Чего нам, коль живем на горке, то и доедаем последние корки… Но сегодня я – «скрытый безработный». По крайней мере, такой штамп стоит в моем медицинском страховом свидетельстве. От кого скрытый? Зарплаты за «парафраз» «бурдовой тетради» мне не положили. Боюсь, что сегодня даже с Сеньке, с выдающимся талантом менеджера-вышибалы, придется переходить в класс вагантов.44
Пашка безгонорарное литературное творчество называет «запретом на профессию». Профессия, по его мнению, это то, за что платят деньгами или хотя бы по бартеру продуктами питания, как при военном коммунизме. Это значит, что история моей жизни еще находится не на параллельных курсах с прошлым временем, когда за писательство платили. И даже хватало тех денег на пропитание.
Сославшись на плохое самочувствие, я отправился в постель, думая. Что если бы умер сейчас, то ничего бы в мире не изменилось… Нет, изменилось – обрадовался бы Степан Григорьевич. Радостный Чертенок с болезненным чувством безотчетного восторга – это дурной знак.
С тем и заснул, нервно подрыгивая ногой.
Проснулся перед ужином, в хреновом настроении, хотя специально встал с правой ноги. Мне приснилась большая черная собака, которая больно, до самой крови укусила меня за мягкое место. В туалете открыл «знаменитый сонник Миллера» (то ли немца, то ли, какого-то неизвестного мне мудрого, как всегда, еврея) и понял, что черная собака – это или моя болезнь со сладким названием, мой любимый мэр Степан Григорьевич. Другого не дано.
Я посмотрел в окно своего дома, построенного еще моим леворуким отцом и безногим инвалидом, дядей Федей. Взгляд остановился на заснеженной вишне, умершей еще прошлой зимой. И я чуть не заплакал от странной мысли, что вишневые сады остались, а Чеховых – нет. Ну ведь были! И был его «Черный монах». Чего же сейчас тиражом под полмиллиона, как бесконечный мрачный сериал, издательства шлепают эти «Приключения Бешеного» с бандитскими рожами и черными «Люгерами» на рекламных глянцевых обложках? А я, вооруженный Словом и «Евангелием от Фоки», записками честного русского доктора с нерусской фамилией, терзаемый своими вечными страхами, хроническим безденежьем, выходит, так и не смог не только посадить дерево – сохранить сад, посаженный моим отцом… Вымерзли вишни в лютый январь 2006-го.
Где же тот царь сегодня, который, восприняв правду литературы, как жизни, воскликнет уже однажды сказанное: «Всем досталось, ну а мне – больше всех»?..
Или это тоже придумали те, кто стрижет свои купоны при любой власти, выпуская лакированные биографии царей и приближенных к «августейшим именам» вельмож? Они ведь тоже частые гости на Валтасаровых пирах45, по праву занимая отведенные им места.
Но это всего исторические аллегории. Не более… Хотя, как знать. Новый век еще только начинается… А на стыке веков, как и при столкновении двух гранитных глыб, и не такие искры из глаз сыплются.
Мои грустные рассуждения оборвал телефонный звонок.
– Это квартира Захаровых? – официально спросил чужой, но знакомый голос секретарши Степана Карагодина.
– В самую точку, – ответил я.
– А Иосифа Климовича можно пригласить?
– У аппарата…
– Сейчас с вами будет говорить Степан Григорьевич Карагодин, глава района…
В трубке что-то защелкало, потом без всяких приветствий и других условностей. Степан спросил:
– Ну, что? Всё пишешь?
– Пишу… – ответил я.
– А не боишься?
Я поинтересовался:
– Кого, Степан Григорьевич?
– Да вообще – не боишься жить?
– Жить не боюсь, – ответил я.
В трубке повисло напряженное молчание.
– А умереть? – спросил Карагодин. – Или сесть? По печальным итогам редакционной ревизии? – Он лающим смехом засмеялся в трубку. – Не знал, дорогой однокашник, что ты уголовник.
Я бросил трубку. Не сел, а осел в кресло, чувствуя, как страх карагодинским черным псом шевельнулся в груди, готовый вот-вот завыть от тоски и ужаса.
«Зачем же он звонил? Зачем? Чтобы сказать то, что я и так хорошо знаю?».
Мой любимый кот, заглянув мне в глаза, не стал запрыгивать на колени. Он выгнул спину дугой и обошел кресло на почтительном расстоянии – на всякий пожарный случай.
И тут я понял, зачем Чертенок звонил мне. Он сам – боится. Боится еще больше меня. Не публикации боится, не огласки, что, впрочем, естественно для человека его социального статуса.
Степан боится Слова. («Ну, что? Всё пишешь?..»). Страшится моей рукописи. Потому что рукопись – это застывшее Слово. Истинное, верно найденное Слово – всегда правдиво. И в этой Правде – Бог. Если уж Истина нам не подвластна, то к Правде-то мы Им допущены. Это Его сила. И сила наша. Потому-то рукописи, как утверждал писатель-пророк, действительно, не горят… Горит бумага. А Слово Правды ни на костре палачей, ни в чугунной печурке, ни в жарком пламене домны не сгорит… Не может, коль оно уже отпечаталось. Запечатлелось, так сказать, вселенской Памятью.
Это мне опять соврали лжепророки, что есть «вещи, правды о которых мы не узнаем никогда». Это неправда. Ложь во спасение псов предержащих… Можно обмануть соседа, ближнего и дальнего своего. Но нельзя обмануть Бога. Никому, даже очень влиятельному псу, не дано вырвать хотя бы страничку из своего «дела», которое хранится вечно. И воздастся нам за каждое слово, сказанное. И за каждое дело, сделанное или не наоборот – не сделанное на земле.
Глава 27
ПОЧЁМ ДЕТСКИЕ РАДОСТИ
Серые будни безработного литератора Иосифа Захарова
Сегодня – воскресенье. Хотя что это значит для меня? Все дни календаря, черные, красные, зеленые, стали для меня одинаковыми – бесцветными.
Но сегодня – денежное воскресенье. За сценарий новогоднего утренника, который я написал по просьбе Маргуши для её детского сада, мне заплатили «аж» 300 рублей. Старший методист, крупная бабенка с лицом «моей» станционной буфетчицы, с каменным лицом долго читала шестистраничный труд. Потом тяжело вздохнула и сказала через губу:
– Дед Мороз у вас какой-то, мягко говоря, странный…
– Дед Мороз как Дед Мороз. С красным носом старого алкоголика, – похолодел я сердцем, чувствуя, как отдаляется от меня обещанный гонорар.
– Вот именно – алкаш какой-то, а не Дед Мороз! Где традиционное «раз, два, три, ёлочка, гори»?
– Пора уходить от штампов…
– А почему он говорит Снегурочке, малолетней внучке своей… – она стала лихорадочно листать листочки, потеряв «проблемное место». – Почему он говорит ей, это, заметьте, при всех Зайчиках и Снежинках: «Прилетит к нам голубой, в вертолете и бесплатно покажет…».
– Что покажет? – полез я за очками.
– Это я у вас хотела бы спросить… – повысила голос методист. – Это вы написали… Какой еще «голубой» прилетит к детям на праздник? И что он бесплатно покажет?
Я взял сценарий, нашел нужную строчку.
– Это, простите, опечатка… Принтер старенький…
Я поправил очки, откашлялся:
– Тут следует читать: «Прилетит к нам волшебник запятая в голубом вертолете и бесплатно покажет кино…». Как у Успенского.
– Так исправляйте!
Я исправил.
– А это?
– Что?
– Баба Яга у вас пишет заявление Змею Горынычу о приеме ее в пионеры… Так?
– Так…
– Это историческая неправда!
– Это сказка. Новогодняя сказка. Там разрешается.
– Даже в сказках должна быть правда. Никаких пионеров давно нет.
– Потому моя Баба Яга и просится…
Она брезгливо отодвинула от себя сценарий.
– В общем, мы не в восторге, Иосиф Климович! Разоблачительные статьи у вас раньше лучше получались…
– Простите, другой жанр, так сказать… – извинился я.
Но конвертик с тремя сотнями мне все-таки выдали, застав расписаться в двух ведомостях. «Баланс Господа Бога, – подумал я, пересчитывая на улице деньги за детское творчество. – Сперва кнут, потом пряник. Или наоборот?..».
Дома Маруся, истосковавшаяся по рынку, никакой критики в адрес своего руководства не приняла.
– Ты пиши почаще то, за что платят, а не то, за что с работы выгоняют, – назидательно сказала она. И зная мой несносный характер «человека с подвижной нервной системой», поспешила загнать своего полкана в будку.
– Ладно, Захарушка!.. Не обижайся. Придет Паша, скажи, чтобы меня дождался.
– Это с какой такой радости? – спросил я.
– Обмывать твой гонорар будем…
Эта сакраментальная фраза несколько примирила меня с серыми буднями досрочного пенсионера без пенсии, плохо «скрытого безработного» – еще не заваленного сырой землей-матушкой.



