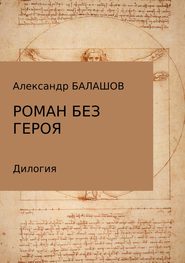 Полная версия
Полная версияРоман без героя
Тиран и его жертвы. Есть ли незримая связь между палачом и его жертвой? Безусловно есть. Но почему она не распадается и только укрепляется с веками? Почему она так живуча, начиная с тёмного средневековья и до наших просвещённых дней?
Властелин и вассал: неужели жестокость властелина и есть та верёвочка, которая заставляет жертву не просто покорно класть голову на плаху, но и любить (да-да, души не чаять!) в своём душителе, гонителе и палаче? Вот в чём вопрос, загадка любой власти! Кто её разгадает, тот и на коне власти. Тот всегда будет над толпой. Он будет легко, используя извращённое представление людей о «сильной руке» (без неё, мол, и власть не власть) превращать массы в бессловесную скотину, в быдло.
Когда Карагодин вошёл в гипнотический транс, я спросил его:
– Что ты видишь?
– Вижу войско царёво… Идут, идут пешие, едут конные… А рядом с ними – огромный чёрный пёс с желтыми горящими глазами… Но они пса этого не видят.
– Они говорят между собой?
– Да, говорят, что надобно исполнить царскую волю и передушить всех жителей этих городков…
– Говорят, зачем нужно это сделать?
– Да, говорят, чтобы никто не знал тайны приближения царя во главе войска.
– А что делает народ? – спросил я.
– Народ молиться…
– О пощаде?
Наступила пауза, после неё Карагодин продолжил:
– Нет, не о пощаде… Народ возносит горячие молитвы о здавии заступника, царя-батюшки.
– А видишь ли ты самого царя?
– Да, вижу… Он подъехал к храму, к молящемуся за него народу на вороном коне, за ним всюду следует чёрная собака, очень похожая на ту, которую я убил, но не добил в замке…
– Царь говорит что-то народу или просит у него прощения?
– Да, говорит… Он говорит: «Народ, скажи, справедлив ли мой приговор?
– А что ему народ отвечает?
– Кричат из толпы: «Дай бог тебе долго жить, наш батюшка-царь!»
– Не видишь ли сейчас какой казни?
Опять повисла паузы, но ненадолго.
– Вижу, вижу казнь, – оживился мой пациент. – На колу сидит боярин, умирает в муках нечеловечьих…
– Спроси его, проклял ли он своего мучителя?
Карагодин на минуту замолчал. Потом лицо его посветлело от непонятной радости.
– Нет, он не проклинает своего мучителя!.. Он, глядя в небеса, хрипит: «Боже! Помоги царю! Боже, даруй царю счастье и спасение!»
Завершив сеанс, я задумался над тем, что услышал от испытуемого. И пришёл к выводу, что крайняя жестокость правителя выступает как подтверждение неограниченности его власти. Тем самым убийства, в том числе собственных сторонников, массовые казни оказываются не столь уж бессмысленными деяниями, хотя, пожалуй, далеко не всегда осмысленными поступками правителя. То, о чём рассказывал больной властью Карагодин (весьма серьёзный симптом неизлечимой болезни), были своего рода символическими акциями, взывающими к инстинктам толпы на уровне иррационального. Я пришёл к выводу, что подобные акции заболевшего властью на языке древних инстинктов, стадного чувства толпы утверждают право индивида на власть.
– Вот, возьмите, доктор… – как-то после очередного сеанса гипноза протянул Пётр золотое кольцо.
– Я этого не видел! – возмутился я подношению. – Если повторится, то не будет никакой эвакуации вместе с полевым госпиталем. Фронт плачет по таким героям.
Он попытался поцеловать мне руку, но я ее вовремя отдернул.
– Вот увидите, я вам еще очень и очень пригожусь, доктор, – прошептал больной. – Чую это нутром. А нюх у меня почище, чем у пса охотничьего.
Он послушно лечился, выполняя все предписания и назначения.
И настал день, когда Карагодин потребовал:
– Выписывайте! Я здоров. На мне вообще всё, как на собаке, зарастает… От раны ротного и следа уже нет. А падучая, кажись, вовсе прошла. Сеансы ваши, видать, помогли, ваше благородие.
В тот же день он отбыл в свой полк.
Каково же было мое удивление, когда через месяц я случайно встретил своего земляка в восьмой армии, которая успешно теснила австро-венгров за реки Сан и Дунаец в Галицийской битве.
Восьмая Армия под командованием генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова сдерживала в Галиции напор четырех австро-венгерских армий. Положение брусиловцев было аховым. Генерал просил помощи, поддержки боеприпасами и провиантом, но в ставке его не слышали.
Это потом все, с кем приходилось говорить о Брусилове, вспоминали только его знаменитый прорыв в 16-м году. И мало кто вспомнил его блестящую победу в Галицийской битве. И уже мало кто в советское время знал, что Алексей Алексеевич в мае 17-го был назначен верховным главнокомандующим русских войск. А с 1920-го служил в Красной Армии. Последние годы жизни – инспектором красной кавалерии. Умер Брусилов тихо и так же тихо, бесславно был погребен в 1926 году.
– Связь! – метался Брусилов по командному пункту. – Нужная устойчивая связь! Без связи мы пропали!.. Это немыслимо сдерживать такую армаду, не имея ни связи, ни снарядов, ни патронов к винтовкам.
Вместо телефонов прибегли к старому, как и войны на земле, способу связи. Связными назначались самые выносливые солдаты, хорошие бегуны. На командный пункт то и дело прибывали вестовые, докладывая оперативную обстановку.
С особым нетерпением он ждал доклада от представителя шестнадцатого полка. В расположении этого подразделения завелся вражеский снайперок. Хваленая – и не напрасно! – цейсовская оптика, привинченная к немецкой винтовке образца 1898 года, позволяла прицельно попадать в противника с расстояния до двух тысяч метров. Причем, калибр патронов был 7,9 миллиметров, в магазин входило пять патронов, и снайпер в минуту мог производить до 12 выстрелов.
О создании своего подразделения метких стрелков, снайперов, Брусилов только мечтал: военная бюрократия была под стать гражданской. Маховик действия раскачивался нудно и долго и путь от рождения идеи до её реализации был не предсказуем и тернист. Даже военный министр Сухомлинов отмахнулся от его идеи: «Вы блестящий кавалерист, Алексей Алексеевич! Вот и совершенствуйте кавалерийскую атаку, а альпийских стрелков оставьте нашим пехотным стратегам».
Наконец-то прибыл вестовой шестнадцатого полка, прапорщик Хижняк.
– Постреливает? – выслушав доклад о потерях, спросил Брусилов.
Хижняк вздохнул, не по уставу протянул с сожалением:
– Вчера восьмого по счёту офицера, капитана Козлова уложил… Прямое попадание в височную кость… Если так дело и дальше пойдет, полк останется без управления, господин генерал.
– Кого сегодня? – хмуро поинтересовался Алексей Алексеевич.
– Штабс-капитана Лужина и поручика Беленького, царство им небесное.
Повисло напряженное молчание. Брусилов хотел было прикурить, но последняя папироса высыпалась. Хижняк это заметил. Энергично достал из кармана галифе золотой портсигар с монограммой на крышке, эффектно щелкнул замочком:
– Пожалуйста, ваше превосходительство!
Брусилов тонкими длинными пальцами пианиста вытащил длинную легкую папироску «Зефир», больше подходившую дымящим дамам, чем боевому генералу, скосил глаз на дорогую вещицу:
– Фамильный?
– Так точно! Отец подарил, когда я на фронт уходил. Талисман. Заговоренный к тому ж. От смерти спасет и от увечья. Домой вернуться очень хочется, ваше превосходительство.
– Откуда родом?
– Тут, рядом наша усадьба. Отец, инвалид, старый вояка, еще в русско-турецкой кампании участвовал. Две сестренки старшие, мама.
– Мама… – задумчиво протянул Брусилов. – Где, интересно, сейчас моя старушка?..
Словоохотливый молоденький прапорщик затарахтел, покрываясь румянцем от своей наглости:
– Никогда не думал, что наши позиции почти у родного дома проходить будут… Вот бы забежать к своим, хоть на минуточку, на секундочку…
– Что, прапорщик, – сказал Брусилов, – в гости хотите, на чаёк с вареньем? – Он наклонился над картой. – Так там же отчий дом?
Вася ткнул пальцем.
– Вот здесь, прямо на берегу Днестра.
– Мда, недалече…
Он затушил папиросу.
– В гости бы и я сходил, – улыбнулся Алексей Алексеевич. – Да сперва, голубчик, нужно попросить незваных гостей убраться восвояси. Не так ли?
– Так точно, ваше превосходительство. Выбьем! Ведь Галицкая земля – русская земля. Еще с конца 10 века в составе Киевской Руси была…
Командующий отошел от карты, задумчиво посмотрел на румяного Хижняка.
– Сначала снайперка обезвредьте, – опять нахмурился Брусилов. – Иначе он мне полк без управления оставит.
Генерал было опять углубился в изучение карты и расставленных на ней разноцветных флажков, но тут же выпрямился, оценивающе оглядел фигуру прапорщика. Его осенило:
– Тебе, аника-воин, лет-то сколько будет?
– Девятнадцать… почти, – покраснев, ответил Хижняк. – Я год телеграфистом служил на телеграфе. Потом школа прапорщиков… Ускоренная.
– А батюшка – помещик или из разночинцев?
– Врач он. Украинских крестьян, молдаван-виноградарей пользует.
Брусилов повеселел:
– Дай-ка, дружок, еще одну твою пахитоску. Уж больно слаб табачок, для дам-с… Не накурился давеча.
– Пожалуйста, – щелкнул портсигаром Хижняк.
– Ты, значит, местный, – разминая папиросу пальцами, размышлял Алексей Алексеевич. – Рельеф местности хорошо знаешь?
– С закрытыми глазами по здешним буеракам могу лазать, господин генерал!.. И ни одной царапины в терновнике не получу.
– Эка ты загнул, братец…
– Родился я в этих местах… Для кого-то проклятых, для меня – родных.
– Это хорошо, хорошо… – задумчиво проговорил Брусилов.– стреляешь ли хорошо? Не охотник сам?
Хижняк замялся.
– Только правду!
– Средне, господин генерал, стреляю. Но суслика, стоящего свечкой у своей норки, за пятьсот шагов из ружья сниму. Пробовал.
– Суслика, – усмехнулся командарм. – Какой-нибудь Фридрих с оптической винтовкой – это тебе, прапорщик, не суслик. Глазом не успеешь моргнуть, как срежет.
– Так у меня портсигар отцовский, заговоренный, – улыбнулся Вася.
– Ах, да… Забыл, прости, – ответил Брусилов задумчиво.
Генерал помолчал, покачал головой, глядя на румяного Хижняка. Вздохнул:
– Я тебя, братец, прошу… По-отечески прошу: возьми с собой головорезов поопытней, и снимите вы, Христа ради, этого Вильгельма Теля хренова… Головорезы-то найдутся?
Прапорщик задумался:
– Есть две подходящие кандидатуры. Унтер-офицер Сахаров, тверской, охотник и Шат…
– Что за Шат? – не понял Брусилов.
– Рядовой Карагодин. Сахаров его Шатом зовет. От слова «шайтан». Черт по-нашему.
Брусилов опять склонился над картой.
– Ну-ну, – уже теряя интерес к теме, бросил он. – Бери Шата, свата, хоть самого черта… Только снайпера мне, ребята, снимите! Наступление на носу, а полк без командиров может остаться.
– Разрешите идти?
– Иди, братец, иди… С Богом, сынок.
Напротив позиций 16-го пехотного полка, которым командовал полковник Никонов, завелся австрийский снайпер-одиночка. Назойливый, как окопная вша.
Сперва на него даже внимания не обратили. Ну, постреливает какой-то паразит, так на войне это дело обычное… А потом подметили закономерность – одиночная «кукушка», перелетая из гнезда в гнездо, выбивала из полка исключительной офицерские чины. Прямо-таки настоящая охота за погонами с просветами началась…Трех командиров батальона один за другим схоронили. Потом еще и еще…
Появились и среди наших охотники «добыть» того «целкого снайперочка». Стали лучшие стрелки полка разными хитростями подманивать Вильгельма. То офицерскую фуражку на палку нацепят, крутят её туда-сюда, то целый китель на палках на бруствер выставят…
Тот сперва на муляжи покупался. И фуражечку пробивал не раз, и итель Хижняка так изрешетил, что лучший шорник полка не взялся чинить Васин мундир.
Хитра была вражеская кукушка. Ох, и хитра!..
Тогда решили накрыть ее разом огнем второй батареи. Но покуда наши добегали до расположения пушек, пока пушкари расчухаются со своими трубками-прицелами, пока последние снаряды пересчитают – а кукушка уже гнездо сменила. И, должно быть, знай себе, посмеивается, глядя, как утюжат снарядами Иваны его бывшую пустую позицию.
Доложив командиру полка о приказе генерала Брусилова обезвредить «кукушонка», Вася отправился на квартиру, в хохляцком сельце, готовиться к рейду в тыл австрийцев. Не обошлось, конечно, и без офицерской пирушки.
– Господа! – встал Вася с бокалом молодого пенистого вина, которое, вспоминая военные рассказы своего любимого писателя Льва Толстого, называл «чихарем». – Помянем убитых товарищей!
Все шумно встали. Старая хохлушка, у которой квартировали Хижняк и погибший от пули снайпера капитан Лукин, поставила на стол дымящуюся яичницу с салом. Сковорода обжигала бабке руки, она поторопилась и нечаянно опрокинула бутыль с вином. Скатерть покраснела, будто кто затыкал ею огромную кровавую рану.
– Плохая примета… – тихо сказал кто-то из офицеров.
– Ерунда! Я не суеверен, – побледнел Вася. – К тому же у меня талисман есть.
Офицеры молча держали наполненные бокалы.
– С ним я, я иду на… – Хижняк сделал паузу, подбирая нужное слово.
– На подвиг, – подсказал кто-то.
– На подвиг, – кивнул прапорщик – Господа офицеры! За царя, отечество и генерала Брусилова…Ура!
Офицеры слаженно прокричали троекратное «ура».
Выпили, не чокаясь.
– Что же мы без тебя, Вася, делать будем? – спросил захмелевший подпоручик Зубов плачущим пьяным голосом.
Товарищи по батальону его пристыдили:
– Ты что, Зубов, уж никак хоронишь нашего орла? Извинись за свой поганый язык!
– Простите… Вы меня, господа, не так поняли… – залепетал Зубов, понимая, что сморозил глупость. Но положил ему на плечо руку, сказал тихо:
– Если убьют, поклонитесь, друзья, моим родителям и сестрам… Скажите…
И он всхлипнул, трогательно растирая слезы, скатившиеся на мундир из мальчишеских глаз.
– Да ты что! – загалдели господа офицеры. – Ты, Вася, еще всех нас переживешь!.. У тебя же – талисман.
Глава 22
ПОРТСИГАР ХИЖНЯКА.
Из тетради доктора Лукича.
Юго-западный фронт. Осень 1914-го.
Профессор Гельгард научил меня тому, что теперь я, как и Сократ, знаю, что я ничего не знаю… А для того, чтобы не исчезала иллюзия знания, говорил он, нужно познавать все в сравнении. Хотя никто не гарантирует, что твои выводы – это истина в последней инстанции, но, так или иначе, слова и иллюзии гибнут, остаются только лишь факты.
Мой пациент рядовой Карагодин, которого отобрали для охоты на Вильгельма, как окрестили австрийского снайпера в 16-м полку, менялся у меня на глазах. К худшему его изменяла и война, природа человеческих отношений, искушения дьявола и, конечно же, сама психическая болезнь, которая во время войн и прочих политических катаклизмов прогрессирует семимильными шагами.
Не специалисту, простому человеку, даже занимающего высокое место в общественной иерархии, заметить это не просто. Или вообще невозможно.
Внешне рядовой Карагодин, наделенный недюжинной физической силой, производил впечатление храброго воина, самоотверженного патриота, верного и отзывчивого товарища, на локоть которого всегда можно опереться в трудную минуту.
А его бешеную необузданную злобу принимали за бесшабашный русский героизм, когда, загнанный в угол человек, с голыми руками идет на дюжину вооруженных врагов, похоронив свой страх чуть раньше себя.
Хотя тут мое определение будет не точным. Петр, конечно же, не был трусом. Но обязательное для мужчины мужество уживалось в его душе не только рядом со страхом, что было бы вполне естественно, но и с хитростью. А частенько – и с элементарной подлостью.
Он мучительно завидовал славе полкового разведчика унтер-офицера Сахарова, которого действительно любили и низшие, и высшие чины полка. За что? Тут даже я затрудняюсь сказать. Но уже тогда мне было ясно: Карагодин явно проигрывает этому увальню по всем статьям.
Унтер-офицер Сахаров, не раз счастливо ходивший за «языками» в тыл к германцам, имел два креста – высшую боевую награду для низших армейских чинов. Воевал он не столько зло, брызгая пеной, сколько азартно, с неизменным русским куражом. Он, бывший охотник из дремучих тверских лесов, будто и на войне был на большой охоте: так же выслеживал зверя, подкарауливал его в засаде, расставлял товарищей по номерам и знал, что твой промах обернется точным выстрелом врага.
Штабные писари рассказывали мне, что Сахарова хотели за боевые заслуги в подпоручики произвести, если бы не его страсть к вину и водке. В пьяном виде Сахаров был дурной и опасный для всех. В том числе и для своих. Не разбирал никого и ничего, залив глаза спиртом. Товарищи знали эту сахаровскую беду и старались с ним, пьяным, не пересекаться. Ну, а если бунт выходил наружу, то впятером (не меньше!) скучивали Сахарка, навалившись на медведя весом своих тел.
Силищи было в нем, что, наверное, в знаменитом в мое время цирковом борце Поддубном. Кочергу узлом завязывал. Один раз троих немцев уложил голыми руками. Всем головы свернул. Ребята потом рассказывали: «Только хруст стоял». А он оправдывался, глупо улыбаясь: «Ну, так получилось, робяты!.. Я было на дно окопа уже лег, а они все лезут и лезут».
Я считал, что прозвище Сахарок все-таки к нему не шло. Да прикипело намертво. Не отдерешь. Отчасти и его в том была вина…
Любил Сахаров поесть. При том съедал за раз очень много. Ведро борща раз на спор слопал. В разведку сроду на пустой желудок не ходил. Говорил, что с пустым животом, несмотря на предупреждения санитаров, не терпевших ранений в полное брюхо, он воевать не может. Из пуза, мол, бурчит громче, чем германцы стреляют. И он по звуку не может определить точное местонахождение врага.
Перед отправкой в рейд за «кукушкой, притащил он с кухни кулеш. Пшенка у новенького повара подгорела. Салом, как прежде, кашу давно не заправляли – тылы катастрофически завязли на разбитой артиллерией железнодорожной станции. Пока их подтягивали к частям, провиант основательно разворовывали тыловые крысы.
Петр, учуяв харч, брезгливо поморщился:
– Няхай концентратом германец давится. А мы и на войне со своим харчем проживем… Хохлушки да молдованки – бабы грудастые, хлебосольные… С ними спать да жрать – одно удовольствие.
И развернул холстинку, где прятал сало, головки сладкого хохляцкого лука, вяленую тарань.
– Постой, – торопливо полез в подсумок Сахаров, рассчитывая на угощение товарища, – нам для подкрепления духа фляжку водки выдали… Куда плеснуть?
Глаза Карагодина зажглись. Он заметно повеселел, крупные морщины на темном, будто пропеченном в печи лице разгладились. Петр Ефимович любил выпить. В этом была и его слабость. Сам мне рассказывал, как еще парнишкой пропивал хозяйское добро. «Попадет шлея под хвост, накачу на душу стакан – ничем опосля не побрезгую: ни потником38, ни вожжами старыми, ни седелкой39. Раз у самого слободского головы козырьки40 от его усадьбы угнал. Вместо лошади в них запрягся – и утащил на постромках в Хлынино, где и загнал кому-то за гусыню самогона».
Карагодин взял из рук Сахарова манерку41, потряс её над заросшим волосами ухом.
– Отпил, небось, хер рябой?
– Шат, дай сала шмат! – засмеялся Сахаров, подставляя широкую ладонь.
– Свою долю ты выпил, значить…
Сахаров замахал руками:
– Маненько токмо, Шат. Отрежь сальца-то…
– А хрена собачьего ты не хочешь?
– Отчекрыжь. Цыбульки дай, тараночки.
– А дырку от бараночки? Жирно, Сахарок, будет. Вдруг – задница от жиру заблестит?
– А ты, Шат, за мою задницу не переживай. Заблестит, так снайперка-то, как зеркальцем, ею и подманем…
Карагодин с минуту подумал и отрезал немецким штыком кусок сала товарищу. Вместе на дело шли. Зло в напарнике копить опасно.
– Чё это там, у ручки, за цифирки такие? – увидев на лезвии трофейного кинжала три цифры «6», спросил Сахарок.
– Да так… Номерок один, – хмуро ответил Карагодин, пряча кинжал за голенище сапога. – Добыл у пруссаков в неравном бою.
– Отрежь ишшо, брат, – канючил Сахаров.
– Будя, будя… Гляжу я, охотник, а губа у тебя – не дура. Кулешу ведро сожри – вот и набьешь свой котел. Ха-ха…
Сахаров с укоризной покачал головой:
– Ну, и смех у тебя, Шат. «Аха-хав-хав!», – передразнил он Карагодина. – Ну, чисто собака у моего соседа брешеть… Когда волка учуить.
…Раннее молочное утро разливалось по еще цветущим полям. За речкой стройно построились шеренгами пирамидальные тополя, дерева-красавцы.
Петр взобрался на бруствер траншеи и напряженно вслушивался в обманчивую тишину войны. И вдруг ему послышался собачий вой.
– Сахаров!.. – чувствуя, как страх холодным ужом вползает в его душу, позвал унтера Карагодин. – Слышишь?..
Тверичанин перестал живать, прислушался.
– Пташки чирикают… Австрияки еще дрыхнут. А через час кохфий свой хлебать начнут.
Собачий вой повторился. Теперь уже ближе и отчетливее.
– Ну, глухая пятка! Неужто не слышишь? Воить пес черный… К покойнику…
Сахаров, спокойно глядя на позиции неприятеля, пожал плечами:
– Да кто воет-то?.. Перекрестись, Шат! Видение и исчезнет… Когда грезится, завсегда крестится надобно. Аль не умеешь? Так научу!
Карагодин собрал пальцы в щепоть, но рука не поднялась – не стал осенять себя крестным знамением. Его вдруг стошнило.
«Сала вдовьего гад пережрал», – без зла подумал Сахаров.
– Не к добру услышанный мной вой, – сползая вниз, сказал Петр. – Ох, чую покойника!
– Типун тебе на язык, Петруха! Даже три типуна кряду. Втроем идем на охоту – втроем и вертаемся. У нас, тверских, так заведено. Как у вас – не знаю.
Подошел Хижняк. Коротко спросил:
– Готовы?
– Так точно, господин прапорщик!
– С Богом! – перекрестился Вася и погладил в кармане портсигар отца – на удачу. – Надеюсь, среди нас иудеев и мусульман нет?
– Православные мы, – за всех ответил Сахаров. – Смертушки боимся, а атаку все равно ходим. Потому как у нас в деревни говорят: волка боятся, в лес не ходить. Айда, робяты!
Переход через нейтральную полосу прошел удачно. Не считая, что Петр Ефимович зацепился гимнастеркой за колючку. Предательски звякнула пустая банка из-под австрийских консервов, и в утренний туман, шипя, полетела осветительная ракета, уже бесполезная при свете нового дня. Для острастки лазутчиков.
Противник в окопах уже завтракал галетами, запивая их эрзац-кофе, который говорливые и смешливые австрийцы черпали кружкой из большого термоса.
– Тихо, Шмат, милый!.. – взмолился Вася, укоризненно покачивая головой. – Стань кошкой! Или охотничьей собакой… Ну, как Сахарок.
Они продвигались в глубь австрийской обороны медленно. Ужасно медленно. Пять метров ползут, пять минут отлеживаются и прислушиваются к звукам на передовой. Потом все повторяется сначала.
Наконец позади остались передовые посты противника со станковыми пулеметами в оборудованных огневых гнездах.
Бывший охотник из тверской глубинки то и дело оглядывал окрестности. Метров через сто приметил бугорок, густо поросший густым колючим кустарником.
– Позиция, ваше юное благородие! – весело толкнул он прапорщика в бок. – Заляжем тут и будем наблюдать. Если повезет, то и увидим, откель стрелять почнёт кукушечка наша…
Хижняк с минуту подумал, прикидывая что-то в уме, и согласился.
Позиция и впрямь была замечательной. Удобной во всех отношениях. Наблюдателей не было видно ни с переднего края, ни с флангов, ни с тыла. Отсюда, с бугра, густо поросшим колючим шиповником, вся картина немецких позиций открывалась, как на ладони…
– Ну, братец, – улыбнулся Вася, – маленькой кукушке тут большой капут будет. Лежать тихо! Слушаем и наблюдаем…
– Нажралися мермалада, – ощерился Карагодин, приметив, как двое солдат потащили по траншее пустые термоса. – Я в госпитале лежал, пробовал его, мармалад-то…
– Ну и как? – шепотом живо поинтересовался Сахаров, чувствуя, как закрутило живот: от жидковатого завтрака, наверное.
– Говно, – цикнул слюной Петр.
– А мне ща охота вспомнилась… В лесах Лихославля. Кабаны там – боровы, что ты, Шат, пудов под пять.
– Брешешь. Дикая свинья – поджарая.
– Ей Богу!
– И добывал?
– Охотился… Бывало, везло, – Сахаров сорвал сухую травинку, пожевал её крепкими кукурузными зубами. – Кабаны каштуются, роют рылами прошлогоднюю листву, а мы, затаившись, ждем… И знаем, что сейчас в стаде хоть на одного косача, но меньше станет. Они, дурни, и не помышляют об этом, знай себе похрюкивают, брюхо набивают… А я спиной, шкурой своей чую: кто-то за нами охотится… Выслеживает нас.
– Как это? – на локтях приподнялся Петр. – Ты охотишься на одного, а за тобой охотятся другие?
– Закон леса. Так завсегда и в жизни, – кивнул Сахаров.
– И кто там, у кабанов, был? Ну, кто за вами следил?– спросил Карагодин, вглядываясь в позиции австро-венгерских подразделений.



