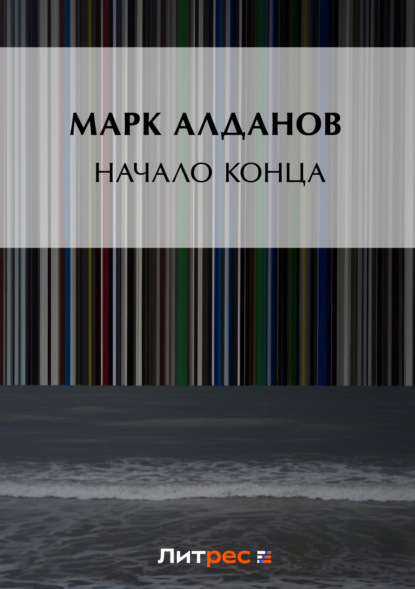 Полная версия
Полная версияНачало конца
Так было в свое время, до появления интриганки, как Елена Васильевна называла Надю, когда не называла ее горняшкой, – она в своих уничтожающих определениях Нади исходила то из моральных, то из физических ее особенностей. Теперь подобного разговора с мужем у Елены Васильевны и вообще быть не могло: после ее отказа в разводе они вообще говорили друг с другом лишь при посторонних людях, да и то держались минимума любезности, как Москва в дипломатической переписке с Токио.
– Не сколько угодно времени, милая, а очень мало, – сказал он. Подчеркнутая интонация в слове «милая» могла означать многое: «напрасно стараешься, между нами все кончено, ты скоро увидишь». Хотя Елена Васильевна была почти уверена, что на развод вопреки ее воле Кангаров не решится, все же его тон и вид очень ее беспокоили: что такое он задумал и что же она увидит? Она ничего не ответила, чтобы не расстраиваться перед балом, и только приветливо помахала мужу рукой. Кангаров вышел, опять еле кивнув парикмахеру, который почтительно ждал окончания их русской беседы: каждое неосторожное движение клиентки могло погубить его сооружение.
Он вернулся в кабинет. Все в этой комнате, особенно стенная лампа, на которой он чуть не повесился, теперь было ему неприятно. Он остановился у великолепного письменного стола, оставшегося еще от прежнего посла: в посольском кабинете не произошло перемены за четверть века – только вместо царя и царицы на стенах висели Ленин и Сталин… В нижнем (главном) этаже коробки для бумаг лежало то, что его почему-то расстроило два часа тому назад: среди пришедших из Москвы писем одно предназначалось для Нади. «Ну что ж, я не могу ни прочесть, ни скрыть от нее, да и незачем», – подумал он и снял трубку одного из двух стоявших на столе разноцветных телефонов. Такие же телефоны были в этой столице у главы правительства, только у него их было три; Кангаров для третьего телефона не нашел назначения. Настольные разноцветные телефоны в свое время доставили ему немало удовольствия: он всю жизнь до революции не мог и мечтать о своем телефоне. Теперь удовольствия давно не было никакого. «Надежда Ивановна еще не ушла? Тут? Скажите ей, чтобы она тотчас ко мне зашла».
Он взял письмо, самое обыкновенное, в простом желтеньком конверте, с советской маркой. «Какой-нибудь из ее Сенек и Ванек… Или тот курносый?.. Письмо, конечно, пустяки… Но что же делать, если стерва не даст развода!» В день, когда он хотел покончить с собой, Кангаров случайно в мыслях назвал жену первым пришедшим на ум грубым словом, и с той поры он ее иначе мысленно не называл, точно «стерва» было ее имя или партийный псевдоним. «Тогда я без нее добьюсь в Москве развода! В чем другом, а уж в распутной жизни меня упрекнуть трудно, я все им объясню!» – с силой сказал он себе и сел в кресло, расправляя фалды фрака; на груди его выпучилась туго накрахмаленная белая рубашка с жемчужными запонками, которые по своей небольшой величине не могли считаться драгоценностями. «Да, я добьюсь!.. добьюсь!..» – бессмысленно говорил он себе.
По дипломатическому стуку в дверь легко было узнать Эдуарда Степановича. «Я не мешаю?» – спросил он, испуганно взглянув на бледное, опухшее и измученное лицо посла. «Елена Васильевна просит вам передать, что будет готова через двадцать минут», – сказал он с легким неудовольствием. Хотя он был в очень хороших отношениях с Еленой Васильевной (как со всеми вообще), ей, по его мнению, не следовало бы давать такое поручение секретарю полпредства: это можно было сообщить через прислугу.
– Что вы говорите? У вас стал такой тихий голос, что ничего нельзя понять, – сердито сказал Кангаров. Эдуард Степанович вздохнул, – «ах, что делают с нами женщины!» – повторил свое сообщение и перешел к государственным делам.
– Как же вы думали бы насчет вчерашней директивы?
– Какой директивы? Ах, да… Отложим этот разговор на завтра.
– Я именно перед балом хотел вам предложить… Дело в том, что на балу будет Луи Этьенн Вермандуа. Что, если бы начать с него?
– Начать с него? – бессмысленно повторил посол и пришел в себя. – Кстати, какое хамство! Этот Вермандуа и его друзья, граф и графиня де Белланкомбр, не сочли нужным хотя бы завезти нам карточки. Зачем только я их фетировал[227] в Париже!
– Кажется, они приехали только на два-три дня. Конечно, они у вас будут. Кстати, вчерашнее чтение Луи Этьенна Вермандуа, к сожалению, провалилось. Я был: мне хотелось послушать этого знаменитого писателя, являющегося бесспорным украшением передовой буржуазной литературы, – сказал обстоятельно Эдуард Степанович. – И что же: к моему удивлению, не совсем полный зал и довольно жидкие аплодисменты, особенно под конец. Он выбрал замечательную, конечно, но скучноватую для большой публики главу и читал вяло, хотя и своеобразно.
– Очень рад. Так ему и надо.
– Я хотел предложить вам сегодня на балу спросить его… В связи с директивой, – пояснил Эдуард Степанович. – Все-таки у него большое имя, и с ним очень считаются в руководящих левобуржуазных кругах Европы и Америки… Обеих Америк, – уточнил он. Кангаров кивнул головой, показывая, что считает мысль дельной.
Дело было скорее неприятное. Накануне в полпредстве была получена бумага – «директива», – тотчас нашел определение Эдуард Степанович: в связи с московскими процессами предписывалось мобилизовать общественное мнение Европы для энергичного протеста против поддержки, оказываемой буржуазией всего мира вредительским шайкам в СССР. Кангаров, прочитав бумагу, молча протянул ее Эдуарду Степановичу, от которого почти не имел секретов. Эдуард Степанович читал документ долго – подверг тщательному изучению. Весь вид его свидетельствовал о большом напряжении умственных способностей. «Я думаю, в содержании директивы не может быть сомнения», – сказал он, оглядываясь на дверь; понизить голос было невозможно из-за ухудшившегося слуха посла. «Пожалуйста, говорите толком, без предисловий». Эдуард Степанович взглянул на посла с тихой укоризной – он искренне его любил – и высказал свое мнение, основанное на тщательном изучении директивы: в Москве готовится новый показательный процесс. Кангаров изменился в лице и снова прочел бумагу. «Да, вероятно, это так, – сказал он и подумал: – Если он имеет подозрения против меня, то мне не дали бы такой директивы…» Эдуард Степанович понимал мысли своего начальника, Кангаров понимал, что Эдуард Степанович их понимает. Секретарь молчал так многозначительно, что даже стало жутко. «А чем я мобилизую общественное мнение? – сердито сказал Кангаров. – В ассигновках они отказывают. Очевидно, они думают, что тут можно выехать на одной икре!» – «Тут все же дело не в одних деньгах. Тут нужен такт и… дуатэ»[228], – мягко сказал Эдуард Степанович, не сразу нашедший верное слово, но нашедший его, – именно такт и дуатэ. Они поступили не так глупо, – он поправился: – Не так неосмотрительно, что обратились в первую очередь к вам». – «Да, дуатэ. Черта с два тут дуатэ! Пенензы нужны, и очень большие, а не дуатэ», – возразил Кангаров, все же польщенный замечанием секретаря, совершенно искренним и чуждым лести. Он ненадолго вернулся в свое прежнее, вполне нормальное состояние. «Как глупо, как чудовищно глупо то, что он в Москве делает. Зачем этот террор, эти казни, репрессии, и против кого! Против сподвижников Ильича! Это больше чем преступление, это ошибка!» – подумал посол, чувствуя себя и Фуше, и Талейраном. Он только обменялся взглядом с Эдуардом Степановичем. Понимал, что Эдуард Степанович думает то же самое и тоже ни за что об этом не скажет.
– Вы меня звали? – спросила Надежда Ивановна, входя в кабинет. Она засиделась в полпредстве отчасти из-за работы, отчасти потому, что ей хотелось издали взглянуть на платье Елены Васильевны, о котором среди служащих уже ходили и анекдоты, и восторженные отзывы, относившиеся преимущественно к цене. Надя сама подумывала о новом платье. «В том с dentelle cirée[229] я была бы непобедима, – думала она печально-иронически, вспоминая одно платье, выставленное у парижского портного, – впрочем, тут и побеждать некого: не Эдуарда же Степановича». Но об этом платье и мечтать не приходилось: «Хоть каждый день отказывай себе в сладком, на него за год не сбережешь!» – как на беду, она в последнее время пристрастилась к глазированным фруктам, и отказ от сладкого постоянно откладывался: «завтра начну». Мысли о платье и о сбережениях неожиданно привели ее к мысли о Кангарове. Она на прошлой неделе твердо себе сказала, что за него замуж не выйдет. «А служить у него буду дальше, пока не найду другой работы. Куда же мне деться? И пусть «как таковая» при нем и остается!»
Эдуард Степанович откланялся. В последние дни он уже немного изменил свой дипломатический тон. Прежде, когда он оставался в обществе полпреда и Надежды Ивановны, выражение его лица означало: «Я ничего, решительно ничего не слышал, не знаю и не замечаю». Теперь появился и легкий дополнительный оттенок: «Но если бы что-либо и было, то в столь интимных делах никто никому не судья, и во всяком случае я сохраняю полный нейтралитет в отношении обеих сторон». «Обе стороны» были, разумеется, Елена Васильевна и Надежда Ивановна; каждой из них секретарь посольства готов был предоставить то, что дипломатами на дурном русском языке называется «правами наиболее благоприятствуемой державы».
– Что это ты нынче так поздно засиделась, пташка? – спросил, просветлев, Кангаров. Он в последнее время называл Надю «пташкой» или «пчелкой»: «птичка» уже не доставляла ему прежнего наслаждения. – Много работы?
– Да, надо было переписать ту записку, которую вы дали вчера. Только что кончила.
– Посмотрите на нее, какая прилежная… Ну, так вот тебе письмо. Из Москвы, – сказал полпред, подозрительно на нее поглядывая. Надя вспыхнула: почерк был Женьки, которому она послала свой рассказ.
– Спасибо… Больше ничего?
– Нет, не ничего, а чего. Я хотел тебе сказать… Но если это письмо так тебя волнует, то ты можешь его прочесть сейчас же, я подожду.
– Оно нисколько меня не волнует.
– Можно узнать, от кого оно? – спросил равнодушным тоном Кангаров. На столе затрещал телефон. Он выругался и со злобой взял трубку. Надежда Ивановна сделала вид, что не хочет мешать разговору, незаметно скользнула за дверь и пробежала в свою комнату. Сердце у нее билось сильно. «Сейчас решается судьба!» – подумала она, и, хотя решение судьбы уже, очевидно, состоялось, она про себя помолилась: «Господи! Дай Бог!..» Надя затворила дверь на ключ, разодрала желтенький конверт, вытащила письмо дрожащими руками и заглянула в первые строки: «…радостным известием…» Она ахнула.
«Наденька, миленькая, великая писательница земли русской, спешу поделиться с тобой поскорее радостным известием. Твоя новелла зело одобрена, принята и будет напечатана в одной из ближайших книжек нашего журнала… – Надя приложила руку к сердцу, впрочем, скорее автоматическим жестом крайнего волнения. – С чем тебя, великая писательница, Наденька Горькая, и поздравляю. Значит, не так был глуп некий Женька, который, если милость ваша помнит, советовал вам писать? Значит, может иногда пригодиться некий Женька, встретивший немилость велию и фунт презрения в некие отдаленные времена, в месте, называемом Сокольниками? Оба квалифицированных спеца, твой рассказ читавшие, единодушно признали его с художественной стороны весьма и весьма удовлетворительным, а со стороны идейного наполнения вполне созвучным. К этому больше чем присоединяется третий, по времени же первый читатель и почитатель, в журнале не последний человек, имени которого я вам, Надя Достоевская, не назову. Были отмечены некоторые погрешности, вследствие чего будут сделаны в творении незначительные изменения и сокращения. Не волнуйся, Наденька, ничего существенного не выпустят (было сначала написано: «не выпустим»). Кроме того, редакция не согласна оставить слово «новелла», в чем я, нижеподписавшийся, с оной вполне согласен: почему новелла, радость моя, какая там новелла? Просто отличнейший бытовой рассказ. Если желаете знать мое мнение, Надежда Шекспировна, то слабее всего вышел образ Евгения Евгеньевича. Но по сути дела сие неважно. Главное: идейное наполнение, установка и выдержанность, которые, помяни мое слово, скоро приведут тебя в первые ряды советских литературных работников. Одним словом, пиши и пиши! Вдруг вправду сравняешься (было зачеркнуто: «затм…») с Алексеем Максимовичем, а? Тогда помни, радость моя, что некий Женька в Сокольниках… Ну, не буду, не буду…»
«Да, новая жизнь! Новая, совсем новая жизнь! Открылась новая прекрасная глава! – думала Надя (она и думала теперь литературно). – Теперь ничто не страшно: я писательница, русская писательница…» Самое сочетание этих слов – не ей первой, не ей последней – ласкало слух и душу. Воображение добавляло эпитеты из будущих рецензий: «даровитая советская писательница», «весьма известная писательница» – дальше, до «знаменитой» не шло, не смело идти воображение.
Она то перечитывала письмо, то вставала и ходила по комнате. «Да, теперь вернусь в Россию и буду творить!» Это тоже было волшебное слово. Надежда Ивановна нерешительно себя спрашивала, творила ли она, когда писала. По своей правдивости, не могла утверждать, что Бог водил ее рукой. «Говорят, у них, у больших писателей, всегда теснятся образы… Но разве мой Карталинский не образ?.. Почему ему показалось, что Евгений Евгеньевич слаб? Он, впрочем, не говорит, что слаб, – она заглянула в письмо, – слабее всего, но не слаб…» В конце письма сообщалось и о гонораре; Надя не думала, что получит столь значительную сумму. Она была счастлива, так счастлива, как никогда не была в жизни. Мысли у нее смешивались и выливались в чужие ветхие слова: были тут и «литературное поприще» – хоть она не знала, какое такое поприще, – и даже «нива просвещения», – уж откуда эта нива проскочила в ее мысли, было совсем непонятно. Надя чувствовала потребность поговорить о необычайной перемене в своей жизни, но не знала с кем. Лучше других был бы все-таки Тамарин. От него после той открытки из Мадрида никаких известий не было. С неприятным чувством вспомнила о Вислиценусе. С этим человеком явно случилось что-то неладное. В полпредстве о нем никто не говорил. Раз как-то, в разговоре с Эдуардом Степановичем, Надя упомянула его имя. Ей показалось, что в глазах Эдуарда Степановича мелькнул ужас, он тотчас же заговорил о другом. «Сказать Эдуарду Степановичу? Он глуп, но он хороший человек. Впрочем, он не так глуп», – подумала Надежда Ивановна, которой в этот вечер не хотелось говорить дурно о людях. Однако она представила себе, какую скучную основательную разумную фразу с придаточными предложениями скажет Эдуард Степанович, и тотчас отказалась от мысли о нем. Ей вдруг страстно захотелось, чтобы о ее успехе узнала, тотчас узнала Елена Васильевна. «Это ей испортит бал!» – подумала она. И хотя Надя себе ответила, что у нее, у русской писательницы, не может быть никаких личных счетов с тупой, вздорной, ограниченной женщиной, это было выше ее сил: она не могла не желать, чтобы Елене Васильевне стало известно о рассказе. Надежда Ивановна спрятала письмо и отправилась в кабинет Кангарова.
Он стоял неподвижно у дивана под стенной лампой. Вид его, особенно эта неподвижная поза, опущенные глаза поразили ее. «Краше в гроб кладут! – подумала она с искренним состраданием, зная, что он сходит с ума по ней. – Но что же я могу сделать? Чем я виновата?..» «А? Что? Кого?» – спросил Кангаров, взглянув в сторону двери воспаленными глазами. При всей кротости трудно было воздержаться от ответа: «Не кого, а я пришла узнать, нужна ли я вам?» Однако Надя почувствовала, что именно теперь так говорить неудобно: их странные отношения кончились, и подобный тон недопустим – впредь он начальство, она подчиненная, только и всего. Она ничего не ответила. Он вздрогнул, точно лишь теперь ее заметил.
– Что за манера исчезать? – сказал он хриплым голосом и сел в кресло. – Садись, пчелка. Я тебя не отпускал, смотрю: тебя уже нет.
– Вас позвали к телефону, я думала, может быть, секретный разговор, – ответила она самым мягким своим тоном. – Я вам принесла записку: вот, копию кладу отдельно.
– Спасибо… Да, так что же это? Есть что-нибудь интересное? Какие-нибудь новости? – спросил Кангаров. Он с некоторых пор стал говорить отрывисто, как актеры, играющие Наполеона в «Мадам Сан-Жен», и это понемногу перешло у него в привычку. – От кого письмо, если, конечно, не секрет?
– Не секрет. От Евгения Голубовского, – ответила Надежда Ивановна, начиная раздражаться. Ее запаса кротости хватило ненадолго. «Да, он больной человек, и надо его беречь. Но разве меня, мою репутацию он берег? А «как таковую» он берег?» Надя сама удивилась, что неожиданно взяла под свою защиту Елену Васильевну. – Это тот, о котором я вам говорила: молодой писатель. – Она вдруг почувствовала, что расскажет все.
– Ах, писатель? Никогда не слышал о таком писателе. Есть какие-нибудь интересные сообщения?
– Ничего особенного. Кое-что интересное есть… Для меня, по крайней мере. Пустяки, разумеется. Я недавно, от нечего делать («как глупо! от нечего делать!»), написала один рассказ и послала его в… (она назвала журнал). Им понравилось, приняли. Скоро будет напечатан.
Кангаров смотрел на нее выпученными глазами. Он смутно почувствовал недоброе.
– Что ты говоришь?
– То, что вы слышите («опять неподобающий тон»).
– Ты написала рассказ? Какой рассказ?
– Бытовой, но с символикой. Когда выйдет, вы, надеюсь, прочтете.
– Пташка! Она писательница!.. Смотрите на нее! Но отчего же ты мне не показала? Даже не сказала!
– Это не такое большое событие. Я и теперь только вам говорю и прошу никому не рассказывать. Ну, там Елене Васильевне, Эдуарду Степановичу можете сообщить, конечно, – небрежно сказала Надя. Кангаров смотрел на нее с изумлением. Он еще не знал, как именно это обернется в худую сторону, но чувствовал, что обернется. Тем не менее это был повод поцеловаться.
– Пташка, милая, поздравляю. Если так, то позволь…
– Отстаньте! – сердито сказала Надя, отталкивая его. – Оставьте. Вообще я должна очень серьезно с вами поговорить. Я решительно прошу вас бросить все это.
– Что «все это»? Что бросить? Дурочка!
– Там дурочка или нет, но я решительно должна вам сказать, что тут полное недоразумение. Я все думала, что вы шутите. Но если я ошибалась, то категорически вам заявляю, что никогда не буду вашей женой. И с Еленой Васильевной не советую вам разводиться. Но это не мое дело, извините меня… А я вообще твердо решила уехать в Москву и это тоже давно хочу вам сказать. Хотела бы даже немедленно. Найти другую секретаршу вам будет нетрудно.
– Да ты рехнулась! – сказал Кангаров, апоплексически краснея. Он быстро поднялся с места. Лицо его исказилось, шафранные глаза стали совершенно безумными. «Что, если его сейчас разобьет удар? Что, если он меня ударит?» – подумала она и, с ужасом на него глядя, отступила назад. Кангаров шагнул к ней. Если бы на нем был пиджак, он не ударил бы Надю, но, верно, схватил бы ее за руки, за плечи. Фрак и выпученная тугая рубашка исключали возможность резких жестов.
Дверь без стука отворилась. Вошла Елена Васильевна. Надя вспыхнула. Елена Васильевна смерила ее взглядом, но больше по привычке. Ей не хотелось расстраиваться, и все ее мысли были заняты балом. Она не заметила состояния мужа или сделала вид, будто не замечает.
– Здравствуйте, – сухо сказала она и обратилась к мужу: – Ну вот видишь, я не опоздала. Как всегда, не ты меня будешь ждать, а я тебя.
Надя вышла из кабинета. Она была очень взволнована. И в первый раз в жизни ей показалось, что есть во всем этом что-то мелкое, очень мелкое, недостойное. Она сама не могла бы объяснить, что такое «все это»: ее отношения с Кангаровым, война на булавках с Еленой Васильевной, пошлый тон мыслей, разговоров, чувств, или вся ее жизнь в полпредстве. «Право, я стоила бы лучшего!» – подумала она. У нее на глазах выступили слезы. «Да, пора домой! Надо жить иначе…» Впоследствии Надежда Ивановна считала этот день чуть ли не важнейшим в своей жизни не только потому, что приняли ее рассказ. Ей внезапно еще неясно, еще очень смутно открылся новый взгляд на себя, на людей, на Россию, на смысл существования. Она убежала к себе, заперлась на ключ и долго ходила взад и вперед по своей секретарской комнате. Слезы бежали у нее по щекам.
XXVII
В день бала у обер-гофмаршала было ненамного больше работы, чем в обычные дни: вековой механизм дворца действовал очень исправно. Обер-гофмаршал встал, как всегда, в одиннадцатом часу утра; проснувшись, полежал еще с четверть часа в своей нелепой, похожей на катафалк, огромной кровати с балдахином, думая о разных предметах, в большинстве очень приятных: о предстоящем бале (к его собственному удивлению, придворные балы и теперь, на старости лет, еще доставляли ему удовольствие), о вчерашнем разговоре с юной, милой принцессой, всего больше о новом и лучшем сокровище своей коллекции марок: два дня тому назад, нарушив смету, значительно выйдя из бюджета, он, после мучительных колебаний, приобрел наконец Британскую Гвиану 1856 года, «blaск on magenta, the famous error». Это было безумие. Однако он чувствовал, что без Британской Гвианы жизнь потеряет для него не всю прелесть, но значительную часть прелести.
В четверть двенадцатого он был готов. Обер-гофмаршал относился недоброжелательно к тем государственным людям, которые встают в пять часов утра или в пять утра ложатся. Многие министры, по их словам, работали восемнадцать часов в сутки. Обер-гофмаршал давно знал всех министров своей страны, знал очень многих иностранных, и, по его наблюдениям, ничего дурного с миром не произошло бы, если б они работали несколько меньше, «ну, хотя бы как Бисмарк, который вставал в двенадцать дня, позже меня». Он думал также, что работать восемнадцать часов в сутки невозможно: соврать гораздо легче.
В его ведомстве, во всяком случае, восемнадцатичасовой рабочий день отнюдь не требовался. После утреннего завтрака обер-гофмаршал обошел свое хозяйство, убедился, что все его распоряжения выполнены точно, и отправился верхом на прогулку в парк. Катался он не менее часа, и вид этого красивого старого человека на кровной лошади действовал успокоительно на всех, даже на очень нервных прохожих, свидетельствуя о том, что в мире ничего тревожного не происходит. Завтракал обер-гофмаршал с королевской семьей, затем поднялся к себе, отдохнув, поработал над какими-то докладами, написал страницу дневника. Марками он в этот день не занимался, но во время работы часто, всякий раз светлея, вспоминал о Британской Гвиане 1856 года, теперь наконец приобретенной.
Обедал он у себя в квартире, полагавшейся ему по должности в королевском дворце. У него был свой повар. Кухню короля обер-гофмаршал считал посредственной и, когда можно было, старался обедать дома. В четверть восьмого, немного раньше обычного, он надел смокинг, хотя обедал один и хотя тотчас после обеда нужно было снова переодеться. Во дворце ходил о нем анекдот, будто он и больной, в постели, вечером надевает смокинг или фрак, чтобы принять лекарство. Обер-гофмаршал вышел в огромную гостиную, обставленную старинной мебелью, с большими портретами королей по стенам. Здесь все было историческое; около камина было даже совершено в XVII веке какое-то историческое убийство. Он сел в историческое кресло, медленными глотками выпил рюмку хереса 1878 года, поданного ему на тяжелом серебряном подносе великаном-лакеем, перешел в историческую столовую и сел за исторический стол, освещенный восковыми свечами в исторических канделябрах.
В отличие от старого принца обер-гофмаршал отнюдь не относился отрицательно ко всему современному. Но он прожил двадцать лет в этих покоях, почти не уступавших по великолепию парадным комнатам короля, и не считал ни нужным, ни возможным менять что бы то ни было в укладе жизни, установленном его предшественниками: каждому месту – свой стиль. Здесь ничего действительно и не менялось. Обед тоже был такой, какой веками подавали при его предшественниках, с расписным меню на французском языке, с множеством блюд, с четырьмя сортами вин определенной для каждого температуры.
Обер-гофмаршал не любил читать за столом, но пробежал заголовки вечерних газет: перед балом следовало знать последние новости. Он сразу потерял охоту к чтению остального. События были все либо грандиозные, либо обещавшие грандиозное в самом близком будущем и вследствие своей непрекращающейся грандиозности весьма утомительные. «Бог даст, на наш век все-таки хватит», – неопределенно подумал обер-гофмаршал. «Да, при нас ничего такого, слава Богу, не происходило», – сказал он себе в прошедшем времени. «Ну, что ж, надо сохранять что можно, все, что можно, пока можно. Это превосходный девиз: «Je maintiendrai»[230].
Грустные мысли не помешали ему прекрасно пообедать. Есть без гостей было гораздо приятнее: гости аппетиту вредили. Закончив обед, он вернулся в гостиную и там еще посидел за кофе, выпил немного налитого в огромный стакан коньяку, лениво перебирая в памяти то некоторые подробности бала, то заголовки газет. Против его кресла висел на стене портрет короля, прославившегося жестокостью триста лет тому назад. «Разумеется, в любом номере любого исторического журнала можно найти материал, способный сравниться с нынешним. Все же, если сделать одну поправку на количество зверств, а другую на то, что нынешние господа свой строй считают передовым и просвещенным, а самих себя тем паче, – этот Свирепый ведь не считал, – то выводы окажутся никак не в их пользу. У нас Свирепые всегда были исключение, их рассматривали как фамильный скандал. Большинство королей походили на моего, и это довольно естественно: им о карьере приходилось заботиться гораздо меньше, чем нынешним господам, у них карьера создавалась рождением».



