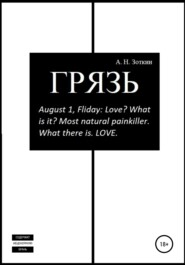 Полная версия
Полная версияГрязь. Сборник
После недолго посещения больницы Она доехала до грязной площади трех вокзалов и села в электричку, постоянно оглядываясь на стражей порядка, блуждающих по перрону со скучающим видом. Она уехала из столицы, города, который не проклинал только ленивый. Облавы были и в других квартирах, и Она знала, что уже ничем не может помочь своим друзьям: даже если их не смогут обвинить в сговоре с мятежниками, то что-нибудь подбросят. Это была распространенная практика, никто уже не удивлялся и не возмущался. Все привыкли к произволу. Ей было тоскливо от собственного бессилия. Плечо ныло, а перед глазами всё еще было лицо друга, с которого на пол капает багровая кровь. Она сжала кулаки и сделала глубокий вдох-выдох. Она ехала туда, где у нее еще остались друзья. Всё было хорошо.
За Ее столиком в скоростной электричке больше никто не сидел. Она достала блокнот, ручку из оранжевого рюкзака и начала рисовать сине-белые картинки. Улица, окруженная со всех сторон огромными домами-крестами с кучей антенн на крышах, прохожие в пальто и шляпах без лиц, машины без формы и номеров. И где-то в толпе между ходячими пальто затесалась девочка в синем платье и с глазами такого же цвета. В руках она держала что-то яркое, похожее на звезду. Её белый свет освещал всю хмурую улицу, но никто не обращал на неё внимание.
Она оторвалась от рисования и посмотрела в окно. Вдалеке в ложбинах, над озерами и среди деревьев витал туман. Гроза не собиралась успокаиваться, периодически били молнии, а небо становилось только чернее. Она поправила шарфик, достала наушники и включила плеер. Посмотрела на картинку, потом на ручку, и нарисовала мальчика, который с изумлением смотрел на звездочку в руках девочки. Он был высоким, худым, в мятой куртке и джинсах.. Очень неказистый на вид, но главное было в другом – он заметил девочку. Она положила ручку, любуясь нарисованным. Появление мальчика на рисунке успокоило Её. На душе стало легче.
Она стояла в туалете и умывала лицо. Холодная вода и утро – что может быть противнее. Вагон раскачивался на ходу и приходилось думать о равновесии. Она выключила воду, подняла голову и посмотрела в зеркало, опершись руками на края железной раковины. Вода капала с Её чуть вздернутого курносого носа и подбородка. Летний загар еще не покинул Её лица, но уже заметно «смылся». Несколько локонов Ее рыжих волос намочились и прилипли ко лбу. Она посмотрела в свои темно-карие глаза. Кажется, Она еще больше постарела. Напрягла мышцы лица и широко улыбнулась. Даже ямочки на щеках уже не те. Натянутая улыбка быстро исчезла с Её лица. Она поправила локоны. Ничего, еще поборемся. Оторвала три бумажных полотенца и вытерла руки. Она всегда отрывала по три, это было идеальное число для того, чтобы вытереть руки. Она вывела это опытным путем и каждый раз, отрывая бумажные полотенца, зачем-то думала об этом, будто доказывая себе, что делает всё правильно. Наверное, это всё воспитание – Её воспитывали ничего не ронять, не нарушать и делать всё идеально. Чертово воспитание. Выкинула скомканные мокрые бумажные полотенца и вышла из туалета.
Она вернулась на своё место и снова стала смотреть в окно. Дождь перестал идти еще в пригороде. Электричка ехала мимо разрисованных бетонных заборов. Она улыбнулась: некоторые из них она расписывала сама вместе со своими друзьями, в надежде, что все люди, приезжающие в этот город железной дорогой, будут видеть эти пестрые цвета, узоры, сюжеты, которые сильно выбиваются на фоне серых зданий и высоких заборов. Это должно было стать лучиком Солнца для всех. Несколько рисунков закрашены черной и белой краской, на которой уже появилась куча новых надписей. Несколько закрасили другими рисунками. Где-то поменяли забор. Она вздохнула.
Совсем скоро приедем. Она стала думать, куда же пойдет в первую очередь. Можно было немного прогуляться по главному проспекту, зайти в столовую или кафе, а может, сразу, выйдя из вокзала, быстро юркнуть в один из двух торговых центров, которые здесь поблизости? Там всегда чисто, светло и просторно. Или же сразу на квартиру на Маяковского? Несколько капель упали на окно: снова дождь. Она вздохнула, достала из серого рюкзака дождевик. Он был полупрозрачный, желтого цвета, с остроконечным капюшоном, который делал Ее похожей на гномика из старой детской книжки. В окне мелькнули две фигуры. Показались знакомыми, но поезд ехал слишком быстро, чтобы хоть что-то разобрать. Наверное, показалось. Вскоре электричка начала сбавлять ход.
Она сидела в пабе, повесив дождевик и куртку на крючок, и ждала, когда принесут заказ. Достала яркий блокнот и ручку и стала рисовать в нем то, что приходило в голову. Она часто так коротала время. Через несколько минут Ей пришла в голову мысль, и Она решила ее записать. За одним предложением последовало другое, третье, вдохновение захватило ее, и только милая официантка в чепчике, переднике и маленькой черной шляпке остановила её, с легкостью поставив своей тонкой хрупкой рукой на стол массивную тарелку с омлетом с гренками.
– И ваш чай, – она взяла с подноса большую чашку, над которой витал пар. – Английский, зелёный.
Официантка улыбнулась своими ярко-красными губами и поправила прическу, заведя несколько локонов светлых волос за левое ухо.
– Красивые серьги, вам идут.
– Спасибо большое, – официантка смутилась от полученного комплимента, потупила взгляд и молча отошла.
Проводив ее взглядом и сказав «спасибо», перечитала написанное:
«Жизнь неслась подобно поездам на Московском вокзале. Одно событие сменялось другим, оставляя лёгкий привкус чувств, который вскоре пропадал, и оставались лишь хаотичные воспоминания. А в этом городе особенно. Настоящие наши сокровища оставались в прошлом, были спутаны и необдуманны, ведь надо с утра бежать куда-то, днём работать, а вечером тратить деньги. Времени не было даже для друзей. Мы неслись, как нам казалось, вперёд, не замечая, что уже глубоко завязли в рутине дней».
Она вздохнула: так себе. И о какой рутине дней Она говорит? Вчера Она была в одном городе, сегодня в другом, вот сидит в английском пабе напротив Московского вокзала. На часах было десять утра. Паб был заполнен наполовину. Бородатый бармен ловко подкидывал массивные бокалы и быстро разливал содержимое бутылок по кружкам размером с ведро, удивляя подвыпившую компанию молодых людей. Она положила блокнот и ручку обратно в рюкзак и развалилась в массивном кожаном кресле, стоявшим вплотную к огромному окну. На улице Дождь. Самая частая фраза в серой истории. Сквозь его пелену пролетали размытые силуэты машин с горящими огоньками фар и быстро проходили закутанные в плащи люди. Она поёжилась и оторвала взгляд от окна. Ей нравилось это место. Паб занимал два этажа и был очень уютным. Стены обклеены синими обоями в колониальном стиле, мебель сделана из темно-коричневого дерева и прекрасно подходит к обоям. Под потолком – массивная старая люстра. Металл потемнел вместе с цветочным орнаментом из позолоты. Но это только добавляло благородности дорогой обстановке. В дальнем углу находилась деревянная лестница на второй этаж. Красивые настенные светильники в форме лотоса тепло освещали плавные изгибы перил и строгие ступеньки. Дополняла всё это картина с видом на Лондон XIX века, которая висела над лестницей и привлекала многочисленные взгляды. Это было хорошее место.
Она принялась за завтрак. Молодые люди шумной гурьбой выкатились из паба и по очереди заползли в машину, дико смеясь и громко проклиная этот «чертов» Дождь. Над баром работал широкоэкранный телевизор и рассказывал новости. Она знала, что там ничего не расскажут. Вся страна была в протестах и митингах, но про это ни слова. Только про разгон демонстрации в одном из городов, потому что там удалось выставить всё в удобном для власти свете. На экране показывали бойцов известной силовой структуры, которые в полной боевой выкладке шагали по тёмной площади и нещадно били всех, кто попадался им на пути. Крики, шум, плач. Силовики сбивали людей на брусчатку, били ногами, некоторых оставляли лежать на земле, а некоторых выхватывали, поднимали и уводили. Их разбитые лица специально размывали, чтобы не пугать зрителя. Вот парня с флагом страны сбрасывают с лестницы вниз, избитый фотограф стоит в стороне и продолжает фотографировать, бурая кровь заливает его лицо. К нему подбегает мужчина и прижимает к его ране салфетку. Фотограф рассеяно мотает головой: спасибо.
Она отвернулась. Вот такие зрелища и стали рутиной Её дней. Она быстро доела омлет и отправилась в квартиру на Маяковского. В тот день она встретит там того, кого любила.
Ноги сами поддавались ритму барабана, шлепали босиком по полу, но шлепков не было слышно: удары в барабан заглушали их, не останавливаясь, задавая вечный ритм жизни, становясь пульсирующим сердцем танца. Музыка давала свет во мраке комнаты, она слабым огоньком отскакивала от стен и потолка, колебалась от каждого дуновения ветра, но потом разгоралась с новой силой. Свет был нужен, особенно в этот мрачный и пасмурный день, но оттого более уютный, пусть и дождливый. В такие дни одни и те же капли дождя не высыхают на окне до самой ночи, а светофоры своими чистыми яркими цветами заменяют солнце. Их зелёные, красные, жёлтые цвета отражаются в десятках каплях одновременно, делая из обычных стекол необычные разноцветные витражи. Светофоры мигают, но это незаметно из-за громкого шума капель, бьющих по карнизу. Хотя и на капли никто не обращает внимания, их не слышно из-за бьющегося сердца танца. Книги про рок-н-ролл, подпирающие открытое окно, смотрят чёрными обложками на аллею подстриженных круглых деревьев-интеллигентов и громко вздыхают, шурша страницами. Энергия бунта, скорости, жажды жизни и смерти, обитающая на этих страницах, только усиливает непокорный ветер, который тоже возмущается такому зелёному порядку в природе. Его резкие порывы взъерошивают листья, обрушивают на них ледяную воду с небес. Деревья трепещут, гнутся, но их не слышно, как и самого ветра из-за сердца танца.
Вдоль дороги и аллеи стоят единой стеной, прижавшись друг к другу, чтобы выстоять под столетними грозами, пестрые дома, перебрасываясь цветами своих стен. Сквозь пелену дождя виднеется голубой, серый, красный, жёлтый, багровый, синий (а нет, это уже рекламный плакат). Все они добавляют краску в оригинальные архитектурные решения. Крупные цветы лепнин с длинными лозами и тонкими листьями расступаются, пропуская на фасад головы львов, переходя в особые линии модерна, почерпнутые у берегов самого синего моря (хочется в это верить). Круглые сливные трубы играют в маленькие водопады, заливая мостовую беспрерывными потоками воды, причудливые пальмы в слабо освещенных окнах дома напротив… взгляд продвигался дальше, замечая все больше подробностей этой неповторимой симфонии мокрых улиц. Пусть она была неказиста, прерывиста, с явными ошибками и лишней рекламой, но мы же не в классической Вене Моцарта, нет, мы в свободном северном граде.
Но и этой симфонии на не слышно. Мы до сих пор под властью бьющегося сердца танца: инструмент не замолкает, ноги не останавливаются, они скачут по холодному паркету вдоль обшарпанных стен и высоких окон дальней комнаты, в которую мало кто заходит. Но вдруг барабан затих. Мы испугались: сердце остановилось и огонь исчез в один миг. Без музыки нет и танца. Ноги стоят и мерзнут, мы прижались друг к другу, нам страшно. Танец умер, а что осталось от него? Тишина. Мрачные белые стены и потолки с грязными разводами давят со всех сторон. Они поглотили последний стук сердца. Внезапно раздаётся гром. Мы отпрыгиваем назад. И слышим мир. В нем нет музыки, значит, он молчит. Но мы слышим громкий стук капель о карниз. Капли падают, никого и ничего не боясь. Их много, они шумят, приятно шумят. В окнах промелькнул свет фар, близится ночь. Ноги неслышно подошли к окну и встали на ковёр под подоконником. Мы посмотрели на пеструю улицу, серое небо, вдохнули мокрой свежести солнца дождя и успокоились, ведь музыка снова окружила нас. Только теперь вместо одного сердца бились тысячи и каждое так, как надо. Ноги больше не мерзли. Мы больше не боялись.
В кровати началось шевеление, я отбросил мысли о Зарёве и обернулся. Она подняла свои изящные ручки и сладко потянулась, постанывая от удовольствия. Потом открыла глаза и посмотрела на меня. Её улыбка делала тебя счастливым. В её глазах отражался свет из окна, делая их еще более блестящими и выразительными. За окном пробежала молния, но никто в городе не обратил на неё внимание. Всем было чем заняться. Она опустила руки, отбросила в сторону свой край одеяла и снова потянулась. Её прекрасное гибкое обнаженное тело плавно двигалось, то поднимая одну аппетитную ножку, то другую. Тонкая шея, хрупкие ключицы, слегка колышущаяся от Её потягиваний грудь, плоский животик, узкая талия… Заметив мой взгляд на своей груди, Она выгнула свою спинку вперед и нараспев промяукала.
– Ханна, ты не девочка, а просто персик, – процитировал я строчку из хорошей песни роллингов.
Она внимательно посмотрела на меня, Её улыбка чуть померкла.
– А ведь мы почти потеряли друг друга, тогда, в Танжере. Как там вообще оказались… – Она хихикнула, вспоминая события трехлетней давности.
– Да, Танжер… Шумное место, яркое средиземноморское солнце мягко греет тело, местные бары – душу, а вокруг город, растекшийся по равнине и смело забирающийся по холмам к их вершинам… Узкие древние улочки, пыльные кварталы, белье на веревках, а какие там люди! Меня там обирали три раза, сумасшедший город… Лучшее место, чтобы залечь на дно.
– Ты всегда был романтиком. Очень даже хорошим, – Она подмигнула, подманивая меня к себе. – Да, странное место, но люди всё же живут там как-то. А мы?
– А мы не стали ложиться на дно.
Я сел рядом с ней на край кровати, с которого свешивалась до пола помятая белая простыня. Наши тела и эта простынка были единственными светлыми вещами в комнате, всё остальное темное, мрачное, даже свет заходящего солнца еле-еле пробивался сквозь густые тучи, ливень и стену дождевой воды, стекающую по оконному стеклу. Всё это было похоже на черно-белую фотографию. Она коснулась моей спины пальцами и медленно провела ими вниз, оставляя горячий след на коже. Её тело всегда было горячим. Оно обжигало меня. Но и в Её горячих прикосновениях была своя прелесть и своё наслаждение, я всегда знал, что это Она и никто другой. И тогда я мог быть собой. Она подняла свои стройные ножки вверх и согнула их в коленях. Я провел руками по ним и несколько раз поцеловал нежную кожу. Она знала, что перед Ней не устоять. Театрально прикусила ноготь указательного пальца на левой руке и с удовольствием смотрела, как я ласкаю ее тело. Через пару минут довольно хихикнув, Она опустила ноги, села на кровать и обняла меня о спины, обхватив мою грудь руками и положив голову на плечо.
– Мы с тобой уже никогда и не заляжем на дно, просто не успеем этого сделать, – задумчиво произнесла Она.
Почему-то я ей тогда не ответил. Мы сидели так на кровати несколько минут, смотря в серый мир за окном. Потом я подался назад и лег на спину. Она склонилась надо мной и стала долго целовать в губы. Концы ее распущенных волос упали на меня. Они пахли сладкой лавандой. Я обнял Ее за талию и притянул к себе. Я кусал Ее за тонкую шею и думал, что, наверное, моя жизнь не так уж и плоха. По сравнению с жизнями многих моих знакомых, она очень даже ничего. Очень даже… Сейчас мне было очень хорошо, и я запомнил эти мгновения на всю жизнь.
Не знаю, сколько времени прошло. Мы лежали на кровати и смотрели в потолок.
– А помнишь, как мы танцевали в Танжере?
– В заброшенной вилле?
– Нееет, как мы после уличного представления танцевали балет. Ну, в смысле пытались… – Она приподнялась, всматриваясь в моё лицо.
– Точно… Я так давно этого не вспоминал.
…Вечерний город, солнце село, заря прошла, огни улиц тускло освещают небо. На небольшой площади танцуют балет. Что-то из французской школы. Люди смотрят, тишина, лишь небольшой оркестр играет на потрепанных инструментах, слушаясь дирижера-араба. Невероятно. В лучах нескольких сильных прожекторов влюбленная пара медленно пела свою безмолвную песнь, скованную в жестких и четких движениях их тел. Над площадью были развешаны маленькие лампочки, заменявшие звёзды.
Закончив очередной танец, двое танцоров ушли за сцену. Аплодисменты. Когда они стихли, то он и она вышли с разных концов сцены. Замерли. Один из музыкантов забил монтировкой о большой чан – как будто колокол вдали… Влюбленные побежали навстречу друг к другу, протягивая руки. Встретились, замерли, не решились. Руки повисли в воздухе и опустились, так и не прикоснувшись к другому. Они склонили головы. Колокол затих. Тишина заполнила собой всю сцену, закрыла проходы между зрителями, законсервировала сияние лампочек на мгновения, остановила мерцание звездного неба, свет мощных прожекторов перестал обжигать. Секунда, две, столетие, минута… И она медленно поднимает голову, смотря на лицо любимого. Он тянет к ней руку, проводит по ее плечу, и музыка срывает тишину, вонзая в сердце тонкую печаль, возникшую в утробе виолончели. Он берёт её за плечи, и они взлетают, поднимаясь над всей грязью, что сочилась из наших душ. Я смог сказать лишь:
– О боже…
И медленно слеза стекала по моему лицу. Как они танцевали… Он не отпускал её хрупкое тело, а она летела, поднимая руки к небу, оставаясь всё такой же легкой, как на воле. Он не удерживал её, лишь поднимал всё выше. Их движения слились, а музыка всё пела песнь о том, как труден путь, о том, как много боли, о том, как плачем под дождём, когда одни, когда мы понимаем, что этот день прошёл впустую, как все другие наши дни. Но вдруг я слышу сладкий голос, тягучий и такой родной. И слёзы вновь сменяются слезами, слезами радостных ночей, когда встречались мы. Я был влюблен, оттого и плакал, нам суждено расстаться, как мало времени… как мало времени для счастья! И мы с тобой летим…
И слезы действительно катились по моему лицу. Но плакал не я, а мальчишка внутри меня. Ему одиннадцать лет, он на балете, что потрясает его до глубины души. И все, кто дорог ему, ещё живы, и он сам ещё живой. Не знает о том, как больно жить среди людей, как грустно расставаться с детством, как грустно хоронить и как печально оставаться здесь, когда любимых нету рядом, когда они уж не придут.
Я не помню, как закончилась сцена. Танцоры и музыканты скрылись за шквалом аплодисментов. Я постарался успокоиться, вытер лицо рукавом своей рубашки, думая о том, как же жалко я выгляжу. И только сейчас я почувствовал, что Она стояла, обняв меня и прислонившись своим лицом к моей груди. Она ничего не говорила, просто стояла и… была рядом. Я обнял Её. Это была сцена из русского балета «Анюта». Это было прямиком из моего детства.
– Всё хорошо? – спросила Она через некоторое время, подняв голову и посмотрев на меня.
Знаете, почему художники освещают яркими лампами предметы, с которых пишут свои натюрморты? Ведь если выключить эту лампу, то предметы всё равно будут видны. В чём смысл? В выразительности. В свете люстры эти предметы выглядят обыденно, невзрачно, блекло. Но направленный свет меняет всю картину: цвета насыщаются, тени становятся необычайно черными, на этом контрасте и возникает искусство. Гипертрофированные чувства.
Её беспокойно-ласковый взгляд заставил сердце биться чаще. Он был светом моей лампы.
– Да…
– Хорошо, – она медленно отпустила меня. – Давай потанцуем?
– Что?
– Ну, как они. Пойдем в более светлую комнату и потанцуем. Как умеем.
Не знаю, как, но этого хватило, чтобы меня уговорить:
– Ну что, повторим?
Я провел рукой по её волосам:
– Конечно.
Мы оделись и тихо проникли в комнату фотографа. Там никого не было.
– В этом году что-то поздно все стали готовится к празднику «Улицы Зарёва», – задумавшись сказала она. – В этом году юбилей, я думала, всё должно быть еще пышнее, чем обычно.
– Да, настолько поздно, что я даже и забыл про этот праздник.
– В этому году ещё и Берк не приедет.
Она немного размялась, пока я убирал в сторону декорации недавней фотосъемки, освобождая место для нас. И правда, уже и «Улица Зарёва» вот-вот наступит, а привычного оживления здесь нет. Никто ничего не красит, не шьет, не играет… Юбилей, уже 25 лет прошло с того самого дня, когда Зарёв вместе со своими друзьями провел так называемые «Четыре наших часа» и вскружил голову всему культурному миру города. Говорят, они готовились в этих самых стенах. Теперь же каждый год последние десять лет на один день в году улица Маяковского становится пешеходной: ее заполняют артисты и являют миру себя.
Видя, что я углубился в свои мысли, Она вытянулась, протянув руки к потолку и подняла левую ногу как можно выше.
– А la seconde, – с гордостью сказала Она название позы.
Я обернулся.
– А arabesque сможешь?
– Только с помощью партнера, – улыбнулась Она.
Я подошёл к Ней сзади и взял за талию. Она наклонилась вперёд, стоя на одной ноге, вторую вытянула назад под углом в девяносто градусов. Я медленно стал крутиться с ней на одном месте.
– Что у тебя сейчас играет в голове? – спросил я.
– Щелкунчик.
– Как по-детски просто.
– Зато у тебя тоже в голове заиграло, да?
Она медленно вернулась в исходную позицию на обе ноги и повернулась ко мне:
– Ну и как?
– Отлично, но fouetter мы точно не осилим.
– Мы? Да ты же стоишь – ничего не делаешь!
– Я направляю тебя, как истинный знаток балета.
– Бука! – она хлопнула ладонью по моей груди и обняла. – Да ну этот балет.
Мы медленно кружили по комнате в тишине. Большего нам и не надо. За окном уже ночь, но город не спит. Мы тоже.
– А помнишь, что я сказала, когда мы также стояли, обнявшись после танца в ту ночь?
Её голос был тих и грустен. Я понял, что ответ здесь не нужен. Мы бесшумно продолжили передвигаться по комнате под тусклым светом лампы под потолком. За окном шёл дождь. Она прошептала, дрожа душой:
– Господи, дай нам еще один день.
Это был замечательный вечер.
В дверь постучал Гумбольт.
Прошлое.
Утром испытываю боль.
Неопределенность.
Сегодня идёт снег –
Сказочный город спит.
Домики с заостренными крышами растянулись вдоль маленькой речки, закованной в камень набережной. Фонари выключили минуту назад. Снег падал большими хлопьями в утренней тишине. Под окнами проехала, жужжа небольшим мотором, снегоуборочная машина. Комната наполнена холодным тусклым светом. Все цвета поблекли. Полупрозрачная занавеска на окне – сидя на другом конце комнаты, хорошо видны темные окна домика напротив. Возможно, кто-то так же сидит в глубине того дома и смотрит в окно на наш дом. Странно. Зима, а светлеет довольно рано. Неужели природа восстала против нас, нарушая привычное расписание дня и ночи? Как же мы боимся перемен…
Площадь перед маленьким зданием вокзала с башней припорошил снег, спрятав брусчатку под пушистый белый ковёр. На вершине башни часы. Стрелки беззвучно скользят по циферблату в тишине. На этом белом поле только одна цепочка следов – он решил прогуляться. Теперь стоял и смотрел на горы, высящиеся за башней. Их вершины уходили в облака. Мимо со скрипом по снегу прошёл человек с большим чемоданом и скрылся в дверях вокзала. Спешит на первый поезд. Из-за поворота за спиной, жужжа, выехала снегоуборочная машина, водитель в маленькой стеклянной кабине сгорбился над рулем.
Покурив, наблюдая за очисткой площади, он вернулся в теплый дом. Стряхнул от снега одежду в прихожей и поднялся на второй этаж обратно в комнату. Повесил пальто с шарфом за дверью, снял обувь, прошёл по жесткому ковру с симметричными изображениями цветов к кровати. Она проснулась и смотрела на него. Ничего не говорила. В углу стоял её серый рюкзак. Он не понял, почему посмотрел на него. Она сразу же поймала его взгляд.
– У меня раньше.. был разноцветный. Сшитый из лоскутов ткани.
Её голос немного похрипывал – пересохло горло. Он посмотрел на графин с водой – ещё осталась.
– Доброе утро, Сирень.
Она кивнула головой.
Он сел на стул рядом.
– Что, даже не спросишь куда ходил? А ведь мог не вернуться. Не по собственному желанию, естественно. Сама знаешь, какой сейчас опасный мир…
– Герой, – безэмоционально ответила она.
Он перестал улыбаться:
– Опять безрадостное утро, да?
– Говоришь так, будто привык к ним.
– А тут иначе и не получится…
Они замолчали. Снег продолжал идти за окном. Первый поезд уже далеко отъехал от города, второй уже на подходе к нему. Скоро откроются первые магазины: продавцы уже в них.
– Мне вновь снился Цвет. Как живой, – прошептала она.
– Да, ты знала многих известных в лицо, – без интереса ответил он.
Строго на него посмотрела и не стала продолжать.
Он, вздохнув, встал, налил воды в стакан и протянул ей, подойдя к кровати:
– Выпей, хрипишь.
– Как старуха?

