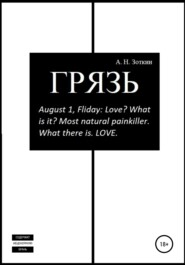 Полная версия
Полная версияГрязь. Сборник
Зажатый поначалу Ёжик уже в середине рассказа повысил голос и, сам того не замечая, активно жестикулировал свободной рукой. На его глазах выступили слёзы, но голос не дрогнул: вновь зазвучали цепи, режущие сердца слушателей своей пронзительностью и искренностью. Гости ресторана замерли. Они не ожидали, что в их любимой и мирной «О, Раме!» вдруг заговорят об ужасах войны. Кто быстро ушёл, кто-то пересел в дальний зал, некоторые пытались сделать вид, что ничего не происходит. Мало кто от начала и до конца смотрел на выступающего. Это было действительно тяжело. А к месту ли? Этот город и его жители не видели войны уже много лет, память о последней для многих исказилась, стала чем-то вроде таблицы умножения на стене – делом привычным и отшлифованным, а у молодого поколения не вызывала никаких эмоций: надо – так отпразднуем. В этом уголке мира и сытого покоя речь Ярослава Ёжа была уколом самолюбию и образу жизни его обитателей. Необходимым уколом, как считал Зарёв.
Когда выступление закончилось, то было встречено жидкими аплодисментами 5-7 человек. Николай отвернулся и посмотрел в окно под потолком. В нём был виден кусочек серого неба. Внезапно из глубины кафе раздалось громкое хлопанье, которое стремительно приближалось. Поэт повернулся на звук: из второго зала вышли официанты и повара «О, Рамы!», которые наполнили помещение громоподобными овациями. Посетители кафе уже не могли остаться в стороне и присоединились к этому. Ёжик заулыбался:
– Спасибо, спасибо…
Слез со стула и поклонился.
Зарёв одобрительно покачал головой: они были на верном пути.
А в четверг сама эпоха подтолкнула их идти дальше.
О смерти почетного члена союза литераторов А. С. Николай узнал только когда приехал в редакцию. Он думал о том большом количестве материала для выпуска, которым они еще не занимались. Надо было полностью посвятить себя работе. Но стоило войти в дверь, к нему сразу же подбежала Лена и протянула газету. Она выглядела бледной, мимики на лице не было, не считая взволнованных глаз, перескакивающих с него на газету и обратно. Зарёв взял газету и прочитал первую полосу. Хотел что-то сказать, но не стал, лишь немного высунул язык и прижал его зубами.
Писатель А. С. родился почти семьдесят лет назад. Талантливый и способный, он уже в юношеские годы становится редактором областной партийной газеты, а окончив университет, быстро входит в высшие инстанции советской цензуры. Увидев запретительную кухню изнутри, молодой человек понимает, насколько она глупа и безжалостна, и начинает свою знаменитую протестную борьбу сначала с цензурой, а потом и со всей партией. Он посвятил борьбе за права человека, гласности и прозрачности власти всю жизнь, несколько раз будучи объявленным партией врагом страны номер один, отправляясь в ссылки и не имея никакой возможности публиковаться. В новой стране его приняли и возвеличили: он стал одним из символов крушения режима. До самого последнего вздоха А. С. продолжал заниматься правозащитной деятельностью, за день до своей смерти он выступал на заседании Государственной Думы, где раскритиковал современное несменяемое правительство и зачитал своё видение реформ всех ветвей власти, чем вызвал осуждение большинства депутатов.
– Сейчас во всех городах происходят мирные забастовки, везде тиражируется его последняя речь. Если верить новостям, люди возводят целые мемориалы памяти А. С. А президент и администрация молчат в такой день, могли бы и сказать хотя бы пару формальных фраз, – стоя у окна, рассказала Лена.
– Мы не будем делать газету на этой неделе.
– Что? – она повернулась к столу, за которым сидел Зарёв в пальто.
– Мы распечатаем официальный некролог и напишем, что в знак траура наша газета присоединяется к мирным забастовкам. Это будет правильно.
– Ну, не знаю… – Лена скрестила руки на груди и начала прохаживаться по комнате.
Они не услышали, как в коридоре хлопнула входная дверь.
– Поговорить надо, – раздался внезапный знакомый голос.
Николай повернулся и увидел знакомые длинные волосы и куртку с подкладкой.
– Предлагаешь прогуляться?
– Не до Рубинштейна, конечно, но прогуляться стоит, – ответил Цвет.
Зарёв виновато посмотрел на Лену:
– Ну, мы пойдем… Сама понимаешь.
Она кивнула.
Друзья вышли на улицу и направились к Таврическому парку.
– А на Рубинштейна сходить стоит, давно там не были, – сказал поэт, смотря на солнце, выглядывающее из облаков.
– Да кто ж спорит…
Золотая осень… Успей насладиться, пока ветер не сорвал.
А ведь красиво, когда над тобой шумят столетние дубы. Поднимешь голову – солнце сливается с листвой в ослепительный желтый ковер, тускнеющий к краям. И высота этих величественных деревьев поражала, вселяла благоговейный трепет перед своей застарелой мощью. Весь Таврический на ветру оглашался хором тысяч листьев – в это время года листья могут только петь. И чем ближе зима, тем печальнее и тише становится их хор – ряды неумолимо редеют, пока, наконец, не заскрипят голые ветви в тоске своей.
– Я им предлагал тут установить памятник или хотя бы памятный камень Пекуринену.
– Это тот финн, который отказался воевать и за него вступился Эйнштейн? – с пренебрежением спросил Цвет.
– И которого в итоге забили прикладом за то, что он отказался надевать форму и убивать других.
– Ну да, у нас же свои вояки есть, которым только назови врага.
Они сидели на лавке перед гладью пруда. В ней отражался дворец, стоящий на том берегу. Без малейших искажений, придумок – как в зеркале.
– Что скажешь про А.С.? – спросил Антон.
– У меня дома лежит экземпляр его мемуаров.
– Великие люди непременно должны сами задокументировать свою жизнь во всех подробностях. Это их обязанность.
– Как-то сдавленно говоришь.
– Да день сегодня к другому не располагает. Слышал про забастовки?
– Да, Лена рассказала.
– К слову об этом. А если без обид, то как сейчас с Сиренью?
– Пфф… – Зарёв подумал, вертя в руках телефон. – Разочарование. Наверное, в первую очередь именно это.
– Грустно. Знаешь, а ведь я тебе дал ее адрес и номер. Ты думал, что было бы, не позвони ты тогда?
– Да, думал. Возможно, всё было бы гораздо лучше. Так я себя утешаю.
– Хватит уже страдальцем быть. Это приятно, но это тебя убьет. Посмотри, как Лена на тебя смотрит. И как ты на нее.
– Да ладно тебе.
– Просто варианты, просто варианты. «Готов ли ты отдать свою любовь другому человеку, чтобы спасти его?» Вот она готова, в отличие от некоторых, я уверен.
– Вечно ты коверкаешь мои вопросы.
– А как иначе тебя вернуть к жизни?
Коля улыбнулся и посмотрел на друга:
– Да, пора возвращаться. Эта неделя, она как-то захватила меня, приподняла, напомнила о важном.
– Мир?
– Мир.
Они пожали друг другу руки, а потом обнялись.
– Да, зазвездились мы с тобой тогда.
– Не то слово как.
Николай откинулся на скамейку и посмотрел ввысь:
– Но ты ведь не только помириться пришел? Выкладывай, что у тебя на уме.
– Мы присоединимся к забастовке.
– Присоединимся.
– И… дадим концерт.
– Дадим концерт.
– На крыше… и посвятим его всему городу.
– На крыше, и посвятим.
– Такая идея.
– Хм… знаешь, у меня нет никакого желания лишний раз с силовиками отношения выяснять.
– И я знал, что ты так скажешь. Но вот скажи…
– Ты как всегда подготовился…
– Что будет, если сейчас закроют «Кинзу?»
– Да ничего особо.
– Тогда ничего не будет, если закроют нас.
Зарёв покачал головой:
– Не спорю. Когда и где? Недалеко отсюда на заросшем доме.
– Знаю такой.
– И завтра.
– Чудесно, – Николай посмотрел на друга. – Будем снова гореть. Ромен Гари, Ромен Гари, Гари Ромен, Гари…
Этим вечером Зарёв готовился к завтрашнему концерту, и в его руки случайно попало одно из писем Сирени. Он взял его в руки, подошел к столу и по первым строчкам вспомнил его содержание. Здесь она мечтала жить в Питере, рассказывала про детей, которые родятся у них, и то, как каждый день будет ждать его прихода с работы.
– Сирень, что же мы с тобой наделали?
Он не понимал, как это произошло. Если кому-то расскажешь их историю, то он покрутит пальцем у виска, потому что почти вся она кажется какой-то странной, а может быть даже глупой. Но людям не обязательно знать их историю. Люди вокруг не сумасшедшие. А они, два влюбленных сердца – да. Ведь настоящая любовь – это невообразимое сумасшествие. Николай понял это только с Сиренью. Думал, у них самая настоящая любовь, думал, что это доказывает время и вера, которой они жили порознь каждый день.
Он до сих пор не понимал, как родилось это чувство. Почему оно такое сильное? Но оно родилось сразу. «Помнишь, как мы смотрели друг другу в глаза, когда танцевали на сцене? А потом я жутко мучился из-за того, что не мог найти тебя нигде, ни в один из приездов. Я искал, искал тебя в следующие приезды в том городе, заглядывая в витрины на Невском проспекте, поднимаясь на стены Петропавловской крепости, искал тебя в аэропорту, искал в столовых и метро, я искал». Настоящая любовь – это беспрерывное путешествие.
Он не понимал, почему они не разлюбили друг друга, хотя всё, абсолютно всё было за это. Настоящая любовь – это разочарование и боль. Но они не могли бросить эту боль, как и любимого человека. А Зарёв любил её. «Люблю! Люблю всем сердцем, люблю всей жизнью, я люблю!» Потом он пытался забыть это чувство, но ничего не вышло. Он не смог. Никто не мог быть как Сирень. А другой ему и надо.
Но кое-что он всё же понимал. Этого не поймут люди. До тех пор, пока не станут такими же сумасшедшими. Он понимал, что на нем лежит большая ответственность. И он с ней справится. Всё будет хорошо. «Следи за собой и жди. Осталось немного. Поверь мне, ради тебя я сделаю многое, если не всё. Я стану лучшим в своём деле. Но сначала обниму тебя. Мне тебя не хватало».
Что стало с нашей любовью, Сирень? Зачем это было всё, раз такой бесславный финал нас настиг?
Мы же любили. Мы же любили.
Сирень была беспечным существом. Со школьной скамьи она всю жизнь перебирала мужчин, пытаясь найти того, кто решил бы все ее проблемы, даровал уверенность, стабильность, создал её покой за неё. И каждый раз она разочаровывалась, не в силах выдержать того, что все они были живыми людьми со своими мечтами и желаниями. И вот она смотрела на этот мир, такая прекрасная и таинственная, смотрела, чуть отстранившись, ловя на себе восхищенные взгляды, отвечая на них, но не приближаясь. Её интуиция подсказывала: нести ответственность за других – это очень нелегкий выбор. Потому и стояла, прикрывшись легкой вуалью, ожидая принцев, что сами подойдут к ней. Тогда ей легче будет их скинуть в случае неудачи.
Зарёв же искал принцессу, которой, как истинный благородный рыцарь, сможет посвящать свои подвиги, и никуда она не денется из его высокой башни. Одна любовь – на всю жизнь. Чудесная сказка, в которую хочется верить. Всё вторит этому: мораль, искусство, ТВ, мифы и даже религия, что порой так далека от первого слова в этом ряду. Но потом оказывается, что мир далек от писаний святых и десяти сезонных сериалов. Это как пепел, падающий с небес, которому еще найдется место в нашей истории, – не этого мы ожидаем, выходя на улицу.
Они оба искали своего спасения в других и, встретившись, не смогли дать друг другу ничего, кроме мимолетного наслаждения и многих лет боли, памяти, что тянула их назад. Сомнения Зарёва: придумал он эту любовь, чтобы стать для себя святым, или и вправду любит, как в тех чудесных историях? Страдания Сирени, чьего сердца и вправду коснулся тот сероглазый поэт, но была ли это любовь? После всех отношений, ругани и расставаний – была ли она способна на долгое чувство? Всё это висело в воздухе, как серый утренний дождь за окном.
Зарёв смял письмо и оставил его на столе. Включил Джонни Кэша и пошёл выливать оставшееся спиртное в раковину.
And then I see a darkness,
And then I see a darkness.
Did you know how much I love you?
Its a hope that somehow you,
Can save me from this darkness.
И теперь я вижу тьму,
И теперь я вижу тьму.
Знала ли ты, как сильно я люблю тебя?
Есть надежда, что как-нибудь
Ты спасёшь меня от этой тьмы.
Небо заволокло тучами, и город накрылся гигантской серой тенью, которая нещадно убила все цвета города, обратив некогда пестрящие своей красотой дворцы в неприметные блеклые дома. Ветер подгонял прохожих, бил по щекам, пытался срывать флаги и рекламные плакаты, вызывал мурашки по всему телу одним прикосновением ледяных пальцев. Город дышал. Его дыхание вобрало в себя три столетия истории, три века интриг, убийств, террора и лжи его обитателей. Суровая Балтика тоже приложила к этому свою водянисто-свинцовую руку холода: ветер пах морем и городом. Складывалось ощущение, будто сама природа выгоняет человека из этих мест.
Сейчас эти люди тысячами сновали по улицам города, погруженные в свои проблемы, дела и мысли. Их было очень много, но и так мало для них же. Лишь единицы из этих тысяч заметили, что на крыше дома на оживленной улице в центре города что-то затевается. По крыше ходили люди, которые перетаскивали на неё большие колонки для концертных залов, клубки проводов, длинные подставки для микрофонов, а в конце гордо установили барабанную установку. Прохожие стали останавливаться.
– Что это, концерт? Если да, то я ничего об этом не слышала! – возмущалась женщина с дипломатом в руках.
– Сейчас в инете посмотрю, мам, – сказала девочка рядом с ней и уткнулась в телефон.
– А что там такое? Что здесь происходит? – загалдели люди, сбиваясь в небольшую кучку на противоположной от того дома стороне улицы.
– Что там будет?
– Увидите, – с хитрой улыбкой ответила девушка с милыми щечками.
Она пришла сюда по приглашению Зарёва, как и Лена, и Даня Берк, и Малыш Ёжик. Только они и те люди на крыше знали, что сейчас произойдёт, но волнения и интереса это знание не убавляло. Крыша опустела на несколько минут. Люди уже начали расходиться, но появление там четырёх фигур заставило их вернуться. На фоне серого неба три чёрные фигуры подошли к микрофонам, две из них держали в руках гитары, а четвёртая тень села за барабанную установку. Они начали проверять инструменты, проводить руками по грифу и тонким струнам, перебрасываясь небольшими фразами.
– Волнуешься? – спросил Антон, снимая куртку и оставаясь в одной толстовке.
– Думаю, как бы нам вниз не упасть, – отшутился Коля.
– Со временем привыкнешь.
– Этого и боюсь. Начинаем.
– Хах, соскучился уже по этим твоим суровым «начинаем». Я таким себе капитана Немо представлял, хладнокровный морской волк.
Зарёв хмуро посмотрел на него.
– Эх, ладно, ладно…
Они решили начать со своей «классики». Легкая блюзовая композиция, наполненная благородной отделкой дорогого заснеженного горного курорта.
Бери билет, езжай домой,
Забудь о жизни молодой,
Забудь мои слова в ночи,
И вопль, что застрял в глуши…
Маша начала пританцовывать на месте. Сияющая Лена незамедлительно присоединилась, потянув за собой Даню, который, вздохнув, присоединился к ним. Малыш Ёжик с улыбкой за ними наблюдал, но почему-то не присоединялся.
Последняя нота сорвалась со струн. Жидкие аплодисменты. Ничего, это только начало!
– Help играем, классику. Антон, давай ты пой. Разогреешься заодно.
– По рукам.
– Готовы? – Громко спросил Николай у группы, наконец оторвав взгляд от крыш ближайших домов.
– Да!
– Да.
– Погнали уже!
Поэт бросил взгляд на Цвета:
– Аллен Гинзберг, Харе Кришна! – процитировал он Леннона и отстранился от микрофона. – Начинай.
– HELP! I need somebody. HELP! …
Их HELP! разносилось по улицам как громовые раскаты. Это был крик души. На их «призыв» сразу же откликнулись новые зрители: жители близлежащих домов полезли на свои крыши, а толпа уже почти перекрыла тротуар.
Началась изморось. Мелкая-мелкая. Но, впрочем, это не преграда. Ежику даже показалось, что музыканты не обратили на нее внимания. И правда, зачем обращать внимание на такие мелочи?
Когда песня закончилась, Зарёв сказал:
– Это всё, – обвел руками собравшихся. – В память о нашем любимом А.С. И в память о том, за что он боролся!
Инструменты на мгновение зарычали, и стройная музыка полилась над городом.
Вы тоже слышите это эхо?
Эхо Геттисберга гремит над нами.
Отличная погода и сухая трава,
Что устилают наш путь вперёд,
Свидетели наших страхов и героев.
Впереди – север, впереди – Вашингтон,
Сегодня последний день войны,
Надо только взять ту гряду.
Все те, кто погиб в прошлом,
Сегодня шагают с нами.
К танцующим присоединилось около десятка человек. Остальные стояли и косились на них с опаской. Многие снимали происходящее на телефоны. Кто-то поднял вверх плакат с надписью «Вудсток» и нынешним годом. Действительно, похоже: люди в дождевиках танцуют по лужам, а музыка льётся во все стороны, провозглашая мир и любовь во все уголки мироздания.
Важно ли кто победит?
И когда это было важно?
Господь спросит нас об этом?
Ярослав перевел взгляд наверх, на Зарёва в этих серых лучах жизни, бьющих со всех сторон. Серый цвет не нужно понимать буквально. Узнайте его историю и поразитесь, сколько в этом оттенке цветов. В сером есть всё. Это универсальный цвет жизни, несущий в себе нашу великую печаль жизни, умеющий радоваться солнцу на заре и становящийся светлее от теплых прикосновений. И в этих лучах Николай был великолепен. Это было его призвание, его крест, который он поднимал, раз за разом вдохновляя нас.
Я нарисую чёрные шахматы,
Без твоей любви,
Без твоих огней,
Чёрные, как иней души моей.
Я нарисую чёрные шахматы,
Позабуду прошлые дни,
Уйду в сторону, как и ты,
А потом пойму: мы одни…
Так уж устроены мы…
Я нарисую чёрные шахматы,
Забытые мною в гранитной тени,
Я нарисую чёрные шахматы,
Чёрные до первой зари…
Сегодня после двух с половиной лет осады был взят Мадрид. Небо над Испанией прояснилось.
Сегодня Японская Императорская армия овладела Нанкином.
Сегодня Киев был оставлен врагу. Фронт разбит.
Сегодня мятеж в Варшаве был окончательно подавлен.
Сегодня Эль-Кувейт был полностью оккупирован силами союзников.
Сегодня танки вошли в Ригу.
Сегодня при посредничестве ООН завершилась кровопролитная осада Сараево.
Сегодня пал Сайгон. Война окончена.
Минут через двадцать после начала концерта приехали милиционеры. Офицер поднялся на крышу и терпеливо дождался окончания песни.
– Здравствуйте. Соседи жалуются на шум, – сказал он Зарёву, стоя в чердачных дверях.
– Сильно жалуются, товарищ?
Милиционер криво ухмыльнулся и скрестил руки на груди:
– Достаточно для того, чтобы спеть сейчас последнюю песню.
– Это милосердие?
Офицер с улыбкой промолчал и добавил:
– А спойте ту про рыжеволосую. Мы с женой любим эту песню.
Николай подмигнул и обратился к собравшимся:
– Последняя песня посвящается всем нам. Одиноким душам, что ищут свет и тепло. И даже не подозревающим, насколько они прекрасны в каждом мгновении своём.
Толпа радостно зааплодировала. Цвет взял акустическую гитару и со словами «уходить, так чтоб за душу взяло» ударил по струнам.
Лена подсела к Ёжику, чтобы отдышаться. Малыш улыбнулся и, показав на крышу, мечтательно сказал:
– Правда, он лучший?
Лена посмотрела наверх.
Я влюбляюсь в тебя раз за разом,
Только увидев твои рыжие волосы,
Я влюбляюсь в тебя раз за разом,
Видя твою добрую душу,
Раз за разом, раз за разом,
Я влюбляюсь в тебя, я влюбляюсь в тебя,
Каждый день, каждый день,
Я гуляю в одиночестве,
Год за годом, день за днём,
Я просто влюбляюсь в тебя.
Раз за разом, год за годом…
– Да, – не отрывая взгляда, прошептала она. – Лучший.
– Не дайте им вновь распять Христа! – крикнул Зарёв на прощание и скрылся вместе со всеми.
Аплодисменты, аплодисменты и радостные крики. Это было возвращение. Лена посмотрела по сторонам и увидела Кирилла Златоусцева, стоящего под руку со своей женой. В тот миг они выглядели счастливыми.
А ещё будут осенние дожди. Серое небо растянулось над городом на долгие-долгие годы. Всё промокнет, даже самые недоступные казематы наполняться водой. А когда дождь остановится, чтобы передохнуть, то неспешные шаги будут слышны в маленьком и дремучем саду за фонтанным домом. Большой рыжий кот уже не будет обращать на них внимание. Он сядет посреди дорожек и будет чистить свою пушистую шерсть. Когда-то здесь жила Ахматова… Это перестаёт впечатлять во время прогулки по саду. Ты поднимаешь голову и видишь высокие дома, окружающие это клочок земли со всех сторон, ты слышишь гул неспящих улиц. Да, это всё есть, но оно размыто. И руки не дотягиваются, чтобы схватить их.
Господи, дай нам еще один день
Допив чай, я поставил бокал на ободранный журнальный столик и в задумчивости произнес:
– А тебе снятся чужие женщины?
– В смысле? – встрепенулся Гумбольт, оторвав взгляд от книги.
– Ну, такие, которых ты никогда не видел и не знаешь. Но во сне они играют важную роль.
Мы сидели в красных креслах у окна напротив входной двери, и в вышине потрескавшихся потолков этот вопрос из-за своей неожиданности и туманного значения разразился устойчивым громовым эхо. Но меня это действительно беспокоило. Я внезапно вспомнил, что Она мне снилась и до нашего знакомства.
Гумбольт наморщил лоб и через минуту ответил, повернувшись ко мне:
– Ну, вообще-то, да.
– Чудно, назовем это… мужским.
Она шла по направлению к площади, и вспоминала, как приехала пару дней назад в этот город. Это было бегство. Подавленность, бессилие. Серость.
В окне электрички пролетали серые сухие рощи голых деревьев и покинутые растениями поля. Капли дождя бились о стекло и моментально проносились по нему, оставляя длинный тонкий след из воды. Освещение в вагоне было включено: утро только наступало, а тучи бетонной стеной, высящейся от горизонта до вершины самого неба, закрыли рассвет. Казалось, что если выйти из вагона на полустанке и посмотреть наверх, то высоко-высоко можно было увидеть вершину этой серой стены, окутанную колючей проволокой, и чистое рассветное небо над ней. Сверкнула молния, отразившись тысячью осколков в дожде, блеснув в каждой капле. Пахло пластиком и стерильной чистотой. Окна закрыты, холодом дул кондиционер. Она сидела на мягком сидении и смотрела на эти пейзажи, сравнивая дождь со слезами ангелов. Зевнула, прикрыв рот рукой: она почти сегодня не ложилась.
Этой ночью прошла волна арестов. Большие мужчины в балаклавах и толстых куртках ломали всё и всех, они взяли многих. Жаль только, что в большинстве случаев эти люди были виноваты лишь в том, что знали не тех людей, выбрали не тех друзей. Страшно. Когда карательные отряды правоохранителей ворвались к ним в квартиру на Сталеваров, то Она сидела на кухне и пила чай. Крики, рык команд и оглушающая боль, закрывающая глаза черной пеленой. Её друг успел среагировать – вскочил, кинулся к коридору, но сразу же отлетел обратно: за несколько ударов ему разбили лицо, подняли за руки и бросили на столешницу, доставая наручники, но тут он громко закричал: его бросили на кружку чая. Тонкое белое стекло треснуло и его осколки впились в щеку несчастного, а моментально растекшийся горячий чай ошпарил его раны. Замкнув наручники, подняли, ударили в челюсть и выволокли. Его ноги волочились по полу и сразу же на пороге кухни потеряли тапочки – дальше босиком. Ей повезло: служитель порядка только заломил Ей руку, а после раздался крик из прихожей:
– Девку не бери, она не нужна. По спискам берем.
– Да как так-то! Ээ, соучастие!
– Закрой пасть! – раздался громкий рык из прихожей.
И Ее отпустили, толкнув на пол. Уходя, боец наступил массивными берцами на Её кисть. Сдержалась, не застонала. Через минуту всё затихло. Она сжала зубы, но слезы все равно потекли по Ее щекам. Она медленно встала и села на табуретку, держась за травмированную руку. На столе все было перевернуто, осколки кружки Ее друга лежали в лужице крови, разбавленной зеленым чаем, которая медленно растекалась по клеенке с яркими нарисованными букетами роз. Звери. Сейчас Она могла в подробностях описать всё, что произошло, тогда же, сидя в одиночестве на кухне, Её трясло; облокотившись о шкаф, Она лихорадочно билась о него спиной, даже не замечая этого. Сердце пыталось вырваться из Её груди, и, чтобы это предотвратить, Она обхватила коленки руками и прижала их к себе, пытаясь унять тряску. По ноге текла струйка крови из пореза ниже коленки, но и этого Она тогда не заметила. Ей было очень страшно.

