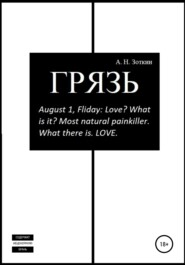 Полная версия
Полная версияГрязь. Сборник
Она зевнула, прикрыла рот рукой и в мгновение ока перешла в нападение: резко перевернулась на спину через левое плечо, оказавшись вплотную со мной, и вцепилась в мою руку, повиснув на ней, пытаясь выхватить блокнот. Я даже не сопротивлялся, поражаясь Её прыткости и скорости: блокнота у меня уже не было, а Она спокойно лежала рядом на животе и читала последнюю запись.
– «СОГРЕШИТЬ»? Ха-ха-ха, да ты реально странный, – Она вернула блокнот и легла на спину. – Грешник, блин, ха-ха-ха! Как ты до этого вообще додумался?
– О, тебе этого лучше не знать.
Она перестала смеяться, вытерла пару слезинок. Наступило молчание. Она смотрела на меня.
– Значит, всё-таки увидел прекрасное.
Она взяла горсть песка и стала насыпать его на свой плоский животик. Одну горсть, вторую, третью…
– Что ты делаешь?
– Твоё внимание привлекаю, непробиваемый, – улыбнулась Она.
Ямочки на Её щеках были ослепительней солнца.
– Хочешь грешить, так греши, – ласково сказала Она. – Только со мной.
– И где же здесь будет грех?
– Найдем, – подмигнула Она, поднялась, стряхивая с себя песок, и повалила меня рядом с упавшим зонтом на песок в объятиях.
Её тело обжигало меня.
В Танжере мы постоянно пили марокканский мятный чай, он был повсюду. И не надоедал.
Как-то раз я спросил у Неё: «А почему слезы ангелов?..»
– Должны же они плакать, смотря, во что превратился наш мир.
Время текло здесь по-особенному – очень лениво, сонно, забывая переводить стрелки на нужное время.
– А тебе холодно? Там, внутри?
– От страха?
– Нет, от прошлого.
– Нет, от прошлого мне больно.
– В груди холодно.
– Больно.
– Холодно.
– Больно.
– Холодно.
– Больно.
– Бука! – и Она накинулась на меня с кулаками.
Мы были отличными друзьями.
Как-то раз мы забрались в местную заброшенную виллу и всю ночь танцевалитанцевалитанцевалитанцевали под роллингов. Вилла стояла на одном из высоких холмов, близ города. Под нашими ногами раскинулась долина, наполненная огнями. До момента, когда ее заполнит своим светом солнце, была еще целая ночь. Вилла была абсолютно пустой, местные не смогли вынести только стены. Это было чудесное место для пикника. Каким-то чудом Она нашла здесь куклу в одной из комнат – последнюю обитательницу этого места. Кажется, что это было так давно. Через несколько лет Она потеряла эту куклу в метро. Но не особо расстроилась, посчитав, что так кукла снова отправилась в своё путешествие. Кто знает, быть может, Она сама ее выкинула.
Мы развели костёр, повесили одно из наших полотенец на стену, зацепив за старые гвозди. Она сказала, что это для уюта. Я согласился, это было похоже на ковёр. Достал из сумки две бутылки неплохого вина. В местных магазинчиках каждую бутылку заворачивают в несколько слоев бумаги и кладут в непрозрачный пакет. Пока я разворачивал всю эту капусту, Она ухмыльнулась и достала из своего оранжевого рюкзака вино получше. Я улыбнулся. Марокканская ночь была спокойна и ласкова к нам. Нам было чем заняться.
в ту ночь.
безумия
нашего
по лестнице
поднимались
быстро
Мы
Рассвет сделал время ещё более тягучим, неторопливым. Солнце вставало над холмами. Эти пейзажи в своё время послужили основами нескольких для картин Анри Матисса. Думаю, они не изменились с тех пор, уж слишком красивы были их склоны и изгибы, подчеркнутые солнцем. Она накинула легкий шелковый платок, сшитый восточными мастерами, и стала позировать в беззвучной утренней заре, стоя в проёме большого окна высотой во всю стену. Наверное, на танец ей уже не хватало сил. Этим Она мне напомнила, чьи изгибы действительно живописны.
Однажды Она пришла из магазина совсем не в духе. Спросила меня перед уходом:
– Я пошла в «Маржана21», тебе что-нибудь прихватить?
Время шло, и мне уже казалось, что у Нее загорели даже пятки. Хотя чему я удивлялся, сам каждый день сидел под африканским солнцем. Я сказал:
– Да вроде всё есть.
Она ушла с сумкой в руках. Пришла без. Плечи опущены, вместе с головой. Я не успел встать с дивана – Она сразу же бросилась к дивану, легла на меня и обняла.
– Что случилось?
Но Она не ответила. Лишь заплакала, содрогаясь всем телом от всхлипов. Её горячие слезы падали на моё лицо и стекали по щекам. Она крепко обняла меня и не отпускала. Я пытался спрашивать, что случилось, но Она не отвечала. Моё сердце разрывалось от её слёз. Я обнял Её. В тот момент мы были ближе друг к другу, чем когда-либо. В Танжере, на старом диване. Через несколько минут Она успокоилась, подняла голову, посмотрела на меня заплаканными глазами и страстно поцеловала. Я пытался остановить Её, но она в мгновение ока уже сбросила с себя платье. Только вечером я увижу, что оно порвано сбоку. А сейчас Она страстно целовала меня, проводя руками по моему телу. Полминуты – и теперь Она лежит на диване, а я навис над Ней. Вдохнул запах Ее волос, зарывшись носом в них, и начинаю целовать Ее: в лоб, потом кусаю за носик, пробую Ее влажные губы на вкус… хм… вкус её помады с чем-то сладким… провожу языком по подбородку, покусываю губами её тонкую шею, провожу языком и слегка прикусываю зубами увлажненный участок. Она замирает в сладком потягивании кошки, подняв руки и зацепившись пальцами за изголовье кровати, Её дыхание участилось, Она прекрасно играет роль жертвы. Я размыкаю зубы и одариваю поцелуями хрупкие ключицы, с двух сторон вдавливая круговыми движениями свои руки в Ее горящие от прикосновений плечи. Уделяю внимание каждой груди, стараясь не затягивать с ласками. Единственное, что заставляет меня отвлечься – это родинка над Ее грудью, которая непонятно почему манит меня, привлекая внимание моих затуманенных Желанием глаз. Я целую эту родинку, думая о том, что впервые целую женщину не для того, чтобы овладеть ей, а для того, чтобы понять себя, понять, почему эта родинка так манит меня. Возможно, это будет лучшим местом на ее теле, потому что я буду всегда стремиться к нему, когда уже всё другое надоест.
Тогда же я замечу ссадины на Ее ногах и бедре. Она так и не скажет, что произошло. Но потом реже будет выходить одна. Только со мной. Несложно догадаться.
И вот через полгода лениво-сонной жизни Она упорхнула из этого Рая. Оставила записку и исчезла. Я сидел на стуле и думал обо всём случившемся. Я догадывался, почему Она уехала. Взял её пачку сигарет на тумбочке около входа, сел у рабочего стола и закурил. Солнце светило как всегда ярко. Мои размышления прервал уже знакомый мне мальчишка из местной шпаны: он зашел в открытую дверь и сразу же увидел меня. Принялся убегать, но я сказал ему в след:
– Take it. Take whatever you want22.
Он понял. Осторожно вернулся, медленно подошёл к телевизору, не спуская с меня взгляд. Взял его и быстрым шагом вышел на улицу. Я молча смотрел ему в след. Телевизор не работал, но всё же. Наверное, он скоро вернётся. Пора собираться. Я сложил нужные вещи в свой рюкзак. К спине положил новую рукопись. Оглядел нашу лачугу и вышел из неё, не запирая двери. Пора домой.
А на улицах города всё продолжали петь:
Si al latir tu corazon
oyes el eco del tambor
es que el futuro nacera
cuando salga el sol23
Северное море, я вернулся. Я вернулся на твои берега, высеченные из камня. Жутко. Холодно. Я отвык от реальной жизни. Я вновь стоял один, и ледяные волны разбивались в метре от меня. Брызги долетали до лица. Куртка не спасала от ветра. Я был дома.
Потом я пошел по каменным улицам своего родного города. И вот я уже снова был среди своих друзей-маргиналов. Раньше я спрашивал Господа, как я попал сюда, зачем? А сейчас перестал. Всё было и так понятно: ответа не будет. Я должен спастись сам. Но не очень-то я и спешил это делать. Несколько недель я обходил набережную у моста стороной. За это время я вновь стал играть в нашей группе, закапал рукопись из Танжера в одном из парков города и написал новое произведение. Не заставила ждать себя его презентация. Я надел джинсы, потрепанный свитер, кеды и вышел на маленькую сцену одного из многих кафе в нашем городе. Вы точно были в нём. Произведение начиналось так:
– Сердце лежит. Рядом нет ничего. Оно бьётся, оно настоящее. Будто само по себе живёт и не знает о том, что можно жить по-другому: не в отрыве от тела. Нет защиты, оно уязвимо. Воспользовавшись этим, камень, что долго смотрел на него с высоты, спикировал вниз, накрывая черной холодной громадой горячую плоть. Мгновение – и сердце раздавлено, под камнем видно его: оно не бьётся, оно стало плоским. Кровь растекается по пространству, в котором нет ничего.
Это МЕРЗКО, ТОШНОТВОРНО.
СТРАШНО.
Следующие два часа я плевал злобой, страданиями и отвращением. После прочтения несколько человек захлопало. Остальные – молчат. Но мне всё равно. Я читал и был неприклонен, уверен в словах. Оттого всё равно. Вышел на улицу и пошёл к мосту.
Теперь я чувствовал себя по-настоящему одиноким. Я сидел один на гранитном парапете набережной и смотрел не на небо, а на мутную воду. До заката оставалось полдня. Было холодно. Она так и не пришла. Я приходил на это место, как только прогнозировали ясный вечер. Её нет.
Как я узнал, что Она в Танжере? Мы мечтали туда поехать. Я знал, что если Она куда-то сорвется, то именно в город Берроуза. Она привыкла исполнять мечты в реальность. Почему Она уехала оттуда? А почему вы еще сидите на одном месте? Это такой же вопрос.
Прошло полгода. Я сидел на парапете, свесив ноги над водой. За моей спиной по тротуару прошла экскурсия иностранцев. Я пил газировку из жестяной банки. Она подошла ко мне и села рядом, спиной к закату. Я повернулся к ней. Темно-карие глаза смотрели на меня с теплом, рыжие волосы собраны в хвост. Я даже не улыбнулся. Просто обнял Ее одной рукой и прижался щека к щеке. На Ней было серое пальто и перчатки. Я чувствовал Её дыхание. Она снова грела меня своим теплом:
– У нас есть привычка находиться после разлук.
Я не мог с этим не согласиться:
– Да… по всему свету.
Мы были отличными друзьями.
Это солнечное время прошло. Эта история была серой с самого начала, лишь Она и Танжер внесли немного тепла в это мрачное и сырое повествование. Последний год, а может и два, раздавили меня и Её. Мы, ничего не достигнувшие и не имеющие своего места в жизни, рисковали быть смытыми в канаву истории. Но кому было дело до нас?
В Танжере иногда Она засыпала в кресле, перекинув ноги через один из подлокотников и прислонившись к его спинке. Спокойно дышала и почти не двигалась, обхватив себя руками. Дотронешься до Неё – не проснется, только слегка подернет своими загорелыми плечами. Горячая. И это Её нормальная температура, будто внутри Неё горит собственное солнце, призванное согреть всех вокруг. Неудивительно, что Её волосы рыжего цвета. Они пахнут лавандой. На Ней обычно была домашняя майка с надписью «Iron Maiden». Я аккуратно брал Ее на руки и переносил в спальню. Она ни разу не проснулась во время этого. Расслабилась, как ребенок, одна рука всегда падала и качалась в воздухе, вторая лежит на животе. Положив, я накрывал Её легкой простыней, купленной на местном рынке. Если был вечер, то я ложился рядом с Ней, накрывался и отворачивался. Я знал, что Она боялась темноты. Вернее, боялась оставаться одна в ней. И когда Она просыпалась ночью, оказавшись не там, где засыпала, то начинала трогать всё вокруг руками и почти сразу же вцеплялась в меня. Я просыпался и говорил: «Это я». Она успокаивалась и засыпала, тихо говоря «Спасибо».
Воспоминания о марокканском солнце согрели меня, и я задремал у стены, обхватив себя руками. Последним, что я запомнил перед тем, как провалиться в долгожданный спокойный сон, была темнота и мой собственный голос, который шепотом повторял одно и то же:
– Ханна, ты просто персик.
Por la libertad?24
Ella tiene un alma fuerte25, – сказал старик, сидящий около закрытого магазина.
– Je ne comprend pas26, – ответил я и бросил ему монету.
Глава 3. Зарёвская осень
Я понял, что время идёт намного быстрее, чем мне кажется, когда увидел своих друзей за рулями автомобилей. Вчерашние школьники/студенты рассекали на машинах наравне с маститыми прожженными жизнью дядями и нервными тетями. Я же продолжал заниматься чёрт знает чем, благо в последние дни августа повеял холодный осенний ветер – вдохнув его, я сразу понял, что обязательно надо что-то написать. К сожалению, летом было сделано опасное открытие – после хорошего (по размеру) бокала спиртного писалось, словно спалось – просто на ура. Виват, Хемингуэй! И, вечер за вечером, спуск к осенним мокрым листьям на земле. Огни, кто-то не выходил из дома и ежился только утром, вставая в пустой холодной комнате, кто-то за весь день стёр ноги до самых колен, весь продрогший от моросящего шквала, несущегося по всем улицам. Заболеет. Рестораны, подвалы, все двери закрыты, веранды убраны: вместо них – непривычная тротуарная пустота. Многие из моих знакомых сейчас чувствуют боль. Это не книжная боль, расписанная во всех подробностях, мыслях, переживаниях, движениях губ и соленых-соленых слезах, нет, нет, нет. Это боль настоящая, молчаливая, днём, возможно, даже саркастически-улыбающаяся, а перед сном горькие слезы, они обжигают, и неприятно, когда они высыхают. Но чаще всего молчаливая. И в уме как эхо: у меня не всё хорошо, у меня не всё хорошо, у меня…Но только в уме, живые губы говорят: надеюсь, у вас всё хорошо – улыбки в ответ. Обычное дело, желать другому добра. А еще в этой ночи страстные объятия – любви вам, любви, счастливцы! Всё равно – не надейтесь, всё равно не утолите голод! Но вы пытайтесь, пытайтесь. Любви вам, любви. Последние слова прозвучали как за упокой. Это умно – сразу думать на будущее. А вообще, ночь нежна. Так нежна, что хочется плакать, но только вот от чего? От боли своей, от боли чужих? От времени, что бежит, сменяя магазин за магазином на одном и том же углу? Нет, хочется плакать от этого – В-Е-Л-И-К-О-Л-Е-П-И-Я. Великолепия праздных ночей, праздных природой, осенним дыханием в последнее число августа. Лето сгорело, пепел развеян, холодный камень – вот что осталось нам с вами. И ветер этот – только начало потопа. А рестораны горят, люди болят, и тексты заканчиваются так некстати. Да и ночи тоже коротки. Их нежность уходит так быстро, их красота и надежда ускользают в мгновение ока. Как же так, хотя бы одну ночь в году продлить на немного, чтобы хватило хотя бы душе отдохнуть. Но душа безгранична, безгранична настолько, что думаю я о девчонке одной. Она так далека, сейчас уже спит, седьмой сон ее головой завладел. И думаю я о том, как добра, как смела и спокойна она. Добра ко мне, смела к миру. И совестно мне и горько за себя и за жизнь. Будь она рядом, я бы не делал кислую мину, не открывал бы все эти явления жизни посредством литературных попоек. И ведь она рядом, в сердце моём – куда ближе? И… ночь так нежна на пороге осеннем. Я шляпу сниму и прилягу. Сон мой надежно меня защитит до утра. А там новый день. Я буду уже говорить по-другому, новую роль на себя нацепив. И вот написал, что осень просила: смущенно-грустный плач о тех, кто давно уже спит.
Вот так и закончилось лето.
Одним холодным октябрьским вечером Николай сидел дома и наслаждался чашечкой превосходного чая. Настроение было уютно-домашнее. Он пытался уже несколько лет постичь философию этого великолепного и многогранного напитка, но с каждым новым вкусом понимал, что это не философия, а мелодия. Мелодия вкуса. А мелодия, по его мнению, не поддавалась никаким законам. Было уже за полночь. Моросил дождь. Двор был пуст. В больших лужах отражались ярко-оранжевые лучи уличных фонарей. Рябь постоянно нарушала хрупкую водную поверхность, отчего казалось, что свет в отражении начинал танцевать. В этом во всём было что-то поэтичное. Он созерцал, не забывая при этом про ещё горячий чай. Через несколько минут поэт заметил мужчину, одиноко сидящего на скамейке возле лужи. В отблесках фонарей можно было разглядеть его лицо. Он смотрел куда-то вдаль. Зарёв был уверен, что он о чем-то думает. Интересно, о чем? Возможно, у него проблемы на работе или в семье. А может, он кого-то ждёт? Нет, ночью и в такую погоду! А может быть, он сбежал откуда-то? Из дома, например. Или с девушкой расстался? Или все надоело? О чём? О будущем? Или о настоящем? А если он творец? Ищет вдохновения? Или… Пока Коля терялся в догадках, мужчина встал и пошёл по лужам. Казалось, что он зайдет в ближайший подъезд, но нет, незнакомец дошёл до конца двора и свернул на улицу, продолжив своё загадочное путешествие, унося от нас свою тайну. Как говорил всё тот же поэт: «Я люблю недосказанные истории». Впрочем, через несколько лет жизнь Зарёва пролегала недалеко от пути того загадочного мужчины.
– Дорогой, дорогой… – доносилось из глубин коридора.
Кирилл Златоусцев, заснувший над пишущей машинкой и почти коснувшийся широким лбом всё еще пустого листа, резко выпрямился, подпрыгнув на стуле, провел рукой по лицу, сгоняя сон, пошевелил губами и отчаянно забил по клавишам, набирая какую-то несусветицу.
– Кирилл! – раздался капризный возглас за спиной. – Помоги мне с графиками!
Златоусцев перестал печатать, собрал всё своё актерское мастерство в кулак, медленно повернулся к двери, поднял своё заросшее лицо с этими усталыми-усталыми глазами и тихо сказал:
– Миль, я занят. Пишу и… – прекрасная пауза с опущенным взглядом и легким, но проникновенным вздохом. – … Я устал. А еще писать и писать…
Ну-ну, – гневно сказала девушка в дверях.
Это означало, что она оказалась не впечатлена, и собирается продолжать стоять здесь. Её глаза блестели в полутемной комнате сдерживаемой злостью. Писатель трагично кивнул головой:
– У тебя своя карьера, у меня своя…
Девушка постучала пальцами по косяку, неотрывно глядя на Кирилла. Из-за света, включенного в коридоре, силуэт ее каре выглядел как нелепый мотоциклетный шлем. Она в последний раз ударила указательным пальцем косяк и вернулась восвояси. Но Кирилл не выдохнул свободно. Он быстро подскочил к шкафу, надел джинсы, рассовал по карманам ключи, телефон, мобильный и несколько наполовину использованных пластин с таблетками, после чего на цыпочках покинул комнату. Бесшумно прошел мимо гостиной, мельком посмотрев на то, как его молодая жена делает фитнес-упражнения, уткнувшись в экран телевизора. В прихожей быстро надел пальто, плащ, и выскочил в сырую осеннюю ночь.
Поездка до Петроградского острова (и одноименной станции метро) прошла в напряжении и некотором ужасе. Спускаясь по эскалатору, Кирилл услышал женский голос, который преследовал его. Он посмотрел по сторонам и быстро понял: это его. Сидя в вагоне, он закрыл ухо, через которое вещал этот голос, в надежде, что он стихнет. Но женщина, которой не было, продолжала преследовать его почти до самой Петроградской. Потом потерялась в грохоте метрополитена.
Шлёпая по лужам в туфлях в течение десяти минут (туфли несчастный писатель забыл надеть сразу и потому первый раз вышел из дома в тапочках), Златоусцев понял, что из-за темноты не может разобрать дороги. Даже высокие фонари не могли спасти положения. Он сел на скамейку и начал смотреть на дом напротив, собираясь немного отдохнуть и с новыми силами ринуться в бой. Но он и вправду устал. Вставать не хотелось, пальто было достаточно теплым, и он стал думать о том, что на худой конец можно заночевать и здесь.
По счастливому стечению обстоятельств мимо этой лавки проходил Зарёв с объёмным пакетом из супермаркета, в котором звенело стекло.
– А вот и я, – нерадостно произнес он, остановившись. – Давно ждёшь?
Не выходя из образа, Кирилл поднял голову и засиял:
– А я как раз к тебе!
– Да я уж понял. Давно ждешь?
– Очень! Я заблудился и думал, что уже никогда не отыщу твой дом.
– А вот он, – всё еще без улыбки ответил Зарёв и подошел к подъезду в двух метрах от скамейки. – Идём.
Николай знал, что поздний визит Златоусцева не мог быть только проявлением дружеской вежливости и любопытства. Они поднялись наверх.
– Никогда не был у тебя ночью. Вот и заблудился, – оправдывался Кирилл.
– Как же не был? А первый раз, когда мой переезд в этот город отмечали? Ты, помниться, припозднился тогда.
– Что-то не вспоминаю.
Их шаги моментально разлетались по лестничным пролетам, а слова звенели в 40-ваттных лампочках.
– Да меньше года назад же было, напрягай память.
– Ааа, это где ты в ванну залез и дописал свой второй роман?
– О да, – саркастично усмехнулся Коля, вставляя ключ в замок. Воспоминание это не особо его радовало.
Вообще из ванны вид на мир открывается чудесный. И самое интересное, что это место обладало столь сильным очарованием, что, как показалось Николаю, любой уважающий себя писатель хотя бы раз проводил в ней время за работой. Залезал в одежде в пустую, холодную, около слива мокрую ванну, ломая представления о дресс-коде по ту сторону занавески. Этим также можно было привлечь внимание, но в данном случае это стало непредвиденным побочным эффектом. В итоге один из гостей этой ванны обосновался на стиральной машине, положил ноги на чугунный край и стал делиться секретом абрикосового самогона. Рассказывал он это интересующимся, которые сели в темном коридоре напротив открытой двери и смотрели на яркий просвет то ли с интересом, то ли со сдержанным смехом, в любом случае, их глаза горели, а что еще нужно в этом возрасте? Разговоры по душам только начинались между ними.
Зарёву понравилась эта квартира. Она располагала к размышлениям, давала творческий импульс, хотя и была на первый взгляд скудной и имела всего один приличный стеллаж с книгами. Но что-то в этом было. Возвращаясь ночью в свою постель, Николай нёс под мышкой несколько исписанных листов с новым материалом, чтобы положить их на прикроватную тумбочку; он вспомнил, как в юношестве читал книги, чтобы люди не приставали к нему, а потом стал писать. Интересно, что это было? Ему действительно захотелось что-то написать, или его беспокойное бессознательное засунуло его в ванну подальше от всех? Но в тот вечер для окружающих не было особой разницы: все в этом городе такие – если не пишет, то значит, рисует или поет, творческим процессом не удивить. Обитель искусств и всех несчастий, связанных с ними.
Но тогда Николай был ещё в ванной, смотрел на газовый нагреватель и писал, прикрепив листок на вездесущий синий планшет. Нагреватель приятно сопел, а «жизнь» продолжалась: его «попутчик» по ванне освободил стиральную машину и отправился на кухню ставить чайник. В коридоре всё время кто-то ходил, звуки сдержанного праздника доносились из комнат. Была ли это жизнь? Сложный вопрос. Это было сродни сцене из фильма, которую перематывают снова и снова, чтобы насладиться всеми её деталями. И здесь было то же самое: это царство белого кафеля, стен, потолка, эмали, предметов и блестящего крана будто создавало капсулу, которая надежно защищала своего пассажира от хода времени; и он пользовался каждым безвременным моментом: его синяя ручка не знала покоя. Именно поэтому гостя квартиры, сидевшего на машинке, нельзя было назвать никак иначе, он был самым настоящим попутчиком в этом неожиданном путешествии. Главное – не открывать воду, а то чувство чудесной защиты моментально исчезнет, а вся одежда станет мокрой и неуютной. Конечная.
А так вспоминалось многое. Забытый легкий холод поутру с качающимися соснами над головой. Иголки тихо потрескивают на каждом шагу под кроссовками. Все сонные, и немного подрагивают без кофт. Не терпится побежать по стадиону, чтобы согреться, но боль тренировок прошлых дней даёт о себе знать – ноги еле волочатся, а если ускоришься, то точно развалятся, как рассохшаяся древесина под тяжестью груза. Солнце только встало и еще прячется за деревьями. Сегодня ясный день. Что он принесет? Тренер издалека подгоняет криками: он уже на стадионе, большая часть команды заканчивает первый круг. Отстающие ускоряются и через минуту уже бегут по кольцевой дороге вместе со всеми, с каждым шагом пробуждая закоченевшее от сна и нагрузок тело. На втором круге по всему лагерю включается музыка. Отряды просыпаются и идут на зарядку, смотря на чудных спортсменов на стадионе, которые уже успели где-то вспотеть.
Или вспоминались долгие поездки в поездах, особенно когда откинешь голову назад и сделаешь несколько глубоких вздохов. Зимние поезда… Обледеневшие стекла, весь путь закрытые шторой – куском чего-то вроде кожи, не пропускающим света. Закрытая коробка, вечная ночь под тусклой лампой. Или южная жара и кондиционер, которого нет. А за окном один черный пепел – степь сгорела. Только у самых путей вьются огоньки пламени, а всё остальное до горизонта – выжженная земля. И до вечера еще далеко.
Желтоватая эмаль напоминала борта пароходов, курсирующих по родной реке Николая. Разное было, и шторма на водохранилищах, и ясные ночи с широкими лунными дорожками. Великим рекам – великие красоты. И столько мыслей в ночной мгле… Берег беспробудно спит, убаюканный темнотой, решивший всё забыть. И через эту беспросветную мглу двух берегов пробивается трехпалубный корабль с неспящей командой и подходящим для этого случая названием: «Юрий Никулин». Уж если резать тьму, то только правдой. Наверное, этот корабль уже пустили на металлолом.

