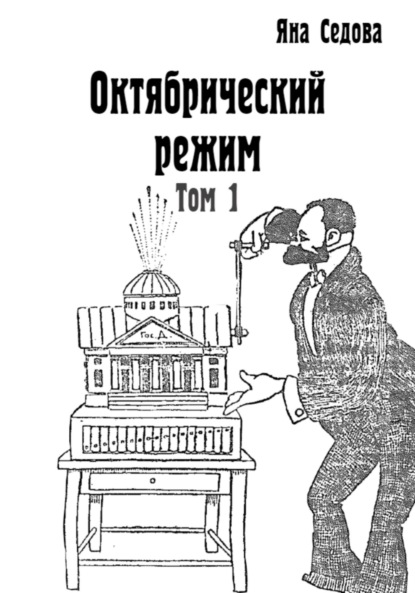
Полная версия:
Октябрический режим. Том 1
А еще много прольется крови».
Но внешне губернатор был невозмутим. 20 октября 1905 г. он объявлял: «В случае производства, как это было сегодня, из толпы выстрелов и бросания бомб, войска откроют огонь. Если повторится стрельба из домов – будет действовать артиллерия».
Летом в Балашовском уезде забастовали врачи и решили бросить больницы и выйти в отставку. Столыпин не напрасно ждал, что благоразумные люди их осудят, но и предположить не мог, в чем выразится осуждение. Толпа в две тысячи человек собралась у гостиницы, где совещались врачи, и угрожала расправиться с ними. Столыпин принялся спасать забастовщиков, выводя их из здания, причем один из камней, пущенных толпой по врачам, попал в его больную правую руку, от чего потом она стала действовать еще хуже. С врачами случайно оказался Н. Н. Львов в качестве исполняющего обязанности предводителя дворянства. Не пришлось ли спасать и его? По словам Гурко, Львов действительно обязан жизнью Столыпину. Последний, впрочем, свидетельствовал лишь о том, что в Львова тоже попал камень.
В толпе кричали: «Они стреляют в вас, а мы должны молчать». Как раз за три дня перед тем было совершено очередное покушение на Столыпина.
«Балашов и до сих пор лишает меня сна, – писал губернатор по прошествии более трех недель. – Я убежден, что если бы не мое случайное присутствие в Балашове, то без человеческих жертв не обошлось бы… Из Петербурга на несколько дней проехал сюда к семье, а завтра назад в демонический Саратов».
Приехавший из Петербурга ген. Сахаров не прожил в Саратове и месяца: его застрелила революционерка, пришедшая к нему на прием якобы с прошением. Губернатор вновь остался один.
Даже чудовищные угрозы революционеров убить детей Столыпина не поколебали его твердость.
Решительность Столыпина доказал еще один яркий эпизод. Напротив Саратова на левом берегу Волги лежит Покровская слобода. Юридически это уже другая губерния – Самарская. Революционеры устроили здесь свою штаб-квартиру, что угрожало, в первую очередь, Саратову. Самарский губернатор Засядко, как уже говорилось, на просьбы прислать отряд казаков закрывался газетой «Matin». Неудивительно, что местный земский начальник обратился за помощью к Столыпину. Тот переплыл Волгу с отрядом казаков и восстановил порядок.
Волевой образ действий П. А. Столыпина в конце концов помог ему одержать верх. Губернатор «сознательно» говорил, что он спас свой город. «В настоящее время в Саратовской губернии, благодаря энергии, полной распорядительности и весьма умелым действиям Губернатора Камергера Двора Вашего Императорского Величества Столыпина, порядок восстановлен», – докладывал Государю ген. Трепов.
Впрочем, современники высказывали прямо противоположные мнения о саратовском периоде государственной деятельности Столыпина. Одни полагали, что он «сплоховал» в Балашове (гр. С. Д. Шереметев), что в Саратовской губ. было больше всего аграрных беспорядков и вообще ее положение было «далеко не блестящее». Стремоухов, занявший тот же пост через пять лет после Столыпина, «не слышал особенно восторженных отзывов о его деятельности, даже от тех, которые его высоко ценили как министра и председателя совета министров». С другой стороны, А. П. Мартынов, ненадолго разминувшийся в Саратове со Столыпиным, отметил, что его имя «было окутано ореолом лучшего из губернаторов», и его преемнику гр. Татищеву «приходилось долго испытывать на себе неудобство сравнений», хотя тот «был далеко не заурядный губернатор». Почему же саратовцы одно говорят Стремоухову и совсем другое Мартынову? По-видимому, противоположные свидетельства родились в противоположных политических лагерях. Среди информаторов Стремоухова мог быть лютый враг Столыпина Дурново, имение которого находилось именно в Саратовской губ. (Сердобский у.).
В дни сильнейших беспорядков саратовский губернатор писал: «Я совершенно спокоен, уповаю на Бога, Который нас никогда не оставлял. Я думаю, что проливаемая кровь не падет на меня». Именно тогда (октябрь 1905 г.) впервые выдвинулась кандидатура Столыпина в министры внутренних дел. Ген. Сахаров тоже говорил об этом. Но дальше Петербурга эта мысль не пошла: «Слава Богу, ничего не предлагали, и я думаю о том, как бы с честью уйти, потушив с Божьей помощью пожар». И еще короче: «Да минует меня сия чаша».
Он очень устал и даже собирался, когда стихнут беспорядки, уйти в отставку с губернаторского поста. Но он жил не в то время, когда можно отдыхать.
Саратовские подвиги Столыпина Государю были хорошо известны. О событиях в Балашовском уезде подробно докладывал ген. Трепов. За взятие Покровской слободы Столыпину даже была объявлена Высочайшая благодарность. Говорили, что именно этот смелый поступок обратил внимание Государя на молодого губернатора. Во всяком случае, вероятно, его выбрали за решимость при подавлении беспорядков, а не за политические или экономические взгляды, тогда едва ли кому-то известные.
Как был сделан этот выбор, раскрывает в своих воспоминаниях отлично осведомленный Гурко. Он говорит, что Государь хотел назначить министром внутренних дел либо саратовского губернатора Столыпина, либо смоленского губернатора Н. А. Звегинцова. Сам Государь предпочитал первого, но предоставил выбор Горемыкину. Тот тоже назвал первого. Нашел, так сказать, открыл нового министра именно Государь, имевший возможность убедиться в силе таланта Столыпина по деятельности того в Саратове.
Горемыкин вызвал кандидата в Петербург. 25.IV в шесть часов вечера их обоих принял Государь. О предложении Столыпин был предупрежден заранее. И, по словам газет, уже отказывался.
«Я откровенно и прямо высказал Государю все мои опасения, – писал Столыпин супруге, – сказал ему, что задача непосильна, что взять накануне Думы губернатора из Саратова и противопоставить его сплоченной и организованной оппозиции в Думе – значит обречь министерство на неуспех. Говорил ему о том, что нужен человек, имеющий на Думу влияние и в Думе авторитет и который сумел бы несокрушимо сохранить порядок. Государь возразил мне, что не хочет министра из случайного думского большинства, все сказанное мною обдумал уже со всех сторон».
Это, кстати, было важное замечание. Если бы назначение министра определяло большинство Думы, то это был бы уже другой государственный строй – парламентская монархия. Пока же министры назначались Государем – это все-таки оставалось самодержавие, как бы ни оспаривали этот факт либералы.
«Я спросил его, думал ли он о том, что одно мое имя может вызвать бурю в Думе, он ответил, что и это приходило ему в голову. Я изложил тогда ему мою программу, сказал, что говорю в присутствии Горемыкина как премьера, и спросил, одобряется ли все мною предложенное, на что, после нескольких дополнительных вопросов, получил утвердительный ответ».
Словом, Столыпин испробовал все доводы, чтобы отказаться от поста, но не смог переубедить Государя. Наконец он просто отказался.
«В конце беседы я сказал Государю, что умоляю избавить меня от ужаса нового положения, что я ему исповедовался и открыл всю мою душу, пойду только, если он, как Государь, прикажет мне, так как обязан и жизнь отдать ему и жду его приговора. Он с секунду промолчал и сказал: "Приказываю Вам, делаю это вполне сознательно, знаю, что это самоотвержение, благословляю Вас – это на пользу России". Говоря это, он обеими руками взял мою и горячо пожал. Я сказал: "Повинуюсь Вам", – и поцеловал руку Царя. У него, у Горемыкина, да, вероятно, у меня были слезы на глазах».
Николаю II редко приходилось приказывать. Свои желания Он обыкновенно выражал в форме просьбы. Но этот приказ и последовавшее за ним мгновенное согласие Столыпина показывают, что в тот день старинная русская монархия была жива.
Апреля 26-го. «Двора Нашего в звании камергера, саратовскому губернатору, действительному статскому советнику Столыпину – Всемилостивейшее повелеваем быть министром внутренних дел, с оставлением в придворном звании».
Через несколько дней между Столыпиным и саратовскими октябристами состоялся любопытный обмен телеграммами. «Знаем, что приняли тяжелую ответственность как преданный народа (так в тексте), что лично Вам ничего не надо», – писали саратовцы. «Особенно тронут тем, что так верно поняли мое душевное состояние», – ответил новый министр со своей обычной искренностью.
«Вчера судьба моя решилась! – писал Столыпин. – Я министр внутренних дел в стране окровавленной, потрясенной, представляющей из себя шестую часть шара, и это в одну из самых трудных исторических минут, повторяющихся раз в тысячу лет. Человеческих сил тут мало, нужна глубокая вера в Бога, крепкая надежда на то, что Он поддержит, вразумит меня. Господи, помоги мне. Я чувствую, что Он не оставляет меня, чувствую по тому спокойствию, которое меня не покидает».
Итак, душевное состояние Столыпина и Государя на пороге думской монархии было очень сходно.
Первые шаги Столыпина на посту министра внутренних дел
Столыпин не стал устраиваться в Петербурге надолго. Недооценивая силу своего дарования, он предполагал, что долго на новом посту не продержится.
«Первое дневное заседание Совета министров под председательством Горемыкина, на котором я присутствую. Сижу против председателя. Около меня свободный стул. Заседание уже началось. Входит высокий, статный, привлекательной наружности молодой человек. Издали поклонившись председателю, садится за стол рядом со мной. Шепотом спрашивает меня, давно ли началось заседание и какое дело сейчас обсуждается Советом… Сам он внимательно прислушивается к прениям, но участия в них не принимает. Несколько раз ему приходится отвечать на обращенные к нему вопросы. Говорит кратко. Держит себя крайне скромно. Видимо, ко всему и ко всем присматривается. По обращенным к нему вопросам догадываюсь, что это новый министр внутренних дел».
Так передавал свое первое впечатление от Столыпина один из чиновников. Действительно, многие современники писали о скромности, с которой держал себя новый министр внутренних дел в первое время после своего приезда в Петербург. В заседаниях Совета министров он помалкивал, а в своем министерстве часто ссылался на то, как дела решались «у нас в Саратове» или «у нас в Гродно».
Однако необходимо заметить, что Столыпин не был наивным провинциалом, ошеломленным столичным великолепием. В свое время он учился в Санкт-Петербургском Императорском университете, а затем служил чиновником в министерствах внутренних дел и земледелия. Значит, столица для него не была в диковинку. Скромность же нового министра вполне естественна для человека, который не знает собственной силы и не надеется долго продержаться на своем посту.
Столыпин сразу же заявил себя сторонником сотрудничества с народным представительством. В одном из писем он назвал себя «первым в России конституционным министром внутренних дел». Обратившись (29.IV) к чинам своего ведомства, он сказал: «Наша обязанность – предоставить все наше умение, весь накопившийся опыт в помощь людям, избранным населением и поставленным Государем для решения вопросов законодательных. Мы же, люди служилые, как и все честные русские люди, забудем, конечно, о себе и будем в эту историческую минуту помнить только о России».
В том же смысле Столыпин писал супруге: «Я задаюсь одним – пробыть министром 3-4 месяца, выдержать предстоящий шок, поставить в какую-нибудь возможность работу совместную с народными представителями и этим оказать услугу родине».
По сведениям «России», Столыпин также заявил своим сослуживцам, что вопрос об амнистии является неминуемым, ввиду настроения в стране и настойчивости членов Думы в этом отношении. Иными словами, новый министр готов был подчиниться народному представительству в этом сложнейшем вопросе.
Первая задача, которая стояла перед Столыпиным на новом посту – борьба с продолжавшейся революцией, но уже в масштабах не Саратовской губернии, а всей России. Он рассылал по губерниям телеграммы с призывами действовать «самым решительным образом». Его циркуляры напоминали распоряжения полководца накануне сражения.
«Ввиду ожидаемого с ближайших же дней возникновения общих беспорядков прошу немедленно распорядиться обысками, арестами руководителей революционных и железнодорожных, а также боевых организаций и агитаторов среди войск, хранителей оружия и бомб… Кроме того, необходимо сейчас же принять все меры [к] охранению правительственных и железнодорожных сооружений, телеграфов, банков, тюрем, складов и магазинов оружия и взрывчатых веществ, в особенности узловых станций, предупредив телеграфные сношения агитаторов между собой и поставив в полную готовность охранные поезда. Если заметите, что телеграф в руках мятежников, то предпочтительно закрыть его вовсе. На случай перерыва телеграфа и телефона обеспечьте заранее способы сношений между органами власти, хотя бы при помощи частных лиц. Затребуйте словесно от жандармских начальников сведения о воинских частях, зараженных пропагандой, для соображений в распределении охраны и имея в виду, что революционеры рассчитывают на выдачу им солдатами оружия.
Примите действительные твердые меры [к] обузданию печати, с закрытием, если нужно, типографий, и к защите помещичьих владений».
Однако новый министр оставался таким же противником кровопролития, каким был в Саратове.
В те дни министр внутренних дел часто вел прием посетителей. Гр. Д. И. Толстой, у которого было к нему дело, пришел на такой прием и потом писал другу: «он человек, которого мне искренно от всей души жаль! Много всякой муки примет он, и никто спасибо не скажет!.. В день, когда я у него был, в приемной ожидало человек 40 и, хотя я вошел к нему 10-м или 12-м, мне пришлось прождать часа 2. Принял меня он мило, но я, конечно, его лишней минуты не задержал».
Открытие Государственной Думы (27.IV)
Торжественное открытие Г. Думы было назначено на 27 апреля 1906 г. Гр. С. Д. Шереметев заранее назвал этот день «погребальным».
«Завтра настанет уже новая эра, где между Царем и народом нагромоздится непроницаемою стеной Г. Дума, – писали «Московские ведомости». -
Узкая межа разделяет день 26 апреля от рокового дня 27 апреля, – а между тем какая откроется пропасть между этими двумя днями! Такая же пропасть, какая существует между истиной и ложью, между светом и мраком! Сегодня еще мы живем в вековечной истинной России, среди света Русской правды, – а завтра уже нами будут командовать подставные, фальшивые «представители народа», которые повергнут нас и всю Россию в непроглядный хаотический мрак».
Государь раньше обычного срока переехал из зимней резиденции – Царского Села – в летнюю – Петергоф. «…вероятно для того, чтобы иметь возможность приехать на открытие Думы водой, а не по железной дороге, и избегнуть довольно опасного проезда в экипаже по улицам Петербурга». Водным путем, сначала на яхте «Александрия», затем на паровом катере «Петергоф», Государь отправился прежде всего в Петропавловскую крепость и долго молился у гробницы своего отца, от которого получил в наследство пошатнувшуюся ныне самодержавную власть.
В Георгиевском тронном зале Зимнего дворца были установлены две эстрады. Справа от трона стояли члены Царствующего дома, фрейлины в русских сарафанах и кокошниках, министры, члены Г. Совета и другая «мундирная публика». «Все мы были в полной парадной форме, а придворные дамы – во всех своих драгоценностях», – писал Великий Князь Александр Михайлович, прибавляя со свойственным ему сарказмом: «Более уместным, по моему мнению, был бы глубокий траур». Между прочим, отсутствовала Великая Княгиня Елисавета Федоровна, говорили, что неспроста, поскольку она «не должна присутствовать на торжестве движения, жертвой которого пал Ее Августейший Супруг».
«В раззолоченной толпе я увидал знакомое приятное лицо нового министра внутренних дел Столыпина. Он бодр и свеж, как всегда, но глаза задумчивы и грустны…».
Затем прошествовали на левую сторону зала члены новоиспеченной Думы – «какие-то "штатские": все больше черные сюртуки, "господа" по большей части во фраках». Впрочем, здесь можно было увидеть самые экстравагантные наряды, начиная от поддевок и национальных уборов (например, Наконечный явился в мазурском костюме) и кончая лиловым спортивным костюмом некоего дворянина Тверской губернии.
«В первом ряду выделялся В. Д. Набоков, стоявший с надутым видом, засунув руки в карманы, рядом с ним отталкивающий Петрункевич, кривая рожа Родичева», – писал Крыжановский, не скрывая своих чувств.
Некоторые лица пришли «нестриженные и даже немытые», в потертой или даже грязной одежде, «одним словом, нарочито в таком одеянии, в каком ни один рабочий или мастеровой не пойдет (да и тогда бы не пошел) в праздник в гости». Несомненно, это была демонстрация. «Бедностью этого объяснять нельзя, во-первых, потому, что депутатов выбирали более или менее из лиц сравнительно состоятельных; во-вторых, потому что ведь все депутаты получили еще дома прогонные деньги в таком количестве, что из них можно было, – конечно при желании, – сэкономить на сапоги и пиджак».
По-настоящему выделялся не Набоков и не дворянин в спортивном костюме, а другой человек. «Это М. А. Стахович на общем темном фоне сияет золотом камергерского мундира. По одеянию, по связям, по придворному обычаю ему бы надо быть на правой половине зала, а не там среди разношерстной толпы; может быть оттого лицо у Стаховича сконфуженное и растерянное».
Контраст между правой и левой стороной зала был поразительный. Сотрудник «Биржевки» сравнил открывшееся ему зрелище с картиной Семирадского, изображающей встречу двух миров – языческого и христианского.
«Обе стороны и по одежде и по размещению были самим церемониалом как бы противопоставлены одна другой, и оне с чувством взаимного отчуждения и недружелюбия рассматривали друг друга». Затем пустоту между двумя эстрадами заполнила «третья наша историческая стихия» – Петербургский митрополит, члены Св. Синода, придворное духовенство.
Церемониал открытия Думы в Зимнем начался в 2 часа дня с Высочайшего выхода. Стукнул жезл церемонимейстера. Издалека зазвучал национальный гимн. Первыми шли сановники, далее несли государственные регалии – корону, скипетр, державу, государственный меч, государственное знамя, государственную печать. Шествие замыкал Государь в сопровождении обеих Императриц и всех Великих Князей. «Государь поразил меня своим видом: цвет лица у него темный, глаза неподвижно устремлены вперед и несколько кверху; видно было, что он внутренно глубоко страдает. Многие из нас почувствовали опять прилив знакомого чувства, когда горло как-то сжимается… Государыня мать, глубоко расстроенная, едва сдерживала слезы; молодая царица являла больше самообладания».
С правой стороны закричали «ура», но из членов Г. Думы эту демонстрацию верноподданнических чувств поддержали несколько человек «и сразу осеклись, не встретив поддержки».
Митрополит в сослужении с высшим духовенством совершил молебен. «Время от времени я взглядывал на Думу: на лицах было видно смущение, глаза у большей части потуплены; крестились немногие и изредка; но впечатление продолжительной церковной службы сделало свое дело: понемногу и Дума "разогрелась". Против меня стоял молодой крестьянин с упорно опущенными в землю глазами; сначала он воздерживался молиться; потом стал изредка креститься и наконец размолился усердно». Затем высшее духовенство проследовало на возвышение справа от трона, низшее вернулось в дворцовый собор. Великие князья заняли три нижние ступени трона, несколько придворных стали у подножия.
«Между тем Государь остался один на прежнем месте между эстрадами. Когда все расставились (так в тексте) около трона, взоры зала обратились на Него, стоявшего одиноко. Напряжение чувств достигло высшей степени. С полминуты Он продолжал стоять неподвижный, бледный, по-прежнему страдальчески сосредоточенный. Наконец Он пошел замедленным шагом по направлению трона; неторопливо поднялся на ступени, повернулся лицом к присутствующим и, торжественно подчеркивая медлительностью движений символическое значение совершающегося, воссел на трон. С полминуты Он сидел неподвижно в молчании, слегка облокотившись на левую ручку кресла».
Наконец Государь поднялся и громко прочел приветственное слово с листа, поданного министром двора. Текст этой речи особенно интересен потому, что Государь написал его лично, отклонив все предложенные Ему чужие варианты – Горемыкина, Победоносцева, гр. Палена и др.:
«Всевышним Промыслом врученное Мне попечение о благе Отечества побудило Меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа.
С пламенной верой в светлое будущее России Я приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых Я повелел возлюбленным Моим подданным выбрать от себя.
Трудная и сложная работа предстоит вам. Верю, что любовь к Родине, горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас.
Я же буду охранять непоколебимыми установления, Мною дарованные, с твердой уверенностью, что вы отдадите все свои силы на самоотверженное служение Отечеству для выяснения нужд столь близкого Моему сердцу крестьянства, просвещения народа и развития его благосостояния, памятуя, что для духовного величия и благоденствия Государства необходима не одна свобода, необходим порядок на основе права.
Да исполнятся горячие Мои желания видеть народ Мой счастливым и передать Сыну Моему в наследие Государство крепкое, благоустроенное и просвещенное.
Господь да благословит труды, предстоящие Мне в единении с Государственным Советом и Государственной Думой, и да знаменуется день сей отныне днем обновления нравственного облика Земли Русской, днем возрождения ее лучших сил.
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие Царя и народа.
Бог в помощь Мне и вам».
В речи Государя необходимо особо отметить слова: «Я же буду охранять непоколебимыми установления, мною дарованные». Эта фраза, позаимствованная из отклоненного чужого проекта, означала, что манифест 17 октября о даровании Думы Государь не отменит и что Думу созвали с серьезными намерениями. Маклаков впоследствии видел в этих словах обещание, почти эквивалентное присяге Монарха конституции. Особенно отмечалось, что Государь не употребил слова «Самодержец».
Помимо этого Государь указал и главные задачи, стоящие перед «лучшими людьми» России: «выяснение нужд столь близкого моему сердцу крестьянства, просвещение народа и развитие его благосостояния». Затем Государь напомнил: «для духовного величия и благоденствия государства необходима не одна свобода – необходим порядок на основе права», подчеркивая тем самым и неприкосновенность частной собственности, и необходимость борьбы с революционным движением.
Он все-таки надеялся на здравый смысл Думы и на ее работоспособность.
«…утешаю себя мыслью, – говорил за несколько месяцев до того Государь, – что мне удастся воспитать государственную силу, которая окажется полезной для того, чтобы в будущем обеспечить России путь спокойного развития, без резкого нарушения тех устоев, на которых она жила столько времени».
Прекрасная речь Государя произвела большое впечатление, но главным образом не на Думу, а направо от трона. У многих на глазах стояли слезы.
Поэт и Великий Князь Константин Константинович, плакавший при чтении этой речи, записал в дневнике: «Слова речи были так хороши, так правдивы и звучали так искренно, что ничего нельзя было бы добавить или убавить».
Не отстал от него и всегда сдержанный П. А. Столыпин, написавший супруге: «Государь свою речь (которую сам сочинил) сказал с таким чувством, что надо было быть каменным, чтобы не расчувствоваться. Это была не речь, а пламенная молитва».
«у нас, не скрою, как-то щекотало в горле», – вспоминал А. А. Савинский.
Но такое отношение речь Государя встретила не у всех слушателей. Великий Князь Александр Михайлович вспоминал: «Я сам бы не удержался от слез, если бы меня не охватило странное чувство при виде жгучей ненависти, которую можно было заметить на лицах некоторых наших парламентариев. Мне они показались очень подозрительными, и я внимательно следил за ними, чтобы они не слишком близко подошли к Никки» (то есть к Государю).
В свою очередь Столыпин и министр финансов В. Н. Коковцев наблюдали за одним из рабочих, стоявшим в толпе народных представителей, который настолько выделялся своим насмешливым выражением лица, что оба министра задались вопросом: «нет ли у этого человека бомбы и не произойдет ли тут несчастья».
Нечто подобное чувствовала и мать Государя Императрица Мария Федоровна: «Они смотрели на нас, как на своих врагов, и я не могла отвести глаз от некоторых типов – настолько их лица дышали какой-то непонятной мне ненавистью к нам всем». Ее младшая дочь сделала подобное же наблюдение относительно рабочих: «…было впечатление, что они нас ненавидят».
Так начиналась первая Государственная дума Российской Империи: проникновенная «не речь, а пламенная молитва» Государя, слезы направо от трона и насмешки и ненависть налево, со стороны самих выборных от народа.



