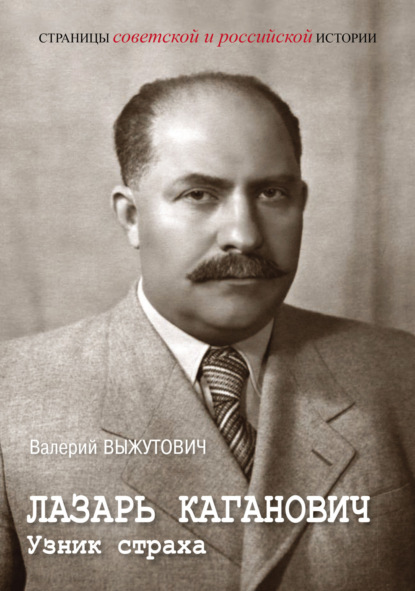
Полная версия:
Лазарь Каганович. Узник страха
Перед войной Юлий Каганович был переведен в Москву и назначен заместителем наркома внешней торговли. После 1945-го возглавлял советское торговое представительстве в Монголии. Вернувшись в СССР, занимал не самые приметные должности. Был, в частности, руководителем «Международной книги». В 1951-м вышел на пенсию. Скончался 31 июля 1962 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Арон. Получил профессию столяра и работал по специальности. В 1920-х годах был управляющим киевским отделением «Союзпродмага». В начале 1940-х возглавлял Главное управление кожевенно-обувной промышленности УССР, а после войны – кожевенный трест в Киеве. За несколько лет до выхода на пенсию стал директором Киевского кожевенного завода им. М.В. Фрунзе. По некоторым неподтвержденным данным, в 1949 году был арестован и отправлен в ГУЛАГ. Умер в Киеве в середине 1960-х.
Израил. С малых лет работал на лесозаготовках. Стал заместителем начальника Главного управления по заготовке скота Министерства мясной и молочной промышленности СССР, а затем его возглавил. В войну был уполномоченным продовольственных отделов ряда фронтов. Судьба Израила доподлинно не известна. Никто из братьев ни разу в жизни о нем не обмолвился.
Роза. Самая загадочная фигура в ближайшей родне Лазаря Кагановича. Имеет хождение феерическая легенда о том, что Роза была любовницей Сталина, а в некоторых публикациях ее называют даже женой Сталина.
«Миф о третьей жене Сталина возник еще в 1932 г., сразу же после смерти Аллилуевой, в связи с неоднократными приездами Розы на дачу и кремлевскую квартиру Сталина, – пишет А. Колесник. – Тогда говорили, что он женится на ней. Но этого не произошло. Тем не менее с целью компрометации Сталина в начале войны немцы сбрасывали на позиции советских войск сотни тысяч листовок, в которых утверждали, что советский Верховный Главнокомандующий является агентом международного сионизма, и в качестве доказательства приводили его родство с Кагановичем».
«Утверждают, что Каганович, видя тяжелое состояние патрона после гибели жены, решил утешить его с помощью своей сестры Розы, – развивает легенду В. Краскова. – Несмотря на возраст, она была очень красива. Лазарь рассчитывал, что наличие рядом с вождем интересной женщины снимет у Сталина приступы мании преследования, которые, как и у Ивана Грозного, начались сразу же после кончины жены».
«Для укрепления своих расшатавшихся позиций Молотов, по совету Берии, предложил Лазарю Кагановичу сосватать Сталину его сестру, – рассказывает Л. Гендлин, сын профессионального революционера, репрессированного в 1930-е годы – Они были уверены, что маневр удастся и тогда эта вшивая группка окончательно приберет к рукам И.В. [Сталина. – В. В.]… Тройка уговорила Розу. Во время кремлевского банкета И.В. обратил на нее внимание…». О том же – историк Д. Волкогонов: «Люди из его окружения вскоре [после смерти Н.С. Аллилуевой. – В. В.] попытались устроить еще один брак Сталина – с одной из родственниц близкого к вождю человека. Казалось, все решено. Но, по причинам известным только вдовцу, брак не состоялся». Под «близким к вождю человеком» здесь, несомненно, подразумевается Лазарь Каганович.
«Сестра или племянница Кагановича Роза… не была женой Иосифа Виссарионовича, но ребенок от Сталина у нее был, – вносит „окончательную ясность“ С. Берия. – Сама же она была очень красивой и очень умной женщиной и, насколько я знаю, нравилась Сталину. Их близость и стала непосредственной причиной самоубийства Надежды Аллилуевой, жены Иосифа Виссарионовича. Ребенка, росшего в семье Кагановича, я хорошо знал. Звали мальчика Юрой. Мальчишка очень походил на грузина. Мать его куда-то уехала, а он остался жить в семье Каганович».
Наконец, существовала и такая легенда: Роза – не сестра Лазаря Кагановича, а его дочь. Но и эта легенда не выдерживает пробы на достоверность. У Кагановича была единственная дочь, и ее звали Мая.
Большевистское воспитание
Классовой ненавистью к «угнетателям трудового народа» Кагановича напитала семья. Вырастить детей революционерами (а все они, без исключения, ими стали) – разумеется, не было такой цели ни у отца, ни у матери. Но Моисей и Геня капля за каплей вливали в сыновей адское зелье – смесь хронического недовольства жизнью, завистливого презрения к богатым и неутолимой жажды справедливости. Это происходило как бы само собой, возникало из воздуха повседневности, семейной атмосферы. Вот мать по какому-то поводу ударится в причитания, а затем, вдоволь отголосив, сделает вывод: «Должно быть, Михаил прав [старший сын уже вовсю занимался революционной агитацией. – В. В.] – надо всем бедным людям вместе взяться и бороться». Вот отец, чем-то донельзя раздраженный, воскликнет: «Пропади они пропадом, кровососы!» – имея в виду всех разом – волостного урядника, раввина местной синагоги, губернское начальство. «Нельзя не признать, – напишет потом Каганович, – что такие, систематически повторяемые, острые „ораторские“ реплики матери и отца благотворно влияли на нас, в частности на меня, возбуждая чувства возмущения и толкая на борьбу».
Автор «Памятных записок» отмечает, что отец и мать никогда не теряли чувства бодрости, не жаловались на тяжелые условия жизни, но у них нарастало чувство возмущения и протеста против несправедливости. «Помню, как мать частенько выходила из себя, ругала богатых и иногда богохульствовала. Отец был не менее возмущен, но, говорил он, надо к этому делу с умом готовиться, а то царь раньше, чем они начнут, всех перевешает и ничего не получится. Ничего, отвечала мать, наши сыновья глупостей делать не будут. Главное, сходились на одном мнении и мать, и отец, не надо примиряться с существующим положением, не опускаться, не плакать, не вымаливать милостыню у богатых, как нищие, и не падать духом. <…> Я высоко оцениваю то, что они направили нас в город, в ряды пролетариата. <…> Мы, дети, выросли и стали современными людьми – революционерами-большевиками».
Когда Кагановичи жили в маленькой «степке», к ним захаживали немногие. Обычно это были крестьяне из деревни или жители еврейской колонии. Когда появилась возможность прийти «до Мошки и Гени» в более просторную хату, «да ще з керосиновой лампой, де можно посыдиты и побалакаты» – близкие соседи стали частыми гостями, особенно с начала 1900-х годов. «Бывали вечера, – вспоминал Каганович, – когда наша однокомнатная хата была заполнена до отказа, сидели и на полу, стояли, говорили группами обо всем разном – и о личном, и об общественном, и об охоте, и о рыбной ловле; рассказывали анекдоты, смеялись, гоготали, „лускали насиння“ (семечки)».
Вскоре, однако, характер посиделок изменился. Тому способствовал Михаил Каганович. Начиная с 1903 года каждое его возвращение в деревню из города Иванькова, где он трудился по специальности «рабочий-металлист» и вовсю приобщался к политике, стало сопровождаться просьбами: «Расскажи нам, Михаль, що робыться на свити?» Михаил рассказывал про голод, про безработицу, про кризис в промышленности, про выступления рабочих… Каганович вспоминает: «Никаких организованных высказываний не было, но по группам обсуждали беспокойно и остро: „Мабуть, дийсно поганэ дило в государстви“. А один, который числился в чудаках, взял да и сказал: „Кажуть, що царь у нас якыйсь нэ дуже розумный, чи прыдуркуватый“. На него замахали руками не столько протестующе, сколько испуганно: „Мовчи, ты сам якыйсь прыдуркуватый“. „А вже ж може я дийсно чудный“, – сказал он, тоже испугавшись. Вся эта беседа глубоко засела в нутре у присутствующих крестьян – это видно было по характеру их поведения на последующих „собраниях“ в нашей хате».
В 1904–1905 годах революционные настроения в Кабанах резко обострились. Их подстегнула Русско-японская война. Поражения российских войск (на реке Шахе, при Ляояне, затем сдача Порт-Артура и Цусима) накалили атмосферу в обществе. Тут сошлось всё: непонятная для неграмотного населения война, масса нерешенных проблем внутри государства, проигранные баталии, показавшие слабость командования. И когда Михаил вновь приехал в деревню, его забросали вопросами. Главным из них был вопрос о Русско-японской войне и причинах ее возникновения. Михаил отвечал, что одна из причин – заинтересованность капиталистов и князей из царской фамилии в добыче золота на Дальнем Востоке. «В первый вечер беседа не была окончена, и условились продолжить назавтра вечером, – вспоминает Каганович. – К сожалению, продолжения беседы не было, потому что кто-то (я не думаю, что это был кто-либо из присутствовавших у нас) донес уряднику о Михаиле. И вот ночью один из наших соседей, осведомленный как сотский, разбудил нас и сказал: „Нехай Михаль скорийш тикае, бо врядник и стражник идут сюды за ним“. Михаил быстро оделся, выскочил и вместе с соседом на лошадях выехал из деревни, но не в Иваньков, что было бы навстречу уряднику, а в противоположную сторону – на Чернобыль. Оставшиеся брошюры и газеты мы удачно заховали. Я быстро выкопал яму в середине двора, правильно рассчитав, что там искать не будут. Закопали и разровняли поверхность так, что нельзя было отличить это место от поверхности всего двора. Обыск урядника был тщательным, искал он всюду, но нигде ничего не нашел, долго допрашивал, где Михаил. Мы ему отвечали, что уехал в Иваньков через Мартыновичи (резиденцию самого урядника) – это его еще больше взбесило. Он, как говорится, „рвал и метал“: кричал, топал ногами, но уехал ни с чем».
К тому времени в Кабанах сложилась устойчивая группа оппозиционно и даже революционно настроенных крестьян. У них была связь с крестьянами находившегося в трех верстах от Кабанов села Лубянка, где в середине декабря 1904 года случился бунт. Прямым и непосредственным поводом для него стало принудительное взыскание накопившихся за несколько лет огромных недоимок по налогам. События развивались драматично. В Лубянку из Мартыновичей прибыл волостной старшина с большим отрядом полиции. Он попытался действовать через церковного старосту. Но староста заявил, что старшина напрасно старается – недоимку крестьяне платить не будут. Старшина отдал приказ приступить по дворам к описи имущества и его насильственному изъятию для продажи. В ответ на улицу вышли более 300 крестьян с дубинами и кольями. Полицейский отряд был вынужден ретироваться.
«Помню, в тот вечер собравшиеся у нас передовые крестьяне были особенно возбуждены и радостно настроены, – рассказывает Каганович. – „Значит, – говорили они, – нэ такый чорт страшный, як його малюють“. Значит, власть слаба, раз она с одной деревней не может справиться. Некоторые, как, например, Игнат, предупредили, однако, что могут „знову прыйты з бильшими сыламы. Поэтому треба даты пидмогу лубянцям, пэрш за всэ трэба пислаты у Лубянку людэй, щоб всэ розузнать и выришиты, що нам умисти робыты“».
Так и случилось. В Лубянку, Кабаны и соседние с ними деревни, где тоже вот-вот могли вспыхнуть восстания, прибыли гренадеры. Они решительно погасили «очаги возгорания» и расправились с вожаками. Некоторые смутьяны были после отправлены на каторгу или в ссылку.
«В нашей деревне Кабаны гренадеры вели себя как каратели, наводили страх на крестьян, – вспоминал Каганович. – Особенно, конечно, они придирались к нашей семье, допрашивали многих насчет семьи Мошки Кагановича. Каратели, действовавшие вместе с урядником, знали, что сын Мошки Михаил – революционер, приезжал в деревню, что наша хата была местом, куда сходились крестьяне, но официальных материалов у них не было. Они вызывали на допрос отца, но ничего не могли добиться. Отец держал себя смело, все обвинения отвергал, ссылаясь при этом на соседей, которые тут же подтверждали ответы и объяснения отца. При повышении тона полиции и проявлении грозности, соседи заступались и говорили, „що Мошка – чоловик хворый и його нэ трэба чипаты, мы ходым до його, що вин наш добрый сусид и никому зла нэ робыть, и сыны його такие же мы вдячни, що ось самий молодший Лейзор кныжкы нам читае, ось намедни про Тараса Бульбу якого Гоголя читав, так хиба ж цэй Гоголь протыв правительства чи полиции выше?“ При вызовах других крестьян на допросы они, как сговорились, все отвечали: „Ничого нэ знаемо, ходылы до Мошки у хату як уси сусиди ходять один до другого, да ще користь була та, що у ных лампа с керосином (гасом) горила увэсь вечер, ось мы и ходылы, а ниякои политыкы нэ було, воны люды бидни, живуть як уси биднякы“. Так отвечала вся беднота и средние крестьяне, которые хорошо знали о роли нашей хаты, моих родителей – отца и матери».
Лубянка больше не повторилась. Но она, как и Кабаны, оставалась революционным очагом Мартыновичской волости.
Серьезное влияние на Лазаря-подростка оказал и старший брат Михаил. Он быстро пролетаризировался и уже в 1903–1904 годах проявил себя на классовых баррикадах в Иванькове, Чернобыле, а затем и в Киеве; в 1905-м стал большевиком. «Детская душа особенно восприимчива ко всему новому, – напишет Каганович спустя много лет. – Я тогда уже почувствовал влияние на меня дерзновенных новых идей социализма и революции. Хотя это было у меня проявлением моих чувств больше, чем сознания, но уже в 13-летнем возрасте – в 1906 году я заявил Михаилу, что пойду по его стопам – по революционному пути борьбы за социализм».
Школа
В Кабанах была двухклассная школа, но детей евреев-неземлевладельцев туда не принимали. При синагоге в еврейской колонии функционировал хедер – начальная религиозная школа, но в ней не преподавались общеобразовательные предметы, в том числе русский язык, поскольку сам преподаватель его почти не знал. Семья не хотела, чтобы Лазарь учился в хедере. Он тоже не хотел. Стали искать в Чернобыле хорошего преподавателя русского языка и математики. Нашли. И он согласился выехать в Кабаны.
«Это был парализованный калека, потерявший обе ноги, молодой, но очень толстый из-за того, что он сам не передвигался, – вспоминал Каганович. – Помню, как мы, дети, устроили коляску, а зимой сани, на которых мы его передвигали, так как „школа“ и учитель размещались поочередно через месяц от дома одного учащегося к дому другого учащегося. Нам же, ученикам, приходилось за ним ухаживать, подносить ему пищу, воду, перевозить его. Несмотря на его строгость и применение им специально устроенной длинной линейки, которой он доставал любого из нас для „воздействия“, мы очень любили его. У него была ясная и, как теперь оцениваю, даже талантливая голова. Он блестяще знал русский язык и литературу и вообще общеобразовательные предметы. Он не был религиозным фанатиком, поэтому Библию он остроумно преподносил нам, высмеивая отдельные ее несуразности и подчеркивая таких пророков, как Амос».
Неожиданно в Кабаны приехал уездный инспектор училищ вместе с урядником. Они ворвались в хату, служившую школой. «В мою память врезалась душераздирающая картина, когда инспектор и урядник таскали безногого учителя по полу, избивали его кулаками и ногами, ругались непристойными ругательствами, разрывали все учебники, в том числе по всем русским общеобразовательным предметам, выбрасывая изодранные куски на улицу. Хотели они выбросить на улицу и учителя, но мы, детишки, уцепились за него и не дали им выполнить свое намерение. В заключение инспектор и урядник составили акт о запрете обучения в не разрешенной законом школе с угрозой ареста учителя, если он вздумает воспротивиться этому запрещению. Мы, конечно, были бессильны что-либо предпринять».
Так в Кабанах был ликвидирован светский общеобразовательный хедер. И, конечно, не в нем, а в ходе его ликвидации Лазарь получил первые уроки классовой борьбы.
Часть учеников приспособилась к синагогальному хедеру в колонии, а семья Кагановичей опять начала искать учителя для своих детей. Яшу, который был на год старше Лазаря, к тому моменту уже устроили, хотя и с большим трудом, в двухклассную школу, располагавшуюся в Мартыновичах. В этой школе нашелся учитель, согласившийся принять и Лазаря – вольнослушателем, без официального зачисления. По договоренности с ним родители Яши и Лазаря платили за учебу вдвое меньше, чем полагалось. Но взбунтовались богатые и влиятельные евреи: мы не можем допустить, чтобы дети нищих заполонили нашу школу, тем более что Моисей Каганович не в состоянии вносить полную оплату за обучение.
«После долгих мытарств и исключительной настойчивости отца, моих старших братьев Израила и Арона, а также при активной помощи брата моего отца, дяди Арона, удалось сломить сопротивление большинства власть имущих в школе, – рассказывает Каганович. – Но окончательно вопрос был решен благодаря энергичной помощи со стороны молодого учителя, который, проверив мои знания и способности, решительно заявил: „Я приехал сюда обучать детей не только богатых и зажиточных, но и детей бедных людей. Вам должно быть стыдно, что вы на словах говорите о защите прав евреев, а сами попираете эти права евреев-бедняков, не давая им возможности обучать своих детей. Я требую принятия Кагановича Лазаря в нашу школу, и притом за половинную оплату“. Хозяева положения вынуждены были сдаться, и я был принят в школу».
Молодой учитель душевно отнесся к новичку. Он поощрял увлечение Лазаря историей, русским языком и литературой. Некоторые предметы Лазарь осваивал даже с опережением программы. Ему и Яше учеба давалась легко. Но жилось им несладко. Они уходили из Кабанов в Мартыновичи на несколько дней, и запас пищи, которым их обеспечивала мать, состоял из ржаных сухарей и сушеной рыбы. Особенно плохо было с зимней одеждой и обувью. Когда Каганович, уже секретарь ЦК ВКП(б), приедет в родную деревню в 1934 году, ему один крестьянин напомнит, как спас его, уже наполовину засыпанного снегом по дороге из Мартыновичей в Кабаны. Все дело было в том, что отец ему смастерил валенки из своих старых, но с пятками не справился: они, хоть и зашитые, все равно пропускали холод. Вот по дороге Лазарь и замерз. Идти было трудно из-за метели, и он свалился. «При проезде этого крестьянина мимо меня его собака меня заметила и дала знать своему хозяину – он меня взял на сани, укутал, привез домой еле живого. В дополнение к прежним благодарностям отца и я – уже в 1934 году – выразил ему сердечную благодарность. Он, усмехаясь, в ответ мне сказал: „Я цэ робыв як полагается каждому порядочному чоловику, и я тэпэр задоволенный тым, що впрятував майбутьного видомого руководителя“».
Братья квартировали у портного. Делили тесную комнату с еще одним квартирантом, кузнецом. Спали на глиняном полу. Поскольку вечером хозяин жалел керосин на освещение, Яша и Лазарь вставали рано, особенно летом, и принимались за уроки. Учились они хорошо.
Лазарю запомнился экзамен по Библии. Он проходил в присутствии так называемых старейшин и духовника. Учитель по «еврейским предметам», в том числе по Библии, был недоволен теми учениками, которые, по его мнению, нестарательно изучали Талмуд. Особенно он был сердит на Лазаря, поэтому проверку начал прямо с него. Был задан вопрос о пророках Исайе, Иеремии и Амосе. Лазарь начал свой ответ с Амоса, потому что – вновь процитируем мемуары Кагановича, – «Амос <…> бичевал алчность богатеев, нарушающих справедливость, накапливающих свои богатства насилием и грабежом; разоблачал правящую знать, проклинал царей, князей, военачальников, которые, как и богачи, живут в каменных палатах, спят в кроватях из слоновой кости, питаются отборными ягнятами и телятами, пьют вино из золотых чаш, натирают свое тело бальзамом и бросили заботу о тяжелом и бедственном положении народа».
Едва ли Лазарь, тогда еще ребенок, только то и увидел в библейском пророке, что он «бичевал алчность богатеев, разоблачал правящую знать, проклинал царей» и боролся за справедливость. «Бичевание», «разоблачение», пафос протеста, призыв к революции – все это, скорее всего, было не вычитано из Библии еврейским мальчиком, а спустя более полувека «вчитано» в нее матерым большевиком, закаленным в идеологических битвах. В этом смысле мемуары Кагановича – во многом подгонка под «правильный ответ». Ну вот как здесь, в описании детства, где все, чего ни коснись, пронизано – в полном согласии с большевистской доктриной – бедностью, духом неравенства, эксплуатацией человека человеком.
Однако что же, Амос зовет на борьбу? Нет, он воплощение смирения и поэтому, товарищи, нам с ним не по пути. «Мы чувствовали, что Амос костит царей и богачей, и нам это очень нравилось. Но мы, конечно, тогда некритически относились к этим пророкам, которые, отражая недовольство народных масс и критикуя угнетателей, призывали к терпеливому ожиданию спасения от Бога и его мессии, а не звали к борьбе с угнетателями бедного народа».
В 1912 году Кагановичу довелось выступать в Киеве против сионистов. Он тогда очень удачно, на его взгляд, привел слова Амоса, сопроводив их соответствующими большевистскими выводами. «Амос, – говорил Каганович, – разоблачал и проклинал таких богачей, как нынешние ваши сионистские киевские миллионеры Бродские, Гинзбурги и другие, с которыми вы, сионисты, зовете нас, рабочих и бедняков, объединиться в якобы единой еврейской нации. Амос уповал на то, что Бог их накажет и его мессия спасет нас. Но мы, рабочие, сегодня не будем ждать наказания божьего Бродским и Гинзбургам и спасения нас мессией – мы вместе со всеми революционными рабочими России всех наций будем бороться с капиталистами всех наций, чтобы уничтожить гнет угнетателей – богачей и их правящих покровителей».
В Мартыновичах Каганович не только получил минимум знаний, но и расширил свой политический кругозор, «приобрел много нового в понимании отрицательных сторон существующего царского строя».
Однажды они с братом услышали громкое, какое-то особое, неукраинское пение. Оказалось, в деревню пригнали по этапу высланного в Мартыновичскую волость политического преступника. Его поселили в тот же дом, где квартировали Лазарь и Яша. Спал он вместе с ними на полу. Говорил мало. Понять, кто он – социал-демократ, эсер или анархист – братьям не удавалось, поскольку ссыльный был не шибко грамотен. Зато здорово пел революционные песни – «Варшавянку» и «Марсельезу». Через три недели он бежал, заронив в души братьев, как скажет потом один из них, «боевую, смелую искорку».
Тот учитель, что взялся учить Лазаря и Яшу, вскоре куда-то уехал, и его сменил другой, по фамилии Петрусевич. Он был более образованным, чем требовалось для двухклассной деревенской школы, особенно по истории, и помогал Лазарю сосредоточиться именно на этой науке. Он также помогал по литературе, особенно по украинской. Книг украинских писателей, в том числе Тараса Шевченко, в деревне не было, но Петрусевич их знал и рассказывал о них Лазарю. Когда тот поделился с ним своими планами продолжить учебу, он согласился и даже сказал, что по ряду предметов мальчик знает больше, чем требует программа четырехклассного городского училища, особенно по истории и литературе, и поэтому можно ускорить подготовку экзаменов на аттестат зрелости. Спустя годы Каганович напишет: «Учитель Петрусевич был первым представителем российско-украинской передовой революционно-демократической интеллигенции, которого я встретил в своей деревне Кабаны и который оставил в моей душе на всю жизнь самую лучшую память и чувство глубокого уважения и благодарности».
Двумя годами, проведенными за партой в Мартыновичах, собственно и закончилась учеба. Больше Лазарь нигде не учился. Обладавший колоссальным влиянием партийный вождь, могущественный нарком, один из руководителей страны на протяжении более тридцати лет имел два класса образования. Остальное добирал самообразованием, чего Каганович никогда и не скрывал.
Вскоре Петрусевич уехал. Начал и Лазарь готовиться к отъезду. В заветный Киев, поближе к университету.
Для отъезда в город надо было приодеться, обуться, да и не мешало иметь хоть какие-то деньги на случай, если сразу не найдется работы. «Родители мне ничего не могли дать на это, надо было самому заработать, – рассказывает Каганович. – Поскольку в нашей деревне пошли слухи, что вот появился „грамотей“ – сын Мошки Кагановича, к отцу обратились некоторые из села Ильинцы, что в четырех верстах от нашей деревни, чтобы я давал уроки их сыновьям по общеобразовательным предметам. Уговорились об оплате: за каждый урок по 1 рублю два раза в неделю. Для этого я должен был ходить пешком туда и обратно».
Он учительствовал недолго. К отцу обратился тот кузнец, с которым они с Яшей жили в Мартыновичах в одной квартире. Он переезжал на более выгодное для него место под самым Киевом, в Горностайпольский район, деревню Хочава. Там, кроме крестьян, были и помещики. От них можно было ожидать хорошего заработка. Поэтому кузнец и обратился к Кагановичу-отцу с предложением отдать сына в обучение кузнечному делу, с тем чтобы он одновременно учил его двоих сыновей общеобразовательным предметам, в особенности русскому языку. За это он обязался платить Лазарю три, а если дела пойдут хорошо, то и четыре рубля в месяц, причем на всем готовом, то есть с кормежкой. Кузнец совершал выгодную для себя сделку – он получал не только работника, но и «грамотея»-учителя для своих двух мальчиков, семи и десяти лет. Лазарь тоже не оставался внакладе. Он таким образом приобретал кузнечное ремесло, которое не даст пропасть. Кроме того, заработав учительством, можно было продолжить учебу.

