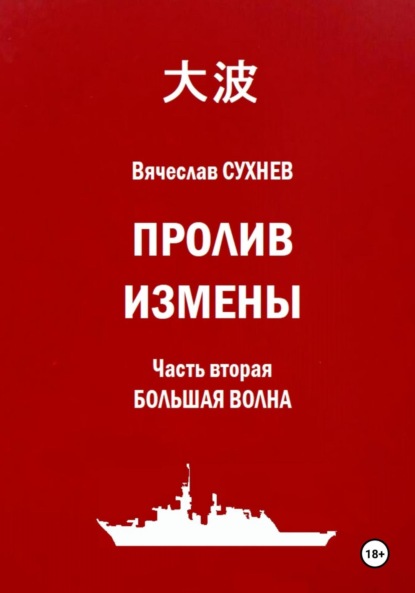
Полная версия:
Пролив Измены. Часть вторая. Большая волна
Повторилась ситуация конца XIX века, когда у императорского трона встала в качестве влиятельных советников группа «гэнро», в большинстве своём из высокопоставленных военных. «Гэнро» подтолкнули Японию к войнам с Китаем и Россией, к аннексии Кореи и части Маньчжурии. Теперь отпрыски самураев, свежеиспечённые олигархи, раздували гегемонистские настроения. Никогда масштабно не воевавшая с соседними странами Япония в конце XIX века вкусила крови сполна, и это оказало на страну гнетущее, колдовское воздействие. Страна рыцарей и поэтов (как потом будут преподносить Японию её романтические почитатели) превратилась в страну вампиров и людоедов.
Что этому способствовало? Во-первых, мировой экономический кризис. Он поразил не только Европу, где как ответ на кризис возникли фашизм в Италии и национал-социализм в Германии, но и Соединенные Штаты, страны Азии, в первую очередь, индустриально развитую Японию. В 1929-1933 годах объём промышленного производства сократился в Японии на 32,5%, сельского хозяйства – на 40%. Это вызвало огромную безработицу. На рынке труда оказалось не занятыми свыше 3 млн. человек. Во-вторых, в Японии, как и везде в мире, экономический кризис вызвал рост протестных настроений общества.
В этой связи Хани Горо пишет: «Противоречия заключались в том, что, несмотря на существенное увеличение производства, вызванное громадным накоплением капитала, почти не было заметно какого-либо повышения жизненного уровня народных масс. Подавляющей части крестьян Японии не хватало на жизнь доходов от сельского хозяйства, и они вынуждены были заниматься еще побочным промыслом, таким, как шелководство, ткачество и т. и. В Японии побочный труд крестьян был средством борьбы с голодом, так как основная работа не могла их прокормить. Чрезвычайно низкий, нищенский уровень жизни крестьян японской деревни в условиях отсталой системы полуфеодальной эксплуатации давал возможность поддерживать заработную плату промышленных рабочих в условиях японского капитализма на предельно низком уровне».
В этих условиях олигархат сделал ставку на диктатуру. А где диктатура, там фашизм. Именно после интервенции на Дальнем Востоке и примерно до создания марионеточной империи Маньчжоу-Го (1922-1932) в Японии сложилась идеология великодержавного шовинизма, который быстро приобрёл все черты фашизма. Основу японского фашизма составляла идея «ниппонизма», признание божественной миссии Японии, которой предстояло объединить в качестве лидера все страны Восточной и Юго-Восточной Азии.
Так возник концепт «Сфера сопроцветания Великой Восточной Азии». Основой для него послужил так называемый «Меморандум Танаки». Ещё в 1927 году премьер-министр генерал Танака Гиити в секретном меморандуме начертал программу захвата Японией господства над всем миром. Претворяя в жизнь эту программу, японцы уничтожали потом миллионы человек – как их духовные братья в Германии уничтожали людей ради величия Третьего рейха.
Однако и здесь японские фашисты пошли особым путём. В Европе фашистские партии сначала добивались контроля над военным и правоохранительным аппаратом, а потом объявляли нацизм и милитаризм государственной идеологией. В Японии военные и правоохранительные структуры сначала объявили «ниппонизм» государственной идеологией, а потом подмяли под себя общественные организации и парламент. Причём «силовики» свято почитали императорскую форму правления, и глава государства просто обязан был «отвечать взаимностью».
Вот почему политическая власть в Японии всегда оставалась в руках «гэнро» и военных. Дошло до того, что членов правительства утверждали высшие военные чины. Штатские активисты организовывались в различные «Ассоциации помощи трону». Вводилась строжайшая цензура. Средства массовой информации насильственно унифицировались, недовольных журналистов просто выкидывали на улицу. Шовинистическая пропаганда зашкаливала. Экономику контролировали ассоциации промышленников и финансистов, которым передали все административные полномочия. «Самоорганизация» в деревнях и городских районах сводилась к обоюдной слежке и стукачеству, к физическому подавлению несогласных. Что это всё, если не признаки тоталитарного, фашистского государства?
В середине 1920-х годов в стране возникли милитаристские организации «Императорский путь» и «Группа контроля», возглавляемые генералами, а также подпольные и полуподпольные националистические структуры вроде ветеранской организации «Лига крови» и радикального «Общества сакуры». Таким образом, национализм и милитаризм насаждались и «сверху», и «снизу», что придавало этому процессу устойчивый и массовый характер.
О том, как эти идеи укоренялись в массах, говорит так называемый «Инцидент 15 мая» 1932 года. Группа молодых флотских офицеров, опираясь на поддержку «Лиги крови» и «Общества сакуры», организовала путч, напав на резиденции высокопоставленных чиновников, банки и электростанции. Мятежники застрелили премьер-министра Инукаи Цуёси и ещё нескольких влиятельных политиков и администраторов. Примечательно, что путчисты требовали предоставления императору неограниченной власти, хотя её у того было и так предостаточно для установления тоталитарного режима. Не добившись полного захвата «почты, телеграфа и вокзала», путчисты сдались.
Их судили военным трибуналом, и приговор в этом случае мог быть чрезвычайно суровым. Но суд получил петицию с требованием помиловать убийц. Её подписали кровью 350 тысяч (!) человек. А ещё 11 молодых людей пожелали, чтобы их казнили вместо путчистов и прислали в суд 11 отрезанных пальцев. Прогнувшись перед «общественным мнением», трибунал приговорил мятежников к минимальным срокам заключения.
Любознательные историки после Второй мировой долго разбирались, какое идеологическое сопровождение использовали японцы в строительстве людоедского государства – фашизм, парафашизм, милитаризм, шовинизм или вовсе этатизм. С научной точки зрения, наверное, интересно. С практической… В «Поднятой целине» Островнов говорил: «Хучь сову об пенёк, хучь пеньком сову». Важно, что фашизация в Японии стала ответом на усиление коммунистических идей в России и Китае.
Об этом пишет наш исследователь Валерий Викторович Клавинг в книге «Япония в войне». Он рассказывает, как дипломат Мацуока Ёсукэ, выступая в Лиге Наций, объяснил выбор своей страны: «Соседями Японии являются два крупнейших государства мира: Китай – по количеству населения и Россия – по территории… Япония, безусловно, нуждается в прочных позициях на континенте. Именно в Маньчжурии Япония видит необходимый буфер для своей безопасности… Япония надеется, что её понимают, так как объединение России и Китая на базе идей коммунизма, в противном случае, не оставляет Японии шансов на существование».
Бороться с коммунизмом Япония почему-то решила не только в Северном Китае, но и в Таиланде, Малайе, Голландской и Британской Индиях, на Филиппинах и на островах Тихого океана, где никакого коммунизма и близко не было. К тому времени под властью Страны восходящего солнца уже находилась Корея, а также остров Формоза, он же Тайвань, который был передан Японии ещё в 1895 году, после Японо-китайской войны в соответствии с Симоносекским договором. Теперь пришло время основательно укрепляться в Маньчжурии.
Базой для экспансионистской политики Японии стал фашизм, которому учёные всё ищут благопристойный и политкорректный ярлык. Но много ли политкорректности в фиговом листке! Одно вытекает из наших наблюдений: фашистская идеология великодержавия и национальной исключительности укоренилась в Японии за несколько лет до того, как подобная идеология стала государствообразующей в Третьем рейхе. Раньше японцев фашизм восприняли в качестве панацеи от общественных болезней лишь итальянцы. На то он и Рим – колыбель цивилизации…
По «Плану Оцу»
В 1928 году японское военное командование принялось разрабатывать так называемый «План Оцу», по которому армия Японии вторгалась в Китай и Маньчжурию, а потом захватывала Приморье, Приамурье, Забайкалье, Северный Сахалин, Камчатку и другие территории Дальнего Востока. СССР трижды с 1926 по 1928 год предлагал Японии заключить пакт о ненападении, и каждый раз японское правительство заявляло, что для этого «время ещё не пришло». И дело тут было не только в нежелании Японии договариваться с Советской Россией. В разгар мирового экономического кризиса обострились отношения между Японией и Соединёнными Штатами. Грубо говоря, США старались вытолкнуть японцев с рынков ресурсов в Тихоокеанском регионе. А поскольку японцы ещё не могли драться за рынки, как они это сделают потом, на Пёрл-Харборе, то приходилось им только кланяться американцам в надежде на небольшой кусочек пирога. Отказ от договора с СССР – это стремление японцев не злить заокеанских партнёров.
Сами японцы тем временем методично выполняли «План Оцу». Для начала 18 сентября 1931 года группа офицеров японской Квантунской армии устроила взрыв на железнодорожных путях контролируемой японцами Южно-Маньчжурской железной дороги у Мукдена. Затем они использовали эту провокацию как предлог для развязывания заранее спланированного вторжения в Маньчжурию и ввели войска в северо-восточные провинции. Советская сторона осудила акт агрессии – и только. Протестовать более весомо пока не хватало сил, хотя надо было – японцы разжигали костёр в огороде у соседа…
Этим же стремлением, не злить, можно объяснить и позицию СССР в 1932 году. В феврале советские товарищи разрешили японским коллегам перевозку войск и грузов по КВЖД. В этом случае было нарушено советско-китайское соглашение от 31 мая 1924 года, где говорилось, что Китайско-Восточная железная дорога – чисто коммерческое предприятие, совместно управляемое СССР и Китаем на паритетных началах впредь до выкупа КВЖД китайским правительством. Таким образом, железная дорога, «почти» китайская, использовалась, чтобы перевезти военную технику и солдат для захвата части китайской же территории.
В захваченных областях Китая японская военная администрация образовала государство Маньчжоу-Го. А через неделю советские и японские представители договорились о поставках в новорожденное государство бензина… До конца года советская сторона заключила с японской еще несколько соглашений, в частности, о продлении рыболовецкой конвенции.
Из нафталина, из ссылки, японцы вытащили наследника китайского трона Пу И (Айсиньгёро Пуи) и усадили в кресло главы марионеточного государства. Ему тогда было 26 лет. Императора тайно переправила из Шанхая в Маньчжурию его родственница, принцесса Айсиньгёро Сяньюй, ставшая при японцах организатором карательного антипартизанского соединения. Но это другая история. Кстати сказать, Пу И мог бы стать толковым администратором, если бы не опека японских «кураторов». В коммунистическом Китае бывшего императора сделали членом Народного политического консультативного совета.
Добавлю, что территория нового государственного образования составила 1 554 000 квадратных километров, в то время как историческая Япония занимала 377 944 «квадратов», то есть, без Сахалина, Курил и Тайваня. Население Маньчжоу-Го насчитывало 50 миллионов человек, а в самой Японии тогда было чуть больше 64 миллионов. Хорошее прибавление домашнего хозяйства и рачительное употребление русского золота…
Пока в Китае укреплялись японцы, советская сторона теряла здесь позиции. В 1891 году началось строительство Китайской Восточной железной дороги – через Маньчжурию к Владивостоку. Была проложена и южная ветка – к Порт-Артуру. К 1903 году дорога была в основном построена, знаменуя присутствие России на берегах Жёлтого моря. После русско-японской войны дорога из высокодоходного актива превратилась в камень на шее – принадлежала России, управлялась российскими специалистами, но проходила по территории, контролируемой бывшим противником. С каждым годом объём перевозок стремительно падал. После революции дорога как транспортная магистраль практически стала. В 1920 году японцы потребовали передать им КВЖД полностью, пообещав американцам, как отступное, совместное пользование. Китай запротестовал, его поддержали некоторые европейские державы. Японцам и их несостоявшимся американским партнёрам пришлось пока разочарованно щёлкнуть зубами. КВЖД осталась под советским управлением и обслуживанием, что не прибавило безопасности вокруг дороги. Японцы по принципу «не съем, так надкушу», подстрекали российские эмигрантские круги, многочисленных китайских «полевых командиров» нападать на советские организации, мешать работе КВЖД. Не помогла даже услужливая переброска в советских вагонах японских войск для захвата Маньчжурии.
Вообще, Северный Китай до самого начала «настоящей» войны с Японией в 1937 году, представлял «гуляй-поле», которое рвали на части самозваные генералы с собственными армиями. Их подкармливали японцы, англичане, американцы, искавшие свои выгоды в месиве гражданской войны. Самым «авторитетным» командиром был генерал Чжан Цзолинь, которого не успела «лишить дыхания» императрица Цы Си. После революции 1911 года он побывал президентом Китая. Это его атаман Семёнов на допросе в НКВД обвинял в грабеже – китайцы по приказу генерала конфисковали 20 пудов русского золота. В 1920-х годах Чжан распоряжался в Маньчжурии как в своей вотчине, получая от японцев деньги и оружие на провокации против советских организаций и поддержку белоэмигрантов.
Лучше всего о ситуации в Китае в те годы рассказал В.А. Никонов в книге «Беспамятство. Кто начал Вторую мировую войну»:
«Правительство Гоминьдана в Нанкине в начале 1930-х было наиболее сильным в Китае, но далеко не единственным. В Синьцзяне с Чан Кайши боролись уйгурские сепаратисты и коммунистические партизаны. На Тибете власти от имени малолетнего далай-ламы обращались за помощью к Англии и Индии, чтобы те защитили его суверенитет от Китая. В Маньчжурии властвовал командующий Северо-восточной армией Чана «молодой маршал» Чжан Сюэлян. Южная провинция Юньнань при губернаторе-милитаристе Лун Юне пользовалась автономией. В Гуанчжоу Ван Цзинвэй в 1931 году создал альтернативное нанкинскому «национальное» правительство. И, конечно же, были коммунисты, которые выжили в резне, устроенной Чан Кайши, и организовывали вылазки в Цзянси и Фуцзяни. Причем коммунистов Чан считал самыми опасными противниками внутри страны. «Коммунисты – это болезнь сердца. А японцы – это заболевание кожи», – заметил он однажды».
После смерти основателя Гоминьдана Сунь Ятсена главным кандидатом на роль объединителя Китая в 1925 году стал Чан Кайши. Он поддерживал отношения с СССР, получая существенную помощь вооружениями – от пушек до самолётов. Его главный военный советник Василий Блюхер смог выучить гоминьдановцев обращению с советской техникой и навыкам современного боя. Это помогло Чан Кайши разбить маньчжурских сепаратистов и вынудить Чжан Цзолиня вступить в союз с Гоминданом.
Укрепление власти центрального правительства Китая в Маньчжурии вовсе не устраивало японцев, и Чжан Цзолиня банально отравили «за измену». Власть в Маньчжурии захватил его сын Чжан Сюэлян. «Молодой Чжан» для начала признал правительство Чан Кайши, а потом провёл настоящий аудит КВЖД. Вот что пишет М. Альтшуллер: «Западные эксперты, к которым… прислушивался Чжан Сюэлян, утверждали, что при грамотном управлении дорога может давать ежегодный доход до 50 миллионов рублей золотом. В самом деле: советское руководство постоянно перевозило что-то бесплатно, китайские служащие крали всё, что плохо лежит. Но в действительности падение доходов было вызвано спадом в торговле».
Захват дороги «маршал Чжан» начал с провокаций против советских управленцев. Их буквально терроризировала китайская полиция. Советских специалистов заменяли китайскими, а те саботировали работу. Чжан Сюэлян собрал вокруг КВЖД 300-тысячную армию. Всё те же западные эксперты твердили, что СССР к войне с Китаем не готов. В Забайкалье тогда находился лишь 20-тысячный советский корпус. В начале июля 1929 года маньчжурские части встали по всей линии КВЖД.
Однако китайцы не учли, что советские войска лучше подготовлены и вооружены. К тому же все оперативные планы войны с Китаем разрабатывал Василий Блюхер, который хорошо знал слабые места маньчжурской армии. Советская группировка была за несколько месяцев усилена, довооружена и поддержана десантными кораблями Амурской флотилии. 12 ноября маньчжурские войска были атакованы. Слаженные действия советской авиации, артиллерии, кавалерии, речного десанта и, главное, танковых подразделений вынудили «маршала Чжана» просить мира. 20 ноября «молниеносная война» закончилась, а 3 декабря был подписан протокол, восстанавливающий на дороге советское управление.
Между прочим, в советской историографии долгие годы утверждалось, что КВЖД захватили войска Чан Кайши. А ведь он отказался помогать Чжан Сюэляну в войне с СССР… Это к вопросу об исторической справедливости.
Новое государственное образование Маньчжоу-Го в отношениях с СССР мало чем отличалось от «гуляй-поля» Чжан Сюэляна. Но за спиной Пу И находилась Япония, которая постоянно наращивала силы в Маньчжурии. Поэтому советской стороне приходилось терпеть провокационные вылазки и на КВЖД, и на советско-маньчжурской границе – они продолжались, но уже под покровительством, а нередко и при прямом участии японцев.
В 1938 году на Ленфильме вышла лента «На границе», где снялись Зоя Фёдорова, Николай Крючков и Эраст Гарин. Фильм был, конечно, пропагандистский от начала до конца, но он верно показывал непростую ситуацию на берегах пограничной реки: на одном – советские колхозники, на другом – белогвардейцы. Противники советского строя строят всяческие пакости, а наши люди мужественно отражают вражеские наскоки…
СССР не был готов к войне с Японией за влияние в Маньчжурии. Армия Страны восходящего солнца была намного боеспособней частей «маршала Чжана», которые сдавались Блюхеру дивизиями. Учитывая постоянные провокации и невозможность дать вооружённый отпор, советское правительство в 1933 году предложило Японии купить дорогу. Лучше продать корову, чем дождаться, пока её уведут…
На переговорах, которые тянулись почти два года, японцы сначала назначили оскорбительную цену за магистраль – 50 миллионов иен. 23 марта 1935 года было подписано соглашение о приобретении дороги властями марионеточного Маньчжоу-Го за 140 миллионов иен. Это составляло примерно 50 миллионов золотых рублей, что оказалось значительно меньше средств, вложенных русскими в строительство КВЖД. Эта же сумма, напомню, фигурировала при подсчёте российских потерь от оккупации японцами Северного Сахалина.
А в это время на Курилах…
Сейчас в Японии (и в России – иногда) вспоминают «железный» аргумент против того, чтобы русские владели Курилами. Мол, на протяжении всего времени, что острова принадлежали России, они никак не развивались в хозяйственном плане. А вот когда островами владела Япония…
Ну, хорошо, давайте взглянем на Курилы во времена японского суверенитета после так называемого «обменного договора», когда Япония получила Курилы, вернув России южный Сахалин. А это продолжалось не много не мало – семьдесят лет, с 1875 по 1945 год. Некоторые исследователи, в том числе, и зарубежные, отмечают, что острова свалились на Страну восходящего солнца вроде неожиданного наследства, от которого толку мало, а забот много. Одно дело – завидовать соседу, что у него большое поле, другое – обрабатывать хотя бы клочок такого поля.
Курильская гряда растянулась от Камчатки до Хоккайдо на 1 200 километров. Это при том, что протяжённость всех Японских островов составляет 2 000 километров. Ещё две цифры для полноты картины. Площадь Японского архипелага – 378 тысяч квадратных километров. А площадь Курил – 10 500 квадратов. Понятно, что при таких параметрах любой логистик сойдёт с ума, рассчитывая заброску товаров и продуктов на остров Шумшу, соседствующий с Камчаткой и населённый тремя японскими семьями.
А ещё надо сделать поправку на климат. Японцы уже на Кунашире чувствовали себя, как на Северном полюсе… Поэтому, практически, до конца XIX века новые хозяева Курил не знали, что с ними делать. Экономический потенциал островов строился на добыче морепродуктов и морского зверя. И то, в основном, на Южных Курилах. Поэтому вплоть до Второй мировой войны всё гражданское население островов составляли рыбаки и охотники, приезжавшие сюда работать «вахтовым методом». Более весомым представлялось правительству империи оборонное значение островов. Именно для минимизации военных угроз со стороны России и Соединённых Штатов Курилы обустраивались как долговременные огневые точки с небольшими гарнизонами.
Надо сказать, что Курилы в японских руках хорошо сыграли роль сдерживающего фактора для России. Наша страна лишилась выхода к Тихому океану из Охотского моря и доступа к богатейшим рыбным угодьям его южной части.
На южном Сахалине русские до самой войны 1905 года продолжали разрабатывать природную кладовую. Эти богатства «простым» японцам казались понятнее стратегической ценности Курил.
Любопытно посмотреть на статус Курильских островов в государстве. В отличие от Сахалина, Тайваня и Кореи острова никогда не были японской колониальной территорией. Поэтому после 1875 года все Курилы были включены в провинцию Нэмуро губернаторства Хоккайдо и управлялись как часть Хоккайдо. Ровесница революции Мэйдзи, деревня Нэмуро быстро стала растущим портом. Появились базы рыболовного флота, консервные фабрики, торговые и финансовые конторы. Но административная структуризация вовсе не означала успехов в хозяйственном освоении островов. Мешала их отдалённость и очень разнородное население.
На Курилах жили японцы, русские и айны. Причём айны и русифицированные, и японизированные. А ещё значительной прослойкой курильского «общества» стали бывшие каторжники с Сахалина, которые о своей национальности не задумывались. По подсчётам японцев, после передачи Курил Японии здесь проживало 700-800 айнов и около 200 русских. В путину население незначительно увеличивалось за счёт рыбаков из метрополии. При этом самой незаселённой оставалась центральная часть Курильского архипелага, где расположены относительно мелкие и скалистые острова. В начале XX века на Курилах проживало около 4 000 человек. А ко Второй мировой войне здешнее население насчитывало 18 тысяч.
За семьдесят лет японцы построили на Курилах несколько военных постов, около десятка консервных заводов – в основном, на Шумшу, Парамушире и Итурупе. И ни одного капитального жилого дома!
На первой Сахалинской областной партконференции в октябре 1947 года констатировались проблемы Курильских островов: «Отсутствие связи, отсутствие постоянного населения в Северо-Курильске, где в сентябре 1947 года 60% населения составляли граждане Кореи. Исключительно тяжелым наследством, доставшимся от японцев, явилось отсутствие жилого фонда. Люди живут в землянках».
Понятно, что японцы вовсе не обязывались встречать новых хозяев Курил благоустроенными коттеджами. Но сами-то они как жили столько лет? В норах и шалашах?
Ещё один неприятный аспект обнаружился при передаче островов по «обменному договору» 1875 года. Переместилась к самой Камчатке граница с Японией – теперь она пролегала по проливу между нашим мысом Лопатка и ставшим японским островом Шумшу. Это усугубило ситуацию, сложившуюся после продажи Соединённым Штатам Аляски, которой владела Российская Американская Компания. То есть меньше чем за десять лет (с 1867 по 1875) границы других государств резко приблизились к России. Между Россией и Америкой расстояние стало составлять 4 километра, между Россией и Японией – 10 километров. И это при том, что у нас на Камчатке и на Чукотке не было никаких военных структур, чем беззастенчиво и пользовались «соседи» вплоть до середины 1920-х годов.
Центральные Курилы, как мы уже говорили, это небольшие скалистые острова. Из-за того, что люди здесь почти не селились, острова облюбовали каланы, морские котики, тюлени. Морского зверя били здесь ещё охотники Русской Американской компании, но, когда обнаружили, что численность его падает, объявили мораторий на добычу. И придерживались этого моратория до той поры, пока запасы зверя не восстановились. Но тут острова отошли японцам. До промыслов на северных Курилах у них руки долго не доходили.
Вольготно почувствовали себя представители англосаксонского мира – браконьеры из США, Великобритании и Канады. В русском Охотском море и в акватории японских Курил они били сначала каланов, а когда почти извели эту промысловую выдру, переключились на моржей и котиков. Они также ловили рыбу, выгребая подчистую запасы особо ценных пород, совсем не задумываясь об их восстановлении, уничтожали птичьи гнездовья. Помешать им русские не могли по малочисленности, а японцы – из-за отдалённости Курильских островов от метрополии.
Если учесть, что одна шкурка калана оценивалась на Лондонском пушном аукционе до 200 фунтов стерлингов, можно себе представить меру жадности браконьеров. Суда из Иокогамы, Гонолулу, Бостона, Сан-Франциско и других «центров цивилизации» бороздили воды вокруг Курил вплоть до 1907 года, когда после русско-японской войны в Японии приняли жёсткие меры борьбы с браконьерами и организовали целый флот для этих целей, а русские учли уроки войны и начали строить на Камчатке опорные военные пункты.



