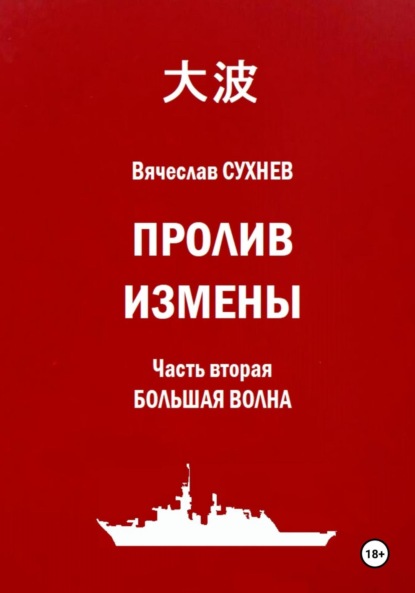
Полная версия:
Пролив Измены. Часть вторая. Большая волна
Вероятно, Андрею Медардовичу Зайончковскому, командиру русского корпуса и командующему Румынской армией, обладателю полутора десятка орденов, не докладывали о том, что солдаты стоят в очереди на винтовки – ждут, пока кого-то убьют… Ну и правильно, не генеральское это дело – считать винтовки и портянки. Тем более, не дело советского военного историка, которым боевой генерал заделался после перехода на службу в Красную армию.
25 мая 1915 года китайский президент Юань Шикай под русским давлением, подписал кабальный договор с Японией. В тот же день стало известно, что из Нагасаки, промышленной столицы страны и крупнейшего порта, начинается отгрузка в Россию винтовок «арисака» Тип 30. Это было оружие, хорошо зарекомендовавшее себя ещё в русско-японской войне. Зимой 1916 года 6-я и 12-я русские армии были целиком переведены на японскую винтовку. К февралю 1917 года Россия закупила почти 820 тысяч таких винтовок, а к ним почти 800 миллионов патронов. Этого хватало, например, чтобы вооружить 50 дивизий.
Кроме оружия в Россию шло и обмундирование. Сошлюсь ещё раз на К.О. Саркисова. Он приводит впечатление французского наблюдателя, побывавшего на русском фронте в августе 1916 года: «Меня удивило большое число русских солдат, одетых с головы до ног в одежду, сделанную в Японии. На них были не только кители и брюки, но и гетры японского пошива. На их плечах японские ружья, в патронташах патроны, изготовленные в Японии. Кожаные ремни и пряжки из Японии. Подбитые гвоздями ладные сапоги сделаны в Японии из кожи, выделанной в Корее».
И еще один удивительный факт: в рядах Вооружённых сил России на германском фронте воевало около полутора тысячи японских добровольцев из областей Дальнего Востока. Записалось намного больше, но по разным причинам многие в действующую армию не попали. Корреспондент газеты «Асахи» в Петрограде сообщал о награждении Георгиевским крестом студента Токийского университета по фамилии Хаяси за героизм в боях в Восточной Пруссии. А генерал-майор Накадзима Масатакэ, член японской миссии при Генеральном штабе Российской императорской армии, ходил в бой вместе с русскими солдатами. За что и удостоился ордена Святого Владимира 3-й степени. Попавшие в германский плен японцы подвергались пыткам и издевательствам – немцы не могли простить им «предательства» и захвата Циндао.
Однако в желании сделать приятное, главное – не перестараться. Премьер-министр Окума Сигэнобу, умный человек, маркиз, основатель университета, предложил русскому послу: Япония готова взять на себя охрану российских дальневосточных владений, чтобы доблестная русская армия целиком сосредоточилась на западном фронте. Такой вот нашёлся сторож в дальневосточном русском курятнике – японский Лис Кицуне. Наш посол Николай Андреевич Малевский-Малевич даже не стал сообщать о «деловом» предложении по начальству. Произнёс несколько недамских выражений и устроил скандал японскому премьеру.
Винтовка из Нагасаки славно повоевала в России во времена Гражданской. Ирония судьбы – красные партизаны на Дальнем Востоке били из «арисак» японских интервентов. На многих снимках эпохи Гражданской войны запечатлена эта винтовка – почти в человеческий рост, с широким и длинным штыком, похожим на меч. В СССР оказались такие запасы японских винтовок и патронов, что ими в годы Великой Отечественной войны вооружали части Красной Армии, народное ополчение Москвы, Киева, Смоленской области и партизанские отряды Крыма.
И примкнувшая к ним Япония
«Величайшее творение русского созидательного гения». Так назвал Транссибирскую магистраль Иван Иннокентьевич Серебренников, кадет и министр продовольствия в Омском правительстве. Он оставил прекрасную книгу мемуаров «Великий отход: Рассеяние по Азии белых русских армий 1919-1923». Это о Гражданской войне в Сибири, о Колчаке, чехословаках, белых и красных, о русских беженцах в Маньчжурии и японцах.
Транссиб в истории Гражданской войны стал символом – трагическим, в первую очередь. Магистраль была каналом, по которому разливались революция и контрреволюция, ненависть и нетерпимость, оружие и продовольствие, интервенты и беженцы, золото и уголь. Транссиб стал дорогой исхода из России «белочехов». А этот исход многие исследователи считают началом Гражданской войны в России.
Первые части чехов и словаков появились на фронте ещё в конце 1914 года. Осенью 1915 года из бывших военнопленных и перебежчиков был сформирован полк, развернутый через год в бригаду. Летом 1917 года в Галицийском наступлении бригада прорвала фронт под Зборовом и взяла в плен свыше 3 тысяч немцев и австрийцев. Чехословацкий национальный совет в Париже мечтал о самостоятельной Чехословакии и национальной армии, а потому поддерживал все действия российского руководства в формировании чехословацких вооружённых сил. Будущий президент Томаш Масарик целый год провёл в России, налаживая связи с русскими. А Ян Сыровы, герой Зборовского прорыва, будущий генерал и премьер-министр Чехословакии, пока в звании капитана собирал земляков в чехословацкий корпус.
Корпус был полностью лоялен Временному правительству. А после захвата власти большевиками французское правительство поспешило заявить о создании автономной чехословацкой армии во Франции. Поэтому с начала 1918 года чехословацкий корпус в России подчинялся французскому командованию. И раз уж большевики отказались воевать с Германией, заключив с ней «похабный» мир, то Антанта решила быстрее вытащить в Европу боеспособную армию чехов и словаков, в которой к весне 1918 года насчитывалось почти 50 тысяч человек.
Большевикам, кстати, это было на руку – Антанта убирала из страны, возбуждённой войной и революцией, чужое вооружённое формирование. 26 марта 1918 года Иосиф Сталин, полномочный представитель Совета народных комиссаров, прибыл в Пензу, где подписал с командованием чехословаков соглашение об отправке корпуса во Владивосток. Потом страны Антанты собирались переправить его в Европу – на фронт. Чехословакам, которые должны были передвигаться «как группа свободных граждан», большевики оставляли «известное количество оружия для своей самозащиты от покушений со стороны контрреволюционеров».
Так бы и уехали из России славянские братья – тихо, мирно, без бузы, если бы в дело не вмешались… Правильно, японцы.
Ещё немного предыстории.
В декабре 1917 года Великобритания, США, Франция и союзные им страны, в том числе, Япония, на специальной конференции решили разграничить зоны интересов на территории бывшей Российской империи. Проще говоря, поделить. Не пропадать же добру, тем более, страна «предала общие интересы», выйдя из войны с Германией. Японцы, которые только что находились в военном и политическом союзе с русскими, без угрызений совести встали на сторону «расчленителей» России. Так они понимали свои национальные интересы.
Захват большевиками власти в России ставил перед Японией целый ряд проблем. Во-первых, Страна восходящего солнца лишалась в войне стратегического союзника. Во-вторых, возникала угроза заключения мира большевиков с Германией (что чуть позже и произошло). Уже в конце февраля в российской столице появились германский консул и военный атташе. Большевикам оставалось лишь заключить с немцами военный союз.
К.О. Саркисов пишет: «Теперь вместо уверенности, что в наступившей военной кампании русская армия прогонит германо-австрийские войска из Галиции и маршем двинется на Берлин, замаячила другая альтернатива – контроль Германии над бесконечными просторами с богатейшими ресурсами и движение через Сибирь к границам с Японией».
А кроме того, у некоторых японских авторов, у того же Вада Харуки, участие японцев в походе Антанты на советскую Россию объясняется ещё и тем, что в соседней стране к власти пришли безбожники, разрушившие священный институт монархии. А то, что монархию в России свергла не Октябрьская, а Февральская буржуазная революция, о чём эти авторы не могли не знать, дела не меняло и очень многое объясняло. Нетерпимость японских монархистов к безбожному, «без царя», большевизму стала идеологическим обоснованием для последующих выступлений Японии против России и СССР. Этот аспект, к сожалению, мало рассмотрен и в российской, и в японской литературе.
Тем не менее, в работе В.Н. Тихомирова «История забытой войны: как Япония пыталась дойти до Урала» читаем: «Уже 8 декабря 1917 года один из идеологов японского милитаризма генерал Угаки Кадзусигэ, выступая перед слушателями Императорской военной академии, объявил о скором начале «справедливого» похода на Россию. Дескать, российские революционеры (не большевики, но эсеры и кадеты!) «сломали столетиями существовавшую империю, растоптали принципы демократии и создали анархическую систему власти безответственных интеллигентов и нищих».
Основные силы интервентов прибыли в Мурманск летом 1918 года. Американцы высадились во Владивостоке 15 августа. А японцы и тут всех обскакали. Уже 5 апреля 1918 года во Владивосток вошли японские «соседи» для защиты своих граждан. Накануне в городе были убиты двое служащих японской торговой конторы «Исидо». Кто и почему их убил – никто не разбирался. Но предлог для вторжения появился. Слабая советская власть в городе, что называется, утёрлась.
Договор Сазонова-Мотоно подписывался на 5 лет и срок его действия заканчивался в 1921 году. Однако противоестественность союза России и Японии после Первой мировой, понимали в обеих странах. Едва в Петрограде в октябре 1917 года произошёл переворот, японцы и американцы заключили соглашение о дальневосточных владениях бывшей Российской Империи. По договору Сазонова-Мотоно вооружённых сил Японии в Приморье не предусматривалось ни при каких коврижках. Тем не менее, уже 12 января 1918 года крейсер «Ивами» (бывший русский броненосец «Орёл», ставший трофеем в русско-японской войне) появился на рейде Владивостока. 14 января рядом стал английский крейсер «Суффолк», а 17 января – ещё один японский крейсер – «Асахи». А 5 апреля, как я уже сказал, в город вошли две первые роты японцев. Был захвачен остров Русский с артиллерийскими батареями, военными складами, казармами и береговой инфраструктурой. Вчера – порт Дальний, сегодня – остров Русский… Адмирал Хирохару Като, герой Циндао, обратился к населению с воззванием, в котором извещал, что Япония берёт на себя «охрану общественного порядка в целях обеспечения личной безопасности иностранных граждан», в первую очередь подданных японского императора. На тот момент их во Владивостоке было свыше трёх тысяч.
Забегая вперёд, скажу, что 29 июня областную земскую управу, которую контролировал городской Совет Владивостока, попросту разогнали те самые «чехи», для помощи в эвакуации которым и предназначались по плану Антанты японские и американские экспедиционные силы. В Токио потирали руки: наступило время оторвать от России кусок побольше. На полном серьёзе в японском обществе, в прессе, в верхних эшелонах власти обсуждались планы создания «независимых сибирских государств», дружественных Японии. Е.С. Сенявская пишет по этому поводу: «Страна восходящего солнца с энтузиазмом восприняла идею США и Антанты о расчленении России и создании марионеточных режимов на её окраинах для использования их в качестве полуколоний. Японские газеты с циничной откровенностью писали, что «независимость Сибири представляла бы особый интерес для Японии», и намечали границы будущего марионеточного государства – к востоку от Байкала со столицей в Благовещенске или Хабаровске».
Поводом для наращивания японских контингентов стала советизация не только Дальнего Востока, но и территории КВЖД – в Харбине городской Совет был образован 17 марта 1917 года, а 10 ноября в Совете большинство получили большевики. Генерал-лейтенант Д.Л. Хорват, управляющий КВЖД, даже опасался, что его арестуют. Но у харбинских большевиков не хватило духа – генерал пользовался огромным уважением в «Хорватии», как называли русский Харбин, а после образования Сибирского правительства он передал тому полномочия. Поэтому даже китайцы солидаризировались с японцами во взглядах на власть Советов на Дальнем Востоке и в полосе КВЖД: «экстремисты» представляют угрозу от Урала до Дальнего Востока, и уничтожение их безбожной власти – общая задача на ближайшее время.
Узнав о высадке японцев, большевики решили, что пребывание вооружённых чехословаков в России становится довольно опасно. Две силы, поддерживаемые Антантой, могут создать большие проблемы в Сибири и Приморье. Поэтому 9 апреля Сталин отослал в Красноярск разъяснение, дезавуирующее пензенское соглашение.
А тут ещё по дороге случился инцидент: немец-военнопленный нечаянно убил словака. «Чехи» устроили самосуд. На происшествие выехали советские следователи, но чехословаки их просто не пустили в эшелон. Тогда Л.Д. Троцкий 23 мая отдал приказ № 377.
«Приказ Народного Комиссара по военным делам о разоружении чехословаков
Из Москвы, 25 мая, 23 часа. Самара, ж.-д., всем Совдепам по ж.-д. линии от Пензы до Омска.
Все Советы под страхом ответственности обязаны немедленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на линии железной дороги, должен быть расстрелян на месте; каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Местные военные комиссары обязуются немедленно выполнить этот приказ, всякое промедление будет равносильно бесчестной измене и обрушит на виновных суровую кару. Одновременно присылаются в тыл чехословаков надежные силы, которым поручено проучить неповинующихся. С честными чехословаками, которые сдадут оружие и подчинятся Советской власти, поступить как с братьями и оказать им всяческую поддержку. Всем железнодорожникам сообщить, что ни один вооруженный вагон чехословаков не должен продвинуться на восток. Кто уступит насилию и окажет содействие чехословакам с продвижением их на восток, будет сурово наказан.
Настоящий приказ прочесть всем чехословацким эшелонам и сообщить всем железнодорожникам по месту нахождения чехословаков. Каждый военный комиссар должен об исполнении донести.
Народный Комиссар по военным делам Л. Троцкий».
Особенно поэтично звучит «всякое промедление будет равносильно бесчестной измене и обрушит на виновных суровую кару». Сейчас некоторые исследователи стремятся объяснить приказ Троцкого революционной действительностью: чехословаки начали потихоньку, мол, грабить по пути православных, не слушались советских руководителей. Но до приказа «демона революции» бывшие военнопленные два месяца ехали на восток и никого не трогали. Вероятно, можно было бы решить мирно ситуацию с неповиновением революционным следователям, за которых так обиделся Лев Давидович. Однако Троцкому явно не хватило главного качества политика – терпения.
«Все действия Троцкого в истории с чехословаками были совершенно провокативными, – пишет Д. Пермяков. – Правда, принципиальное решение о вмешательстве в дела России уже было принято Антантой, а распропагандированные чехословацкие командиры зачастую сами стихийно выступали против большевиков. Взрывоопасная ситуация в любом случае сдетонировала бы. Однако резкие нервные действия Троцкого, по всей видимости, приблизили интервенцию как минимум на месяц».
Трудно не согласиться с этим выводом…
От попыток разоружения чехословаки отбились. И корпус, растянувшийся по Транссибу от Волги до Тихого океана, выступил против Советской власти. С большим, надо полагать, удовольствием «чехов» стали склонять в союзники все, кому не лень – от самарской «учредилки» до колчаковского правительства.
Чехословаки помогли, кстати сказать, полковнику В.О. Каппелю взять 7 августа 1918 года Казань, где хранился золотой запас Российской империи. Его в начале Первой мировой эвакуировали сюда из Петрограда и Москвы. Каппелевцы захватили свыше 500 тонн только золота, которое повезли в 40 вагонах в Омск. Перевозку контролировали чехословаки.
«Чехи» воевали в России два с половиной года, потеряв в боях с Советской властью четверть корпуса. 2 сентября 1920 года из Владивостока вышел последний транспорт с чехословаками. Поражение Колчака зимой 1919-1920 года заставило Антанту отказаться от планов раздела России. Вдоволь покуражившись в Приморье, американцы вскоре после падения Колчака собрались эвакуировать своё воинство. Японским союзникам объяснили, что поскольку чехословацкий корпус вот-вот оправится домой, американцам, которые его якобы защищали, в России делать нечего. В апреле 1920 года войска США, Великобритании и Франции покинули Владивосток. А японцы оставались на нашей земле до октября 1922 года, прикрываясь, что характерно, декларациями о неучастии японской армии в Гражданской войне в России.
На самом деле, японцы в нашей войне участвовали, и очень активно. Недаром их экспедиционный корпус назывался «Сибериа сюппэй», что значит «Сибирская экспедиция». Японцы не собирались останавливаться на Приморье, их устремления простирались дальше, до Урала. Подобные устремления базировались на разобщенности русских: в Сибири и на Дальнем Востоке тогда схватились за власть три силы. Первой был, конечно, большевизм, активно усиливающий влияние в Советах. Вторая – монархисты, выступавшие, как их единомышленники на Дону и на Северном Кавказе, за единую и неделимую Россию. Наконец, довольно мощным политическим образованием стал союз разного рода либеральных партий и движений – от эсеров до кадет. Кстати сказать, в европейской России «либералы» не проявили себя так серьёзно, как в Сибири и на Дальнем Востоке. Многие наши исследователи Гражданской войны согласны, что в своё время Добровольческая армия и Комитет членов Учредительного собрания не нашли общий язык именно по причине разного взгляда на будущее России. Спорили о будущем, а в настоящем их били большевики…
По долинам и по взгорьям
В начале августа 1918 года японцы высадили десант на Амуре и захватили Николаевск, а в середине месяца перебросили во Владивосток пехотную дивизию. К началу октября 1918 года Советская власть на Дальнем Востоке была практически свергнута. По существу, победили сторонники Белого движения. Они не смогли бы добиться успеха без поддержки извне. Главными силами поддержки стали Чехословацкий корпус и «нейтральные» японские войска. К этому времени с учётом вооружённых сил в районе КВЖД у японцев на Дальнем Востоке было свыше 70 тысяч солдат.
С.Н. Савченко в работе «Интервенционистские силы Японии на российском Дальнем Востоке (1918-1922)» пишет: «В исследованиях историков белого и красного движения в унисон звучат высказывания, что японские войска не раз спасали белых от разгрома. В вышедших за рубежом «Очерках по истории Белого Движения на Дальнем Востоке» Вс. Л. Сергеев отмечал: «Они помогли нам удержать в своих руках Забайкалье, когда после падения Омского правительства белая власть рушилась повсеместно… Только благодаря поддержке Ниппонской экспедиционной армии преследование красными отступающей Сибирской армии остановилось у западных границ Забайкалья».
Что вытворяли японцы на нашем Дальнем Востоке, поддерживая белых, описано не только в художественной литературе, но и в сухих отчётах статистиков и мемуарах деятелей Белого движения. Особенно зверствовали японцы в местностях, где у красных была сильна поддержка партизан. Разведка и контрразведка у «соседей» были поставлены неплохо, всемерно поощрялись доносы, и в результате то в одну амурскую деревню, то в другую врывались солдаты «Ниппонской экспедиционной армии».
Даже в японской литературе освещена расправа интервентов с жителями деревень Сохатино и Мазаново. 11 января 1919 года отряд японцев расстрелял всех жителей этих деревень, включая женщин и детей. Деревни сожгли. Это признавало командование экспедиционного корпуса. В марте 1919 года командующий 12 бригадой японской оккупационной армии в Приамурье генерал-майор Ямада Сиро потребовал сжигать все населённые пункты, жители которых поддерживали партизан. В том же марте 1919 года было уничтожено девять деревень.
Опять слово В.Н. Тихомирову:
«Символом зверств японских оккупантов стало село Ивантеевка, уничтоженное карателями 12-й бригадой японской оккупационной армии в Приамурье 22 марта 1919 года. Накануне командующий генерал-майор Ямада Сиро издал приказ об уничтожении всех тех сел и деревень, жители которых поддерживали связь с партизанами. И в качестве первой жертвы было выбрано село Ивантеевка.
Сначала японская артиллерия обрушила на село шквальный огонь, в результате чего в ряде домов начались пожары. Затем ворвались японские солдаты. Сначала каратели выискивали мужчин и там же на улицах расстреливали их или закалывали штыками. А далее оставшиеся живыми были заперты в нескольких амбарах и сараях и сожжены заживо. Как показало проведенное впоследствии расследование, после этой резни было опознано и захоронено в могилах 216 жителей села, но большое число обуглившихся в огне пожаров трупов так и осталось неопознанными».
Единственное замечание: в большинстве исследований эта сожжённая деревня называется Ивановкой. Как видим, задолго до Хатыни и Лидице японские интервенты продемонстрировали звериное рыло милитаризма. Потом такой же бесчеловечной формой существования протоплазмы станет нацизм и фашизм.
Беспристрастным документом, повествующим о поведении оккупантов, стал «Отчет о командировке сотрудника военно-статистического отделения окружного штаба Приамурского военного округа капитана Муравьева в г. Благовещенск с 4 по 31 марта 1919 г.». Этот отчёт был опубликован в журнале «Отечественные архивы» № 3 (2008). Вот фрагмент:
«После отступления большевиков началось возмездие виновным: в течение следующих трех дней японцами и казаками было расстреляно из поселка более 30 человек (в том числе одна беременная женщина). И уже только через неделю все трупы убитых числом около 70 были сложены в одну общую кучу, предварительно раздеты, покрыты дровами и сожжены… Японцы с пассажирами, приехавшими на ст. Благовещенск, обращались как со скотом, грубо загоняя их на вокзал, то обратно в вагоны. Крестьяне страшно страдают при теперешнем положении. С одной стороны, большевики делают у них реквизиции и поборы, когда же приходят японцы, то сжигают деревни и имущество крестьян, при этом страдают даже женщины и дети».
Но, чем больше зверствовали японцы, тем сильнее становилось русское сопротивление. Уже не только коммунисты и сторонники Советской власти, но и «беспартийные» граждане, лишившиеся по прихоти оккупантов дома, хозяйства, а нередко – и близких, становились под партизанские знамёна. Весной 1919 года только в Приамурье действовало около 20 отрядов партизан, в которых было свыше 25 тысяч бойцов. В 1919 году партизанское движение охватило, практически, все Приморье, Приамурье и Забайкалье. Оно и стало внушительной силой, которая помогла потом наступающей Красной армии разгромить интервентов.
Поход на Читу
Интервенты – не только японцы – с первых дней вторжения в Россию всемерно поддерживали антибольшевистские силы. Одной из таких сил ещё до «размены Колчака» стало казачье формирование атамана Г.М. Семёнова. Поначалу это был небольшой отряд под командованием есаула Семёнова, собранный из казаков Забайкальского казачьего войска, не захотевших подчиняться советским порядкам. Для интервентов всё настойчивее становилась задача образования на Дальнем Востоке марионеточного государства, которое могло бы вместе с Верховным правителем России адмиралом Колчаком, бороться с коммунистами. Вместе или вместо Колчака – не важно.
Такаянаги Ясутаро, глава Второго (разведывательного) отдела Генштаба, некоторое время возглавлявший японскую миссию в Омске при правительстве А.В. Колчака, одним из первых сформулировал концепцию «буферного российского государства» и также одним из первых разглядел «потенциал» Семёнова. Затем на казачьего есаула обратил внимание старый друг России, бывший посол Мотоно Итиро. Он и рекомендовал японскому консульству в Харбине помочь Семёнову. Японцы понимали, пишет К.О. Саркисов, что этот казачий вождь был «реальной силой в Забайкалье. И была надежда, что его казакам удастся захватить Иркутск и осуществить план создания российского государства на пространстве от Иркутска до Владивостока, которое могло бы себя противопоставить остальной России, где с трудом, но последовательно большевики строили новое государство. Это было особенно актуально – «эпидемия» большевизма проникала и в Сибирь, «заражая» целые районы и даже казачьи части».
В Харбине в феврале 1918 года формировался Дальневосточный Комитет защиты Родины и Учредительного собрания. Этому Комитету и начали поставлять оружие и боеприпасы японцы через кооператив нескольких компаний, которые раньше были поставщиками Российской императорской армии. А уж Комитет передавал оружие Г.М. Семёнову. Надо сказать, что японцы обратили внимание на Григория Михайловича ещё и потому, что он успел выступить против большевиков в самом начале 1918 года, предприняв в январе вторжение в Забайкалье и открыв один из первых фронтов Гражданской войны – Даурский. Однако тогда Семёнова быстро окоротили красногвардейские отряды Сергея Лазо. Битый есаул вернулся в Маньчжурию и создал Особый маньчжурский отряд. Настойчивости в достижении цели Семёнову было не занимать.



