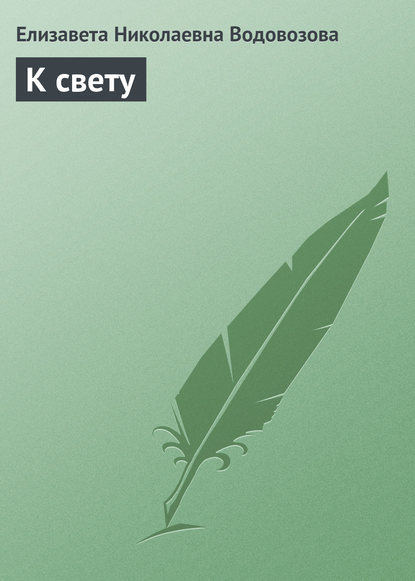 Полная версия
Полная версияК свету
Если бы я не вспомнила при этом рассказа Шершневского о том, что у Ушинского произошло с Анею, я не вполне поняла бы его слова.
– К сожалению, Константин Дмитриевич, у меня решительно нет времени возиться с нею. Я сегодня же отправлюсь к ее отцу.
– Как, к ее отцу, который из-за какой-то тряпки чуть не убил ее?
Я отвечала, что если Аня так передала ему историю с шубой, то она выказала этим лишь жестокую несправедливость к отцу. И я рассказала, как было дело и наш разговор с Аниным отцом.
– Налгать на родного отца, придумать целую историю, в которой нет ни слова правды, да разве все это не достаточно подтверждает, что она душевнобольная? Кстати: Василий Иванович просил меня доставить ей какие-нибудь занятия в школе или частные уроки. Передайте ему, что я забочусь не только об интересах нуждающихся в подобных занятиях, но еще более об интересах учащихся. Школа – не богадельня! Я не имею нравственного права рекомендовать заведомо душевнобольную особу.
Дома мне сказали, что Аня все время плакала, и ее пришлось положить на мою кровать. Мы сели обедать только втроем. Я объявила, что немедленно отправлюсь к Ивановскому и настою на том, чтобы он сегодня же взял от нас свою дочь. Я ждала протеста со стороны Василия Ивановича и была удивлена, когда он сказал: «Да, тяжело с нею, того и смотри, что попадешься из-за нее в какую-нибудь кутерьму!»
Ивановскому я передала всю историю с Ушинским и его мнение о болезни Ани, упомянула и о том, как она однажды проговорилась мне, что не прочь была бы заключить фиктивный брак. Хотя из этого пока ничего не вышло, но меня чрезвычайно волнует, что она в конце концов приведет в исполнение эту шальную мысль.
Ивановского возмутило мнение Ушинского о психической болезни его дочери, но он выразил полную готовность взять ее сию же минуту. Раньше чем проститься с отцом Ани, я просила его показать мне ее комнату. Она пустовала со времени ее бегства к нам и оказалась очень уютною, весьма скромно, но комфортабельно обставленною.
Я отправилась к себе с нянею Ивановских, которая всю дорогу высказывала опасение, что ей не удастся убедить Анночку возвратиться домой. Но это оказалось совсем не трудною задачею. Вероятно, она сама почувствовала, что сделала большую глупость, променяв свою удобную комнату на беспокойное существование у нас.
Когда мы вошли в столовую, Аня сидела одна и кончала обед. Она крайне удивилась, увидав свою няню. Я сообщила ей, что была у Ушинского, но из всего разговора с ним передала ей только то, что он находит необходимым для нее немедленно начать лечение. Но у нас нет подходящего помещения, и потому ей немыслимо оставаться у нас, тем более что ее собственная комната совершенно свободна.
– Это правда, что я в последнее время чувствую себя скверно и что мне без собственного угла крайне неудобно. Но как же отец?
– Как отец? – переспросила ее няня сердито. – А так твой отец, что совсем извелся от стыдобины, что ты зря болтаешься у чужих людей. Ведь у них и без тебя свои дети, свои заботы и тяготы… Да и богачеством-то они не больно отличаются… И как ты, Анночка, не думаешь обо всем этом? Взаправду ты большая срамница!
– Ну, ну, милая старушенция… – перебила Аня, обнимая ее. – Из-за чего же ты кипятишься? Ведь я не отказываюсь ехать с тобой! Едем хотя сию минуту.
В ту же минуту Тоня выскочила из своей комнаты со словами: «Нужно скорее собирать Анины вещи»! Тут как тут оказалась и наша няня, и мы все принялись перебегать от одного подоконника к другому, из одной комнаты в другую и собирали всюду разбросанные Анины щетки и гребенки и всевозможные мелочи, осматривали шкапы, вносили в столовую ее платья. Все было приготовлено к отъезду чрезвычайно быстро, из страха, как мы потом сознавались ДРУГ другу, чтобы она не передумала и не осталась у нас. Когда мы все стояли уже в передней и прощались, ее няня, укоризненно покачивая головой, сказала:
– Ах, Анночка, Анночка! Ты точно малый ребенок! До сих пор не знаешь порядков!
– Какие там еще порядки? Ты опять со своими наставлениями, навеки нерушимыми!
– А вот какие порядки: ты больше месяца здесь прожила. Прислуге ты наделала много хлопот: должна же ты понимать, что ее следует вознаградить.
К нашему изумлению, двадцатипятирублевка, полученная ею от Ушинского, оказалась в целости. Со дня получения этих денег она никуда не выходила и все время сидела за работой. Она вынула двадцатипятирублевую бумажку и с сердцем сунула ее няне. Та отправилась в кухню и возвратилась с размененными деньгами.
– Теперь сказывай, кому из господ сколько задолжала?
Аня начала припоминать, насчитала десятка полтора рублей, а затем заявила, что не помнит, брала ли взаймы еще у кого-нибудь. Тогда няня, подавая мне означенную сумму долга, просила написать ей, как только я узнаю, кому еще и сколько осталась она должна.
После этого я никогда уже более не встречалась с Анею.
IX
Наступил наконец день, назначенный мною Маньковичу для свидания с ним. Как только он поздоровался со мною, он немедленно приступил к делу.
– Скажите мне откровенно, неужели я уже такое ничтожество, что не могу сделать предложение Антонине Николаевне, не оскорбляя ее? Почему я должен делать ей предложение через вас, а не могу высказать его непосредственно? Почему она так холодно-неприступно держит себя со мною? Если бы вы знали, как я страдаю! Я отбился от занятий! Я ничего не могу делать! Ее образ всюду преследует меня! Если бы года два тому назад кто-нибудь сказал мне, что здравомыслящий человек погибает от охватившей его страсти, я, как многие в то время, взглянул бы на это; как на признак слабосилия, как на склонность к паразитству, как на отсутствие серьезных жизненных задач. Мог ли я думать, что сам так жестоко попадусь! Помогите мне! Будьте мне родною сестрою!
Он говорил все более горячо, бегал по комнате, нервно теребил то волосы, то бороду, бросался на стул, немедленно вскакивал, и его фигура опять мелькала перед моими глазами. Он повторял одно и то же много раз, иногда лишь перефразируя сказанное, и, вероятно, продолжал бы говорить очень долго, если бы я не попросила его выслушать меня.
– По теории Тони, для того чтобы выйти замуж, необходимо безумно любить: без такой любви брак с порядочным человеком – преступление…
Ой не дал мне кончить и с озлоблением начал засыпать меня вопросами.
– А за непорядочного выйти замуж можно? Брак с непорядочным по ее теории не преступление? Значит, она решила выбрать себе супругом Ермолаева, этого господина с телячьими глазами и с идиотскою физиономиею! Да, я и забыл! Это ведь рыцарь без страха и упрека. Недаром он ежедневно провожает ее, ежедневно мозолит ей глаза! Вот увидите, она выйдет замуж за него, выйдет из-за одного того, чтобы он отвязался от нее.
– Вы хотя бы не терзали себя относительно Ермолаева: он совсем не нравится Тоне. Когда она кончает уроки в его семействе, обыкновенно уже совсем темно и мать его приказывает ему проводить Тоню.
– А я готов ежедневно провожать ее хоть на край света! Пожалуйста, скажите ей, что это было бы для меня величайшим счастьем. Передайте ей также, что я умоляю ее принять меня с глазу на глаз. Пусть она хотя несколько пожалеет меня! Боже мой, боже мой, что мне делать? Чувствую, что-то невыразимо скверное творится со мной… Вы видите… Я уже не могу сдерживать себя! Утратил силу воли, гордость, самолюбие, не потерял только сознания, что все это она замечает, что все это еще более роняет меня в ее глазах! Вы одна можете помочь мне! Вы самый близкий для нее человек! Вы одна имеете на нее влияние! Боже, как мне тяжело!
Выражение его лица, голос, жесты, все говорило мне о его мучительной душевной тревоге: он переживал всю остроту, всю муку страсти, тяжелый сердечный недуг.
– Я не раз уже говорила Тоне о том, что я считаю вас, Николай Александрович, во всех отношениях прекраснейшим человеком, самым подходящим для нее мужем.
– Вы это говорили? Правда, вы говорили? – Голос его сорвался, он бросился передо мной на колени, целовал мне руки, горячие слезы градом катились из его глаз.
– Но что же с нею поделаешь, дорогой Николай Александрович? Ведь у нее теперь нет ни малейшей мысли о замужестве! На днях она говорит мне: «Как я еще недавно шокировала знакомых, откровенно сознаваясь всем, что хочу выйти замуж. Но теперь ни по любви, ни без любви не чувствую к этому ни малейшего расположения. Жизнь, которую я теперь веду, мне так пришлась по душе, и вдруг переменить прекрасное настоящее на что-то неизвестное, – да ни за какие коврижки!» И ведь действительно, Тоня в самое последнее время изменилась до неузнаваемости. Подумайте: кроме трехчасовых ежедневных уроков у Ермолаевых, к которым она подготовляется чрезвычайно серьезно, она посещает еще кружковые лекции, дополняет слышанное прочитанным, умудряется найти время, чтобы по утрам сбегать в квартиру лавочника обучать его мальчика.
– Я моту только с благоговением преклоняться перед таким серьезным стремлением к свету! Не мешать я буду ей в этом, а содействовать, сколько хватит сил, – клялся Манькович и умолял упросить Тоню как можно скорее принять его, но не в день, назначенный для гостей.
Уломать Тоню исполнить желание Маньковича было трудно.
– Не торопи ты меня… Дай хорошенько обдумать, следует ли мне еще соглашаться на это!.. – Наконец она решилась назначить ему для этого особый день, но с условием, чтобы я присутствовала при их разговоре. Сколько я ни доказывала ей, что это и меня и Маньковича ставит в крайне глупое положение, она непоколебимо отвечала:
– Тогда я беру свое слово назад. Разве ты не замечаешь, как часто меняется его настроение? То он бросает на меня пламенные взоры, то смотрит с такою злобою, точно готов разорвать на клочки. Своим шпионством за мною он еще более злит меня. По какому праву он отравляет мне жизнь? Решительно немыслимо принять его с глазу на глаз! Он может не только других, но даже себя уверить, когда разозлится на меня, что я его затягивала, завлекала, кокетничала, играла с ним!
– Как тебе не стыдно подозревать в такой гадости вполне порядочного человека?
– Что же делать! Я еще никем не увлекалась до полной слепоты.
Ввиду того что я наотрез отказалась передать Маньковичу поручение Тони, ей самой пришлось объявить ему свое решение в один из вторников. Это так поразило и ошеломило его, что он несколько минут не мог выговорить ни слова. Дрожа от гнева и оскорбления, он наконец заговорил:
– Я ничего не скрываю от Елизаветы Николаевны… и все-таки такие интимные дела двух людей могут решаться только между ними! Я не могу принять ваше предложение, несказанно унизительное для моего человеческого достоинства! Имею честь кланяться.
И Манькович удалился, ни с кем не простившись, и не являлся к нам целый месяц.
Но вот однажды в воскресенье кто-то позвонил. Я открыла дверь и увидала перед собою Маньковича с криво надетой шапкой и с неестественной улыбкой на губах.
– Да… Я пришел! Я хочу знать… – входя в столовую, говорил он пьяным голосом, и на меня пахнула от него водочным перегаром. В ту же минуту вошла Тоня и, ничего не заметив, жестам пригласила его в свою комнату, а меня схватила под руку и потащила к себе.
– А этот херувим с телячьими глазами… Паж неземной красоты… с идиотским выражением… Он продолжает всюду шляться за вами? Я ему морду побью! – стоя перед Тонею, в упор глядя на нее своим затуманенным взором и пошатываясь, проговорил он пьяным голосом.
– Как вы смеете являться ко мне в таком виде? – И она быстро вышла из комнаты.
Я задержалась на минуту и, указывая ему на графин с водой и умывальник, сказала: «Выпейте воды! Очнитесь!» – и отправилась к Тоне. Я умоляла ее сбросить с себя напускную холодность и войти в несчастное положение человека, влюбленного в нее, пожалеть его искреннею, сердечною жалостью. Она должна помнить, доказывала я ей, что это не какой-нибудь пропойца: он не берет в рот ни водки, ни вина, а напился с отчаяния, чтобы придать себе смелости.
– Да почему ты думаешь, что мне его не жаль? Меня возмущает, что он осмелился ввалиться к нам в таком виде, но еще более, что он каждый раз проявляет свою ревность! Господи, за что же на меня такая напасть?
Наконец в дверях показался протрезвившийся Манькович с мокрыми волосами и убитым видом.
– Я не смею даже просить у вас прощения за мое скотское поведение. Я знаю: более унизить себя в ваших глазах, Антонина Николаевна, уже немыслимо. Когда вы запасетесь житейским опытом, вы поймете, что бывают минуты в жизни, когда трезвый нередко напивается до бесчувствия, а человек, страшно любящий жизнь, может покончить самоубийством…
– Мне очень тяжело, что я причинила вам боль… Но и вы же поставьте себя на мое место. Вы обиделись за то, что я вам назначила свиданье при ней… Не спорю: может быть, и другой на вашем месте так же бы реагировал… Недаром же она (Тоня указала на меня) так возмутилась этим. Но мне казалось это необходимым, чтобы ни вы и никто другой не имел права сказать, что я вас сначала завлекала, кокетничала с вами, а натешившись, бросила эту… женскую игру. Мне кажется, что при вашем неуравновешенном характере можно ожидать всего. Моя совесть не позволяет мне поступать иначе.
– Да! Вы весьма предусмотрительный человек! – с горечью и иронией воскликнул Манькович.
– Я не хочу быть перед вами такою, какою вы создали меня в вашем воображении. Вот потому-то я и считаю долгом говорить с вами вполне чистосердечно. Я глубоко вас уважаю, питаю к вам самую сердечную симпатию, самую искреннюю дружбу, но вы сказали ей (она опять указала на меня), что желаете сделать мне предложение, а это требует от меня особой любви, которой я не чувствую к вам.
– Я ничего не требую, решительно ничего. Я удовольствуюсь тем, что вы можете мне дать. Я буду бесконечно счастлив, если вы и без страстной любви согласитесь быть моею женою. Умоляю вас, осчастливьте меня! Не все же вступают в брак по взаимной страстной любви! Пусть страстная любовь будет только с моей стороны. Пожалейте меня! Я даже не стыжусь произнести это слово. Я прошу вас согласиться на брак со мною хотя из сожаления ко мне. Спасите меня! Я погибаю! – И он рыдая бросился на колени и схватил ее руки. Тоня высвободила их, хотя у нее самой текли слезы по щекам. Он вскочил с колен и, то расхаживая по комнате, то останавливаясь перед нею, заговорил: – Вы человек по натуре благоразумный, вас шокируют неровности моего характера. Но я теперь, даю вам честное слово, только теперь выскочил из своей колеи! Мною овладело какое-то безумное чувство к вам, а между тем вы стали меня сторониться еще более, чем прежде, еще холоднее обращаетесь со мной… И меня всего как-то перевернуло… Я вас умоляю, дайте мне слово…
– Как же я могу дать вам слово, когда в настоящее время я вовсе не желаю выходить замуж. Я хочу избрать для себя какую-нибудь специальность, для изучения которой мне, может быть, придется на время уехать за границу…
– Даю вам честное, благородное слово всеми силами содействовать этому…
– Вы говорите так, точно не знаете, что весь уклад брачной жизни тормозит женский труд, если он не исключительно посвящен семейным заботам.
– Ваша воля, ваши желания были бы для меня священны, всегда и всюду стояли бы на первом месте!
– Я хочу раньше, чем выходить замуж, приобрести полную самостоятельность. Имея в виду эту цель, я не могу допустить никакой помехи, не хочу преклоняться перед чужою волею… Вы говорите, что моя воля и мои желания будут на первом месте, но мужчины это обыкновенно говорят, пока не добьются своего, и в большинстве случаев выходит совершенно наоборот. К тому же в браке немыслимо делать то, что желает только жена или только муж. И вот это-то преклонение перед волею мужа или перед силою семейных обстоятельств отрывали бы меня от намеченной мною цели, от деятельной жизни, которая дает мне такое нравственное удовлетворение. Весьма возможно, что если бы я кого-нибудь безумно полюбила, то считала бы счастьем преклониться перед его волею и перед силою семейных обстоятельств… Но я ни в кого не влюблена. Зачем же мне мое теперешнее положение менять на что-то неизвестное? О браке ведь недаром говорят, что это лотерея, выигрышные билеты в которой так же редки, как и счастливые супружества.
– Я согласен ждать, пока вы кончите все, что себе наметили: учитесь, уезжайте за границу или оставайтесь здесь… Мое чувство не такого характера, чтобы от продолжительной отсрочки оно разлетелось как дым. Я буду ждать терпеливо и могу ждать очень долго. Оставьте за мной только право, только одно право любить вас и надеяться, что когда вы покончите с вашею подготовкою для независимой жизни, вы хотя тогда согласитесь быть моею женой.
– Но ведь это же было бы недобросовестно с моей стороны. Как я могу поручиться, что в продолжение двух-трех лет, которые мне понадобятся, я сама не влюблюсь в кого-нибудь? Вы сами можете встретить девушку, которая сочтет величайшим счастьем связать с вами свою судьбу.
– Никогда!
– Не говорите так решительно. Я даже по своему опыту могу сказать, что человек под влиянием различных условий сильно меняет взгляды, принимает решения, переворачивающие его жизнь. Вы и близкие мне люди считаете меня благоразумной, предусмотрительной, и я всегда старалась заслужить эту репутацию… А сколько за эти годы произошло перемен в моей душе, в моих взглядах, стремлениях! Нет, нет, я ничего, ничего не могу обещать, не хочу связывать себя словом, не желаю добровольно надевать на себя цепи!
В эту минуту на парадной лестнице кто-то дернул за колокольчик, и Манькович с скорбным лицом, точно страшно усталый и разбитый, сейчас же встал с своего места и, ни слова не говоря, простился с нами. После этого он совсем перестал бывать у нас, и мы только года через два увиделись с ним.
X
Хотя отсутствие в нашем доме Ани Ивановской и прекращение передряг в романической истории Тони дало возможность членам моей семьи работать без помехи, но это не мешало кое-каким обстоятельствам волновать нас от времени до времени.
Однажды ночью я встала к расплакавшемуся ребенку. Когда я снова ложилась в постель, кто-то позвонил, и я услыхала голос Шершневского, просившего Василия Ивановича о дозволении переночевать у нас. Затем оба они вошли в кабинет.
– Выгнал! Да еще так, как не прогоняют даже проворовавшуюся кухарку! Деньги, вещи, паспорт – все осталось у него: я в буквальном смысле слова оказался без крыши над головой.
Я наскоро оделась и вышла к Шершневскиму.
– Кто же виновник этого ужаса?
– Ваш мудрец, затмивший мир своею гуманностью, ваш Златоуст, ваш богоподобный воспитатель Ушинский!
– Все эти бессмысленные эпитеты давали ему вы сами, да разве еще Ивановская, но не мы. Но тот, кто знает Ушинского, не может допустить мысли, чтобы он дурно поступил с кем бы то ни было.
– А со мною поступил именно так.
– Значит, вы заслужили…
– Да что же это такое? Как только вы сойдетесь, так у вас начинаются раздоры! – с досадою проговорил Василий Иванович. – Рассказывайте все по порядку.
– До десяти часов сегодняшнего вечера я исполнял самым добросовестным образом все работы, которые мне поручал господин Ушинский; привел в порядок его библиотеку, составил полный каталог его книг, писал и списывал для него на дому и в публичной библиотеке, почти ежедневно бегал по его книжным делам, по типографиям и редакциям. Каждый раз, когда я подавал ему порученную мне работу, он бурчал «правильно» или что-нибудь подобное. Ведь по-настоящему поощрить человека он не может: вероятно, думает, что умалит свое величие. Сегодня кухарка говорит мне: «Кабинет барина я убрала. Он уехал за город и долго не вернется, а вы идите в его комнату: я буду убирать у вас». Нужно вам заметить, что, постоянно пересматривая вышедшие и собранные Ушинским азбуки и книги для первоначального чтения на русском и иностранном языках, я решил и сам попытать счастья, написать азбуку, и уже порядочно подвинул свою работу вперед.
В эту минуту из Тониной спальни раздался ее громкий смех: дверь из кабинета в столовую, около которой была ее комната, оказалась полуоткрытою, и она слышала весь разговор. Я тоже засмеялась при этом.
– Что же вы желаете показать вашими смешками и улыбочками? Хотите пронзить меня, как стрелою, намеком, что я пишу азбуку с целью обокрасть «Родное слово» господина Ушинского? С вашим женским умом (он скорчил презрительную гримасу) это в порядке вещей! Но, к моему крайнему изумлению, то же самое изволил вбить в свою голову и господин Ушинский, человек образованный и неглупый.
– Спасибо и за то, что вы милостиво считаете его, по крайней мере, неглупым… А еще недавно вы восторгались его необыкновенным умом! – перебила я Шершневского.
– Как вы можете с ними жить под одною крышею? – обратился он к Василию Ивановичу, указывая жестом на меня и на Тонину дверь.
– А вот то, что вы поносите Елизавету Николаевну, не стесняясь присутствием ее мужа, а сами просите у них ночлега… Это как же назвать? – прокричала Тоня, приотворяя свою дверь.
– Это, наконец, просто невыносимо! И как вам-то не стыдно, пан Шершневский: даже в такую критическую для вас минуту вы не можете не сцепиться!
– Господи! Я и тут провинился! Да скажите же вы им, Василий Иванович, чтобы они оставили меня в покое! Ведь обе они никогда мне слова не дают сказать! Настоящие прогрессивные женщины! – воскликнул он с иронией и продолжал: – Так вот как было дело. Разложил я на столе господина Ушинского свою работу: разные азбучки, книги для чтения, его «Родное слово», педагогические статейки, и спокойно пишу себе упражнения для своей книги на отдельных листах. Ходил я в столовую обедать, затем пить вечерний чай, а потом садился за его рабочий стол. Часов в десять у меня так разболелась голова, что я отправился прилечь: думаю, отдохну, а потом опять поработаю. Слышу – возвратился Ушинский и немного погодя нервно начинает бегать по комнате. Вдруг он как толкнет ногою дверь в мою комнату, ворвался ко мне и ну на меня кричать и как каменьями осыпать меня самыми унизительными эпитетами: «Плагиатор! Крохобор! Подлый человечишка! То из одной книги вытащит фразу, то из другой, а меня уже ограбил напропалую! Еще бы ему самостоятельно справиться при такой скорбной, скудоумной головенке! Если вы, бессовестный человек, осмелитесь напечатать ваше крохоборство, я докажу, что это сплошной плагиат!» А сам все стоит перед моею кроватью, кричит на меня и размахивает чуть не перед носом моими листами. Но в эту минуту он раскашлялся, захрипел и побежал к умывальнику полоскать горло. Ну, думаю, «подожди ж ты у меня… Я тебе хорошо отплачу за все твои оскорбления…». Вскочил с кровати и побежал за ним. Он горло полощет, а я выкрикиваю: «Непременно напечатаю. Значит, у меня хорошо выходит, если вы изволили так струсить, что забыли всякое приличие. Вы слишком много о себе воображаете: вбили себе в голову, что вы великий изобретатель гениальных педагогических систем, а между тем все эти новые педагогические методы, по которым составлена ваша книга, и ваше наглядное обучение, и природоведение – все изобретено гораздо раньше вас. Вы являетесь не новатором, не изобретателем новых педагогических методов, а только компилятором, который сумел скомбинировать и приноровить эти новшества. Значит, вы следуете образцам, давным-давно указанным знаменитыми педагогами». Но тут он покончил с полосканием и пришел уже в невменяемое состояние. «Вон отсюда! Сию минуту вон! Не сметь более переступать порог моего дома!» – орет он во все горло, топает ногами и весь трясется. Мне, конечно, ничего не оставалось, как шапку в охапку, пальтишко на плечи и бежать без оглядки. Ну, что вы скажете, Василий Иванович, об этом поступке великого педагога?
– Только одно, что пятый час ночи и нам всем пора ложиться спать.
На другой день мы узнали, что Шершневский ушел от нас очень рано и оставил записку, в которой благодарил за ночлег и хотел наведаться вечером. В этот же день мы получили с посыльным от Ушинского вещи Шершневского и запечатанный конверт на его имя.
Когда мы вечером собрались вокруг чайного стола, мы начали рассуждать о «происшествии».
– Все ли Шершневский вполне точно передал?
– Его единственное достоинство – правдивость: он правдив до неприличия. Это такая тупица, что ни присочинить, ни придумать ничего не может! – заметила Тоня.
– Вы все преувеличиваете и переборщаете. Ну, какой он тупица и идиот? Еще недавно Ушинский говорил мне, что Шершневский весьма порядочно исполняет у него разнообразные обязанности, а для этого нужна и смекалка, и добросовестность, и известные знания. Ушинский – человек строгий и требовательный как к себе, так и к другим: мы, учителя, несколько лет работавшие с ним, хорошо знакомы с этою чертою его характера. Если бы работа Шершневского была плоха в каком-нибудь отношении, Ушинский не стал бы его держать. И у меня Шершневский постоянно берет книги: его мнения о них и взгляды вовсе не отличаются глупостью, и считать его идиотом можно только в пылу полемики. Правда, в его голове есть какие-то ржавые гвозди, и он нередко несет бог знает что; есть в его натуре и известная доза пошлости и эротомании, но глупости он чаще всего говорит вам, дамам. Постоянная вражда с ним у вас идет потому, что вы не признаете его мужской привлекательности, презрительно относитесь к нему, и он мстит вам до потери сознания.

