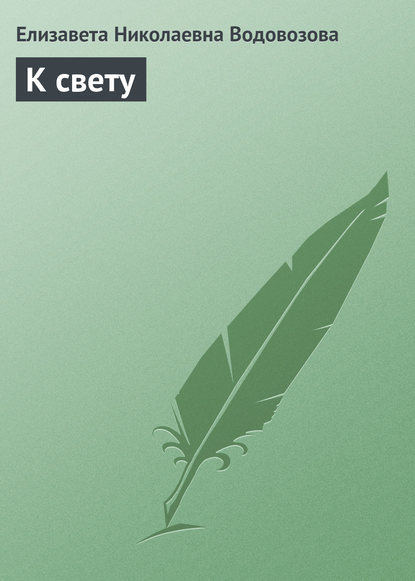 Полная версия
Полная версияК свету
– Почем знать, Николай Александрович, может быть вражда, с которою вы отзываетесь о Тоне, говорит о не потухшей еще страсти в вашем сердце. Мне почему-то кажется, что я скоро буду свидетельницею счастливого окончания вашего романа. Недаром же такое неожиданное совпадение случайностей: вы приехали вчера, а она возвращается завтра в десять утра.
Последнее известие так ошеломило его, что он, опираясь дрожащими руками на столик, за которым я сидела, стоял против меня с побелевшими губами, не будучи в силах произнести ни звука.
«Что бы мне ему сказать, лишь бы прекратить это неловкое молчание?» – раздумывала я. – А знаете, Николай Александрович, ведь ваш товарищ Савицкий сказал мне, что до него дошел слух о том, что кто-то из вас, двух братьев, женился, но он даже от вас не мог добиться ответа на этот вопрос.
Манькович быстро отвернулся от меня, подошел к окну, и с большим усердием отскребал пальцем снег от заиндевевшего стекла.
– Что же вы молчите? Это очень меня интересует.
– Конечно, женился не я, а мой брат Василий. – Опять помолчав, он подошел к диванчику, сел подле меня и, видимо, справившись с своим волнением, заговорил в прежнем язвительном тоне: – Скажите, пожалуйста, что же должен означать приезд эрцгерцогини Садовской? Я слыхал, что она уехала за границу на два года.
– Кончила все, для чего ездила, вот и возвращается.
– Значит, превзошла все науки? Она и прежде была влюблена в себя, вероятно, потому, что размеряла все, даже и чувства, по ниточке и по линеечке. Ей и в голову не приходило, что это характерная черта мещанской, расчетливой душонки! Ну, а теперь? Воображаю! – И он вдруг захохотал таким диким голосом, что я вздрогнула и с сожалением взглянула на него. Но, всецело погруженный в свои думы, он ничего не замечал, прокашлялся и опять заговорил в том же духе. – Ну и что же? По всем заграницам протащила за собой своего квазимодо? Ведь он при ней двойную роль играл: и вздыхателя, и лакея.
– Однако как еще сильно говорит в вас и ревность, и месть, и злоба, и страстная любовь!
– Только недоставало, чтобы я из-за нее поссорился еще с вами! Пеняйте на себя: вы сами толкаете меня на разговор о ней, а меня она совсем не интересует… Повторяю: я давно выбросил из головы и сердца все свои безумства…
– О да, конечно… Это и видно! – сказала я с явной насмешкой.
– Лучше скажите мне, когда я могу повидать Василия Ивановича и ваших деток? Вы, вероятно, готовите им елку на днях?
– Завтра же… Приходите.
– Не знаю, удастся ли завтра, но, если позволите, пока я здесь поживу во время праздников, я нередко буду забегать к вам.
XIV
Какою радостью билось мое сердце, когда я на другой день ехала встречать Тоню. Она так вошла в интересы нашей жизни, так сжилась со всеми нами, так искренно принимала к сердцу все наши тревоги, невзгоды и маленькие удачи, что я не могла отделить ее от лиц, близких мне по крови.
Поезд еще не остановился, когда Тоня высунулась из окна вагона, заметила меня среди ожидающих и окликнула несколько раз. Когда пассажиры начали выходить, она со всех ног бросилась ко мне, и мы обнимались, смеялись, плакали, бестолково задавали друг другу вопросы. Наконец мы вошли в один из проходов вокзала, где носильщик сбросил ее вещи, взял квитанцию на багаж и отправился за ним. Она поручила мне присмотреть за вещами, а сама побежала нанимать экипаж. Я оглянулась кругом и заметила господина, прислонившегося к стене, с поднятым вверх меховым воротником, с шапкой, надвинутой так, что его лица совсем нельзя было рассмотреть. Его фигура, пальто, все указывало мне, что это был Манькович. При моей близорукости я сначала побоялась его окликнуть, а затем решила не подавать и вида, что узнала его. К тому же, как только я посмотрела на него, он юркнул в выходную дверь. Когда мы усаживались в карету, я опять увидела его среди публики. Тут уже я окончательно убедилась, что это Манькович, но ни слова не сказала об этом Тоне.
Как только мы тронулись в путь, Тоня начала забрасывать меня вопросами о Маньковиче. Ее поразило, что он приехал в Петербург накануне ее возвращения. Она не сомневалась, что это служило счастливым предзнаменованием полного переворота в ее судьбе, что заря личного счастья уже наступает.
Мы, шестидесятники, усердно высмеивали, обличали и преследовали всех, кто рассказывает о своих снах, придавая им значение, верил в предчувствие, гадание по картам, в гадальщиков, предсказывающих будущее. Чтобы подчеркнуть свое свободомыслие, мы демонстративно зажигали три свечи там, где можно было обойтись и двумя, здоровались нарочно на пороге, подавали за обедом соль друг другу. Но это презрение к суевериям у многих чаще всего проявлялось в несоблюдении мелочных примет, но не охватывало нас глубоко, а было, так сказать, чисто внешним отрицанием; внутренне же мы были насквозь пропитаны суеверными страхами. Когда какое-нибудь предзнаменование угрожало несчастием, мы трепетали от ожидания и радовались, когда иная примета пророчила хорошее. Только несколько последующих поколений постепенно освобождалось от суеверного мусора, веками скоплявшегося в наших головах и сердцах, но совершенно ли очищена от него интеллигенция и в настоящее время, – это еще вопрос.
Когда я по требованию Тони начала последовательно рассказывать ей о моем разговоре с Маньковичем, она нашла, что вполне заслужила его враждебное отношение к себе. «Но он же любит меня? Увидимся, поговорим откровенно между собой, и вражда пройдет мало-помалу. Он обещал к вам забегать, а ведь он не может же сомневаться в том, что я буду жить с вами? Нет, как хочешь, это удивительно хорошее предзнаменование, и оно начинает сбываться. У меня так светло, так хорошо на душе! Я нисколько не сомневаюсь, что все изменится к лучшему!» И, раскрасневшаяся, ликующая, с громким смехом вбежала она в нашу квартиру и, не сбросив еще всех зимних доспехов, понеслась по коридору, громко звала детей, обнимала прислугу.
– Благоразумная девица! Помилосердуйте! Как ураган принеслась к нам из неметчины… Да вы нас испепелите! – шутил Василий Иванович, когда она здоровалась с ним.
Она бросилась к своим вещам и начала их распаковывать. Мы запротестовали, требуя, чтобы она раньше рассказала нам о своем житье-бытье. Она садилась, чтобы исполнить наше желание, но сию же минуту вскакивала с своего места, подзывала к себе то одного, то другого из моих мальчиков, начинала что-нибудь рассказывать им, но то одно, то другое отвлекало ее, и она опять бросалась распаковывать свои вещи. Скоро вся ее комната и столовая оказались заваленными ее вещами, но более всего между ними было украшений для елки и подарков детям, сработанных ее руками. Тут были не только фребелевские работы и приготовленные из них вазочки, бонбоньерки, корзиночки, но и всевозможные звери, птицы, рыбы, деревья, цветы, люди, мебель, куклы. Все было изящно исполнено из цветной бумаги, стекляруса, бисера, пробок, сушеных ягод и цветов, семечек, разноцветных шнурочков, ленточек и всевозможных материй. Дети подняли шум, крик, беготню; от радости они то и дело подбегали обнимать ее, а она тащила их от одной кучки игрушек к другой, что-то показывала им, объясняла. Оказалось, что она далеко не все еще извлекла из своих бесконечных картонок: скоро фортепьяно, стулья, диваны, столы – все было покрыто ее произведениями.
Когда я спросила ее, сколько времени она потратила на приготовление такой массы вещей, она ответила, что думала об этой елке, начиная с первой своей работы, и каждую из них бережно хранила. Когда недели за две до ее отъезда одна фребеличка узнала, что у Тони за полтора года сохранились все ее изделия, что она исполняла их не только по фребелевским образцам, но приобретала и особые рисунки, а многое заимствовала от товарок, ее уговорили сделать «выставку».
– В Германии ведь ко всему приклеивают ярлыки, всему дают громкие названия. Все мои работы немецкие учительницы живописно разложили на столах и подставках, и множество немок торжественно их осматривало, – за них они произвели меня чуть не в гении.
Множество вещей, привезенных Тоней, дали нам возможность богато разукрасить елку, но их оказалось еще так много, что остальное мы разложили на подносах.
Только тогда, когда раздался первый звонок, Тоня проскользнула в свою комнату, чтобы переодеться. Она вышла к нам в шерстяном белом платье без всяких украшений, наскоро зачесав вверх свои густые волосы и заколов их сзади большим узлом. Она была чрезвычайно мила в этом простеньком наряде. На ее щеках по-прежнему играл нежно-розовый румянец; она несколько похудела, но это делало ее лицо еще более одухотворенным.
Наш праздник уже кончался, но Тоня все еще с увлечением кружилась с детьми, то останавливалась и пела с ними песенку, дружно ударяя в ладоши и пристукивая в такт ногами. Она не заметила Маньковича, который стоял несколько заслоненный от нее елкой и пристально смотрел на нее. Он, вероятно, забыл в эту минуту весь мир и ни с кем не поздоровался, хотя я сидела от него в двух шагах с знакомой ему дамой. Когда мне показалось, что моя соседка узнала его, я подошла к нему. Он смотрел на меня непонимающими глазами, долго и рассеянно пожимая мне руку. В эту минуту к нему подошла Тоня: оба страшно переконфузились, покраснели, протянули друг другу руки и, не сказав между собою ни слова, разошлись в разные стороны.
«Маленькие гости» с своими матерями отправились восвояси, мои дети улеглись спать. Николай Александрович с Василием Ивановичем разговаривали в кабинете, а Тоня не выходила из своей комнаты. Только я одна сидела за чайным столом с знакомой дамой и наконец окликнула остальных, приглашая пить чай. Василий Иванович подсел к нам, а когда Тоня появилась в столовой, она подошла к Маньковичу и обратилась к нему с каким-то вопросом: они уселись поодаль и начали беседовать между собою. Когда все разошлись, Тоня сообщила мне, что Николай Александрович не проявил к ней никакой вражды, не пускал в ход и насмешек, но держал себя с нею крайне сухо. Затем она внезапно спросила меня, не буду ли я сердиться на нее за то, что от моего имени пригласила Маньковича обедать к нам завтра.
Он начал ходить к нам ежедневно; с каждым разом разговор его с Тонею становился все оживленнее, отношение все любезнее. Однажды он предложил взять для нее билет в театр, и с этого дня они отправлялись вместе повсюду: на спектакли, концерты, в оперу, на вечеринки к знакомым. Нередко утром они уезжали в Александровский парк гулять и возвращались домой только к обеду, а вечером ехали вместе на какое-нибудь представление. Со стороны можно было подумать, что это жених и невеста. Когда у нас собирались гости и Маньковичу с Тонею не удавалось поместиться друг возле друга, они, ни на кого не обращая внимания, перекидывались через соседей своими замечаниями, а несколько минут спустя уже сидели рядом. Не только меня, но и Тоню многие спрашивали, когда же ее свадьба, – так всем это казалось очевидным. Однажды ей задали тот же вопрос при мне и в присутствии Маньковича, шутя упрашивая ее устроить свадьбу как можно веселее и многолюднее. Нисколько не смущаясь, она сказала: «Конечно, ведь это будет самый счастливый день моей жизни. О! тогда от веселья пол и стены будут дрожать, музыка греметь, но вот когда это будет, я еще не знаю».
Оба они, казалось, все более пьянели от счастья, расхаживали всегда вместе, увлеченные оживленным разговором, поглядывая друг на друга влюбленными глазами. Где бы они ни проходили, всюду раздавался их веселый смех, и я ждала, что вот-вот Тоня скажет мне наконец о втором предложении Маньковича.
Вдруг кто-то из моих хороших знакомых передал мне, что он от нескольких лиц слышал о том, что Манькович женат. Я убеждала Тоню спросить его об этом, но вызвала с ее стороны только взрыв негодования, который потух только потому, что она была в веселом настроении.
– Так ты хочешь, чтобы Николай Александрович действительно имел бы право считать меня мещанской расчетливой душонкою? Я так безумно счастлива! И вдруг самой омрачить лучшие дни моей жизни подозрением в низости благороднейшего человека? Низость с его стороны была бы, конечно, не в том, что он женат, а что он молчит об этом до сих пор. Меня нисколько не удручает то, что он не делает мне предложения: я из-за своего учения не дала ему права считать меня невестой, а он не желает, вероятно, чтобы наш брак помешал окончанию его диссертации. Печально только то, что он до сих пор страдает из-за. моего поступка.
– Как же он это проявляет?
– Иногда среди самого задушевного разговора он как-то вздрагивает, покраснеет до корня волос, закроет лицо руками и замолчит. Я умоляю его сказать мне, что его угнетает. Однажды он сказал с такою сердечною болью: «Ах, зачем вы не исполнили тогда моей просьбы? Я без ужаса не могу вспомнить, сколько вы тогда заставили меня страдать!» – Помолчав, Тоня добавила: – Если он уедет, не сделав мне предложения, а я из его писем узнаю, что он окончил диссертацию, я сама поеду к нему, не посмотрю на провинциальных кумушек.
Праздники давно кончились, уже перевалило за вторую половину января, а Николай Александрович не заикался о своем отъезде, и мы вместе с ним сидели однажды за обедом, когда Тоне подали письмо. Она быстро пробежала его.
– Господи, какой стыд! Скоро месяц, как я в Петербурге, а до сих пор не собралась к Ермолаевым. Кто-то из них на днях видел меня в театре, и Елена Павловна приглашает меня завтра к обеду. Но ведь мы же увидимся с вами, Николай Александрович, завтра вечером на именинах?
– Я приглашен… буду непременно.
На другой день Тоня уехала к Ермолаевым, а я пригласила обедать Михаила Николаевича Лебедева, чтобы вечером вместе с ним отправиться на именины к нашим общим знакомым, – у Василия Ивановича была спешная работа и он оставался дома.
Михаил Николаевич Лебедев, кончивший академию генерального штаба, геодезист, работал в Пулковской обсерватории и впоследствии издал особый труд по геодезии, имевший научное значение. Это был человек умный, образованный и чрезвычайно симпатичный. Он был почти единственным военным, посещавшим дома наших знакомых. Еще раньше, когда он жил в Смоленске, он крепко сдружился с моими братьями и с одною из моих сестер; они все считали его ближе и роднее родственников по крови, а моя мать не иначе называла его как «богом данный сыночек». Когда он переселился в Петербург, свою дружбу и симпатию он перенес и на мою семью, часто посещал нас и близко сошелся со всеми нашими знакомыми.
Как только в этот раз он пришел к нам, один из его первых вопросов был: «Когда же наконец у вас свадьба?» Я представила на его суд все мои соображения, все сомнения на этот счет: и упорные слухи относительно того, что Манькович уже женат, и его злобное отношение к Тоне еще накануне ее приезда, и то, что он до сих пор не делает ей предложения, и как сама она смотрит на все это.
– Он был зол на Антонину Николаевну потому, – заговорил Лебедев, – что его самолюбие сильно пострадало. Рассчитывал, что память о ней выкинул из головы и сердца, а вдруг увидал ее и снова влюбился. Взгляд Антонины Николаевны на свои прошлые и теперешние отношения к нему мне глубоко симпатичен и с моей точки зрения весьма корректен. И чего вы опасаетесь за них? Они просто неразлучны: я как-то отправился в Эрмитаж – они там, на другой день пошел в оперу – они уже сидят в местах за креслами, вчера прохожу мимо Пассажа – они разгуливают по Невскому под ручку и так увлечены своим разговором, такое блаженство написано на их лицах!.. Я хотел поздороваться, – куда тут! Прошел мимо. Они ни на кого не смотрят, ничего не видят. Как же вы можете думать, что он женат? Ведь для этого нужно быть великим актером и человеком совсем без сердца и моральных правил, одним словом, «вполне полным подлецом». Разве он когда-нибудь давал вам повод считать его таким? Я на него смотрю как на весьма порядочного человека.
XV
Как только мы приехали на вечеринку, первый, кого я увидала, был Манькович. Мрачный и бледный, нервно кусая губы, он одиноко стоял, прислонившись к стене.
– Тоня еще не приехала? – спросила я его.
– А я почем знаю! – как-то злобно огрызнулся он.
– Как вы грубы, однако! – И я отправилась на другой конец комнаты, объясняя его раздражение тем, что он потерял терпение, ожидая предмет своей страсти.
Когда хозяйка дома, сидевшая подле меня, встала, Манькович занял ее место. Не желая показать ему досаду за его резкую выходку, я спросила его, долго ли он думает еще прожить в Петербурге. Он отвечал, что уезжает завтра же вечером. В эту минуту вошла Тоня. Она была в темном платье с накинутым на плечи красным суконным башлыком, украшенным золотыми кисточками, который только что вошел тогда в моду и придавал ее скромному туалету нарядный вид. Хозяйка дома потащила ее в другую комнату и усадила подле себя за чайный стол.
– Большие доходы или, по крайней мере, место с солидным окладом должен иметь супруг Антонины Николаевны, чтобы удовлетворять ее художественным вкусам и аппетитам.
– Вы прекрасно знаете, что Тоня основательно вооружена для приобретения хорошего заработка. Ее мужу не придется оплачивать ее туалеты. Я совершенно не понимаю, как вы можете так говорить о ней?
– Через час-другой все поймете… И все узнаете…
В эту минуту к нам подошла Тоня, и Манькович как ни в чем не бывало поздоровался с ней. Я предложила ей мое место и ушла, с ужасом думая о том, что-то будет через час-другой.
Когда M. H. Лебедев вышел из другой комнаты, мы сели с ним в углу около окна, и я рассказала ему о дикой выходке Маньковича и о моем страхе, что он готовит что-то неожиданное для Тони. В это время кухарка поставила небольшой столик перед нами и, покрывая его скатертью, проговорила: «За большим столом для двух-трех гостей не хватит места».
Когда начали вносить кушанья, я предложила Тоне и Маньковичу присоединиться к нам, не подозревая, что этим в сильной степени ослабляю впечатление от скандала, задуманного Маньковичем. Столик, за который мы уселись вчетвером, стоял в уголку, на небольшом расстоянии от круглого стола, занимавшего всю комнату. То, что мы говорили между собой, не слышно было за большим столом, да и сидевшим за ним было не до нас: там шел горячий спор, увлекший большинство гостей; оттуда то и дело раздавались голоса споривших и звонкий смех. За нашим маленьким столом разговор не клеился. Но вот подали шипучку, очень мало напоминавшую шампанское, и хозяин дома начал разливать ее по стаканам.
– Все без исключения должны произнести какой-нибудь тост, – сказала хозяйка. – В материале не будет недостатка. Сегодня у нас тройное торжество: день именин мужа, день моего рождения и годовщина нашей свадьбы.
Все поднялись с своих мест чокаться с хозяевами. Приветствия и поздравления сопровождались страшным гвалтом посетителей и даже битьем посуды. Наконец все стихло, кто-то поднялся, чтобы произнести речь. Манькович подбежал к концу большого стола, и я начала зорко наблюдать за ним: бледный, дрожащими руками он пересматривал бутылки одну за другой. Нашел одну из них нераскупоренного и начал подливать шипучку в наши стаканы; но руки его так тряслись, что он то и дело проливал ее на скатерть. Тут я в первый раз заметила обручальное кольцо на его пальце и глазами указала на него Михаилу Николаевичу. Мы вдруг, точно условившись с ним, быстро поднялись с своих мест, сразу поняв, что Манькович сейчас устроит какой-то скандал.
– Тоня, вставай! Нам необходимо моментально ехать домой, – решительно сказала я, наклоняясь к ней, обхватывая ее за талию и приподымая.
Она с удивлением взглянула на меня и, сразу поняв, что ей грозит какая-то опасность, вдруг вздрогнула и вместе со мною повернулась к выходу.
– Почему же вы все уходите? И вы, Антонина Николаевна? Разве вы не желаете поздравить меня с законным браком? Выпить за здоровье моей жены? Я буду просить о том же всех присутствующих… – говорил он, как-то заикаясь, скороговоркой; голос его то и дело срывался. Он не успел еще окончить начатого, как мы уже стояли к нему спиной, пробираясь к выходу, но сказанное я слышала отчетливо, то же должна была слышать и Тоня. Я повернула голову, чтобы позвать Михаила Николаевича, но увидала, что он наклонился к Маньковичу и что-то говорит ему. Я вышла с Тонею в переднюю, а за нами и Михаил Николаевич. Когда мы одевались, нас не видно было из столовой, в которую я притворила дверь из передней. На наше счастье, никто не вышел с нами прощаться.
Прежде чем спуститься с лестницы, Михаил Николаевич взял Тоню под руку. Мы вышли на улицу, Михаил Николаевич подозвал извозчика, сел на облучке, и мы все в одних санях отправились домой. Я не могла рассмотреть лица Тони: всю дорогу она не проронила ни слова, не вырвалось из ее груди ни вздоха, ни стона.
Как только мы возвратились, Михаил Николаевич прошел в кабинет Василия Ивановича, который, по обыкновению, сидел за работой, а я повела Тоню в ее комнату, и она как-то машинально помогала мне раздевать ее. Когда она лежала уже в постели, я была поражена ее расширенными зрачками. Я поставила свечку на ее столик, но она быстро закрыла глаза руками. Накрыв свечку абажуром, я переставила ее на пол. Я боялась заговорить с нею, боялась поцеловать ее. Я тихонько вышла из комнаты, подвинув к ней звонок.
– Месть, и какая бесчеловечная месть за отказ, полученный два года тому назад, месть за свою женитьбу, месть за то, что он опять влюбился в нее!.. Черт знает что такое! – говорил Василий Иванович.
– Я вообще противник дуэли, но это один из редких случаев, когда она является единственным средством, чтобы наказать негодяя, отомстить ему за Антонину Николаевну, дать ей моральное удовлетворение, – возражал Лебедев.
– У вас, военных, дуэль универсальное средство от всех зол! Все вы отрицатели и враги дуэли до первого случая. Какое же удовлетворение Антонине Николаевне может принести дуэль? Разрекламирует только скандал, о котором будут рассуждать вкось и вкривь, следовательно, бросать камни и в нее, совершенно неповинную. Теперь об этом инциденте, кроме немногих лиц, никто не знает, а тогда о нем все заговорят… И какая, подумаешь, справедливость, когда дуэль может погубить человека, который возьмется отомстить за Антонину Николаевну! Манькович выказал свое до невероятности мелкое, пошлое самолюбие, но каково же будет ему вечно жить с убийством в душе? Он совершил гнусный поступок, но возможно, что угрызения совести заставят его измениться к лучшему… А если он еще сделается убийцею? Тогда уже он в конце концов может оказаться бесповоротным негодяем.
– Все это происшествие как-то совсем не вяжется ни с духом настоящего времени, не соответствует оно и характеру современного человека вообще и Маньковича в частности, – говорил Лебедев. – Мне приходилось встречаться с его товарищами по гимназии и университету – все отзывались о нем с наилучшей стороны. И вдруг этот самый человек решается поставить обожаемую девушку в самое жестокое положение. Он перед этим не разлучался с нею целый месяц, несомненно, говорил ей любовные слова и в то же время носил нож за пазухой, думал только о том, как поудобнее нанести ей удар прямо в сердце. Бр!.. И подумать, все эти пылкие страсти происходят в настоящее время, когда первое правило – любить и жениться по кодексу новых гражданских взглядов, выбирать подругу жизни прежде всего для того, чтобы вместе с нею успешнее выполнять общественные задачи…
– Все это так потому, что усвоена только внешняя сторона этих идей. Когда люди будут вполне отдаваться общественной деятельности, а не застревать исключительно в тине личных чувствиц, тогда в душах людей не будет накопляться столько грязи и злобы.
– Уверяю вас, все это одна словесность, одна теория, – протестовал Михаил Николаевич. – Можно вполне отдаться общественной деятельности, можно благоговеть перед современными идеалами и все силы напрягать, чтобы проводить их в жизнь, но ближе всего, больнее всего всегда будут отзываться неудачи и несчастья личной жизни. Так есть в настоящее время, так будет в будущем и во веки веков.
– Скажите, Михаил Николаевич, что вы говорили Маньковичу, когда мы с Тонею уходили? – спрашивала я его.
– Да то, что он заслужил! Шепнул ему прямо в ухо: «Негодяй вы, негодяй и еще раз негодяй! Говорю это вам тихо, чтобы не расстраивать праздника».
– А он что?
– Да он был в каком-то невменяемом состоянии, может быть, даже ничего не понял. Как только вы направились к двери, он бухнулся на стул, обхватил свой стакан двумя руками, точно его кто-нибудь отнимал у него. Стакан так дрожал в его руках, что из него все выплескивалось на скатерть. Он решительно ничего не ответил на мои слова.
В эту минуту зазвенел колокольчик из Тониной комнаты. Я застала ее в мучительном страдании от тошноты. Когда она несколько успокоилась, я села в кресло и моментально заснула около ее постели. Когда я проснулась, Уже было светло. Тоня по-прежнему лежала с открытыми глазами. Я подняла штору и была поражена быстрой переменой, происшедшей с нею в одну ночь: мертвенно-бледная, с провалившимися щеками, с глубоко запавшими глазами, она неподвижно смотрела в одну точку на стене и, не произнося ни слова, лежала как в столбняке. Доктор сказал, что это оцепенение у нее вследствие сильного нервного потрясения, прописал какую-то микстуру, приемы которой вызывали лишь рвоту, и я перестала ее давать. Мне так хотелось поговорить с нею, поплакать вместе… Я знала, конечно, что она не оправится от этого, но мне казалось, что если бы она могла заплакать, прошел бы хотя ее ужасающий столбняк, который, вероятно, леденил ее душу.

