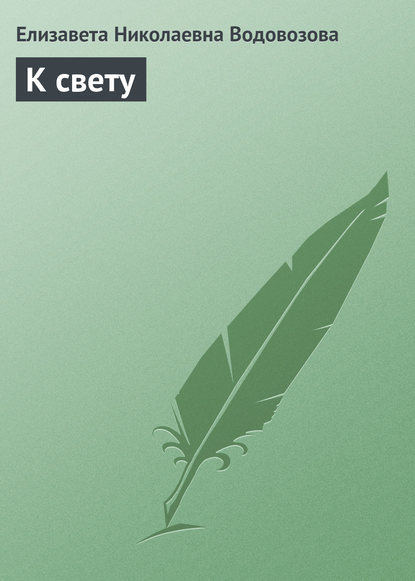 Полная версия
Полная версияК свету
Затем Ивановский спросил, предполагает ли его дочь окончательно поселиться у нас, и в таком случае какие она будет нести обязанности в нашем доме. Этот неожиданный вопрос совсем переконфузил меня. После продолжительной паузы я отвечала, что мы не говорили с ней ни о чем подобном, что у нас нет никакого для нее дела, нет для нее и особой комнаты и что она выносит у нас большие неудобства, так как спит в столовой.
Ивановский вынул восемь рублей и, протягивая их мне, просил отдать прислуге: шесть рублей на выкуп платьев, а два рубля за то, что они не были использованы ими. Дочери своей он просил передать, что она может возвратиться домой, когда ей угодно, без объяснения причин своего бегства.
Весь этот день Аня ходила мрачная, с заплаканными глазами, и не только ни разу не вспомнила об «эгоизме» и «консерватизме» отца, но не проронила о нем ни слова.
VIII
Дурное настроение Ани быстро исчезло: она уже на другой день была весела, как птичка, и с утра щебетала на разные лады о своем предчувствии, что сегодня (это был вторник) судьба, наверно, пошлет ей счастье увидеть Ушинского, «этого гениального, этого необыкновенного, этого исключительного человека». Ведь она и жить-то считает возможным только потому, что на свете существует такая личность, как Ушинский, «этот светоч, это солнышко». Предчувствия не обманули ее.
В последнее время как-то само собой установилось, что по вторникам ранее остальных гостей к нам являлись пан Шершневский и Николай Александрович Манькович: первый, вероятно, потому, что не был обременен занятиями, а последний – чтобы подольше созерцать предмет своей страсти. Тоня в разгар своей усиленной деятельности была так погружена в работу, что редко выходила из своей комнаты раньше девяти часов, когда собирались уже многие; поэтому Манькович старался подсесть ко мне, чтобы поговорить о Тоне. Меня это начинало все более тяготить. Я прекрасно видела, что его страсть к Тоне все более усиливалась, а она по-прежнему не выказывала ему ни малейшего предпочтения перед другими, с удовольствием болтала с ним, слушала его разговоры с гостями, которые он обыкновенно вел очень умно и не без юмора, но этим все и ограничивалось. Маньковичу от времени до времени, вероятно, надоедало без всякого успеха добиваться ответа на свои чувства, и его настроение совершенно менялось: он вдруг терял способность воздерживаться от озлобления, тяжеловесно острил, резко или грубовато отвечал на участливые вопросы, кидал даже на Тоню мрачные взгляды. В таких случаях она избегала разговора с ним, выбирала место, чтобы подальше сесть от него. Но когда дурное настроение проходило, Манькович опять становился прежним – веселым и оживленным. Со мною, однако, он был неизменно добр, никогда не прохаживался злобно на мой счет, напротив, всегда старался выставлять мои хорошие качества, которых часто совсем не было.
Шершневский сильно недолюбливал Маньковича, и наши посетители объясняли это тем, что Николай Александрович умен, находчив, красив и очень нравился женщинам, а Шершневский представлял совершенную ему противоположность. К тому же привычка Николая Александровича выбирать объектом своих острот Шершневского немало возмущала последнего, и он старался платить ему тою же монетою. В этот раз Шершневский во всеуслышание заявил, по своему обыкновению, с непристойною прямолинейностью и грубостью: «Сам-то Манькович не сумел добиться благосклонности одной особы, вот он и обхаживает Елизавету Николаевну, чтобы она помогла ему в этом! своим влиянием». Эта фраза, сказанная громко, могла бы наделать множество неприятностей, если бы она дошла до ушей Маньковича, но его в эту минуту случайно вызвал к себе в кабинет Василий Иванович.
Еще никого не было, кроме обычных посетителей, сидевших в моей комнате, когда Тоня вошла со свертком в руках и, поздоровавшись со всеми, сказала, обращаясь ко мне: «Уезжаю на Фурштадтскую к Ермолаевым, отдать детям книги. Возвращусь часа через полтора». За нею последовал Манькович, немедленно встал и Шершневский, направляясь в переднюю.
Когда вошел Манькович, я спросила его, куда девался Шершневский.
– Поехал провожать Антонину Николаевну.
– Почему же он, а не вы?
– Шершневский разжалобил ее тем, что подробно изложил, почему ему необходимо проводить ее: он отправляется тоже на Фурштадтскую, у нето сильно болит нога, а нанять извозчика нет денег. Против последнего аргумента Антонина Николаевна, видимо, не могла устоять.
В эту минуту вошел Ушинский; к нему так и бросилась Аня: глаза ее разгорелись от счастья и восторга, и они вдвоем прошли в кабинет Василия Ивановича. Когда мы остались только с Николаем Александровичем, он начал меня упрашивать, чтобы я ему как-нибудь пожертвовала часок-другой времени днем, когда у нас не бывает посторонних и в отсутствие Антонины Николаевны. Я отвечала ему, что мне нетрудно догадаться, о чем он желает говорить, но он напрасно думает, что кто бы то ни было может повлиять на Тоню в делах интимного характера. Однако он так настойчиво умолял исполнить его просьбу, что я наконец согласилась.
– Скажите мне, пожалуйста, что это за офицер, который провожает Антонину Николаевну? Я недавно шел мимо ворот вашего дома, когда она с ним подъехала… Сколько удалось рассмотреть, едва ли он многим красивее пана Шершневского и, судя по внешности, не умнее его. – При последней фразе он искусственно рассмеялся.
– Ради вас самих, Николай Александрович, очень прошу вас, не следите вы за Тоней: она будет возмущена этим.
– Неужели вы думаете, что я способен подсматривать за кем бы то ни было? Эта встреча произошла совершенно случайно, и я так торопился, что даже не подошел к ней поздороваться.
Я рассказала ему о происшествии с Тоней в прошлом году и о роли Ермолаева. Это было с моей стороны большою ошибкою, так как к страсти Маньковича присоединилась ревность, и без того уже сильно мучившая его.
Вдруг в столовую вбежал Шершневский, обозленный как никогда, и начал что-то выкрикивать во все горло. При первых звуках его голоса все торопливо вошли в столовую.
– Выбросила из саней! Кто этому поверит! Образованная девушка, а как простая баба, даже, можно сказать, как самый простяцкий деревенский мужик, толкает своего спутника и так больно пыняет в спину и голову, что у меня свалилась шапка, оторвалась полость и я, как бревно, вывалился в снег…
– Кто же причинил вам все эти неприятности. Кто вас разобидел? – спросил Ушинский с иронической улыбкой на тонких губах.
– Такой грубый поступок вашей прекраснейшей ученицы не мог меня разобидеть! А вот вы, знаменитый русский педагог, образ которого, как красное солнышко, горит в сердцах его учениц, который для них выше Сократа, выше мудрецов древности и современности… Какое же это воспитание, позвольте спросить, вы давали им? Или, может быть, вся глубина премудрости ваших новейших педагогических систем и должна проявляться в грубых выходках?
– Вы меня так вдрызг изничтожили, так основательно провалили все педагогические системы древности и современности и я так был поражен, что прозевал фамилию виновницы причиненных вам неприятностей.
– Вы говорите, что она неприятности мне причинила? Нет-с, извините-с! Тут дело идет не о пустяковинных неприятностях, а о членовредительстве. Своими мужицкими толчками она меня заставила вылететь из саней: я мог упасть на камень и раскроить себе череп, переломать кости, вывихнуть ноги, руки…
– Да нечего вам пересчитывать все части вашего тела: они, видимо, остались целыми и невредимыми, – перебила я его. – Садовская – особа деликатная: если она это сделала, вы, значит, дали для этого серьезный повод.
– Как? Так это Антонина Николаевна? Девушка такая благоразумная, благовоспитанная, даже с светскими манерами! Вот уж никогда бы не подумал, что она способна на такую грубую выходку… – удивлялся Ушинский.
– И я бы никогда не поверила, Константин Дмитриевич, – сказала Тоня, входя и здороваясь с ним, – что вы можете завинить кого бы то ни было только со слов обвинителя.
– Что такое я вам сделал? Я вам говорил такие комплименты, о которых и понятия не имеют все ваши ухажеры, вместе взятые, все ваши донжуаны… Гарун-аль-Рашид или черт его знает какой там другой восточный дурак только и умели сказать что-нибудь подобное своей Зюлеечке. Так вы должны были бы этим только гордиться, должны чувствовать признательность ко мне… – совершенно серьезно и запальчиво выкрикивал Шершневский, и его обвислое, лоснящееся лицо раскраснелось, как кумач.
Присутствующие разразились страшным хохотом…
– Как? Гарун-аль-Рашид восточный дурак? – выкрикнул кто-то из присутствующих.
– Вы никого не потрясли вашими азбучными знаниями! – огрызался Шершневский.
Начали раздаваться звонки, и несколько дам и мужчин друг за другом входили в столовую. Вновь прибывшим было сообщено о только что происшедшем инциденте и о хвастовстве Шершневского своим умением говорить дамам комплименты. Как его, так и Антонину Николаевну гости упрашивали познакомить их с этими комплиментами.
– Что же, я не прочь… Нисколько не сомневаюсь, что никто из вас не слыхал ничего подобного! Я сравнивал ее с «чарующей весною», с «распустившимся бутоном дивной розы»; я говорил ей, что «в моих жилах при взгляде на нее клокочет огонь страсти, как пылающий костер», что она «сама грация и поэзия», что «своею красотою она, как молниеносная стрела, пронзает мое сердце», что она «божественна и обольстительна, как гурия в раю Магомета», что «аромат ее волос восхитительнее всех райских благоуханий». Да мало ли что я говорил в минуту экстаза! Ну-ка скажите, кто из ее ухажеров способен высказать ей хотя сотую долю таких прелестных, воздушных, поэтических комплиментов? – И Шерыгаевский, сам смакуя и упиваясь своей фразой, обводил присутствующих самодовольным, победоносным взглядом.
Его слова были встречены громким хохотом и аплодисментами, а Тоне со всех сторон кричали, что она бесчувственная и неблагодарная.
Пока за столом все еще продолжали обсуждать этот инцидент и подсмеиваться между собой над самодовольством Шершневского, несколько человек уже сидели в стороне и вели между собою иные разговоры.
Сергей Васильевич Максимов (писатель-этнограф и путешественник по России), дружески хлопнув по плечу знакомого студента, спросил его:
– Ну, милый друг, чем вы теперь восторгаетесь, чему поклоняетесь, что предаете анафеме? А хорошее времечко мы с вами переживали еще годика два тому назад! Ведь я чуть не вдвое вас старше, а, бывало, душа так и рвется из нутра, так и хочется крикнуть чуть не полицейскому крючку: «Прочь с дороги с грязными лапами! Знаешь ли ты, семя твое крапивное, что мы празднуем зарю нашего обновления? Что яркое солнышко осветило все уголки нашей родины?» И все мы ходили тогда пьяными не от вина, а от счастья, которое безумно рвалось наружу.
– После возмутительного приговора над Чернышевским, да еще в такое реакционное время, как теперешнее, только идиот может упиваться подобными фразами, – резко проговорил студент.
– Правительство, несомненно, от времени до времени наносит нам серьезные раны. И одною из них был приговор над Чернышевским. Но из-за этого не может же все пойти насмарку, нельзя же не признавать великого значения крестьянской реформы, – говорил известный в то время педагог Семенов.
– И чего это вы все до сих пор носитесь с крестьянскою реформой? Я много путешествовал по матушке-России, – возражал Максимов, – и всюду мог наблюдать одно и то же: положение крестьян после реформы только ухудшилось. Их экономическая зависимость так велика, что не в чем проявиться их личной свободе. Крестьянину приходится так же унижаться, так же раболепствовать перед помещиком, как и во времена крепостничества. Промышленность у нас жалкая, развивается она крайне туго, а земельный надел крестьянина очень часто состоит наполовину из болотистой земли, из песку или суглинка. Чем же ему кормиться, как не заработком у того же помещика либо у местных кулаков, которые, как саранча, набросились теперь на деревню. Вот крестьянин и кланяется помещику земно, чтобы надрать лыка на свои лапти в его лесу, или лебезит перед кулаком и умасливает его. Чуть слово молвит без раболепства, и он навсегда лишается заработка и у того и у другого. К зависимости от помещика присоединилась теперь еще зависимость от мироеда.
– Странно, что до сих пор так ликуют и утешают себя настоящими и будущими реформами, которых ждет та же участь, что и крестьянскую реформу, – говорил Николай Степанович Курочкин. – Обкорнают, урежут, сократят, объяснят каждую из них так, что все новое совершенно сведут на нет.
К ним подошел Григорий Захарович Елисеев (талантливый внутренний обозреватель «Современника», писавший под псевдонимом «Грыцько»). В то время это был человек уже лет за сорок: фигура импозантная и весьма благообразная, с густой бородой, с волосами до плеч, с проницательно блестевшими глазами из-под нависших густых бровей, пронизывавшими каждого, с кем он говорил. Он молчал, но чрезвычайно внимательно слушал: чуть-чуть ироническая улыбка нередко раздвигала его плотно сжатые губы. Он, казалось, наблюдал не только за каждым, кто что говорил, но за внешностью и за жестами говорившего, точно его задачею было запечатлеть в своей душе не только мысли и слова каждого, но и его внешний облик.
– Что же нам, универсантам, делать в настоящее время, чтобы приносить обществу какую-нибудь пользу? Теперь не прежние времена, чтобы заботиться только о своей будущей карьере! Воскресные и элементарные школы, в которых мы работали, закрыты, кружковые собрания для самообразования строго запрещены; правительство все силы напрягает, чтобы возвратить нас в первобытное состояние…
В это время Ушинский, обходя сидевших и подавая на прощанье руку, заметил студенту:
– А вот во избежание этого каждый молодой человек обязан сам учиться поосновательнее прежнего, и не только для экзаменов, но вместе с тем и обучать грамоте каждого, с кем сталкивает его судьба. – И он торопливо направился в кабинет.
– Кажется, знаменитый педагог обучение азбуке считает панацеею от всех зол! – иронически заметил Елисеев.
Но я не стала слушать дальнейших рассуждений. Я глубоко уважала и с большою симпатиею относилась к Г. З. Елисееву, но меня возмущало поверхностное и легкомысленное отношение ко всем педагогам, каковы бы они ни были, и к педагогическим вопросам вообще у очень многих серьезных и талантливых литераторов того времени, к числу которых принадлежал и Григорий Захарович. К тому же мне хотелось узнать, что будет говорить Ушинский Тоне, которую он заранее просил зайти в кабинет.
– Из курьезных объяснений Шершневского я понял только, что он наболтал вам много пошлостей. Выслушивать подобные вещи, конечно, весьма тошнотворно… Но, простите вашего ворчуна-учителя: это еще не причина, чтобы прибегать к некультурному воздействию, выталкивать из саней и тому подобное. Мне кажется, что сама природа вложила в душу женщины такой инстинкт, что ей стоит только известным образом взглянуть на нахала, чтобы указать ему надлежащее место, – хотя по обыкновению очень живо, но наставительно говорил Ушинский Тоне.
– Может быть, для нахала этого и достаточно, но Шершневский в то же время и форменный идиот, – отрезала она.
– Голова у него, кажется, действительно довольно скудоумная, дряблая и нелепая натуришка, но все же я нахожу, что вы и другие в вашем доме слишком презрительно, слишком высокомерно к нему относитесь. Если вы находите его убогим в нравственном и умственном отношениях, зачем же вы приглашаете его к себе?
– Зачем его приглашают? – переспросила Тоня, вспыхнув, как зарево, и горячо заговорила, забывая благоговение, которое мы, ученицы Ушинского, питали к нему. Необыкновенный пиетет, который внушал нам к себе наш несравненный наставник и учитель, заставлял нас всех несколько стесняться с ним. Тоня, как и остальные его ученицы, искренно уважала его, но не вносила в свои чувства никакой экзальтации, – вероятно, потому она совсем и не робела перед ним. – Как в этот, так и в другие дома, где бывает Шершневский, – отвечала она, – он сам приходит без всякого приглашения.
– И все-таки за одни дурацкие комплименты он не заслужил с вашей стороны такой кары, которая сильно напоминает дореформенный быт наших дворян… Вы ведь и сами несколько виноваты: если вы считаете, что пошлость и навязчивость его характерные качества, зачем же вы берете его в провожатые?
– Вы просто хотите меня завинить во что бы то ни стало! Шершневский на этот раз, как и всегда, сам навязался. Он жалобно упрашивал меня взять его с собою, уверяя, что ему необходимо ехать туда же, куда и мне, плакался на то, что у него страшно болит нога, что нанять извозчика у него нет денег… И все это оказалось выдумкою… Наконец, он смертельно надоедал мне своими пошлостями, бесцеремонным образом совал свой нос в мои волоса… Я должна сознаться в еще большей преступности: я чрезвычайно жалею, что не надавала ему тысячу пощечин, а только вытолкнула из саней.
– Ого-го! Да вы девица весьма решительная! С таким характером и силою воли можно успешно вести борьбу не только с прилипчивыми кавалерами…
– Шершневский совсем не идиот, но в последнее время он действительно как-то опошлел и опустился, – заметил Василий Иванович. – Инцидент с Антониною Николаевною прекрасно это иллюстрирует. И то, что она выкинула его из саней, послужит ему только на пользу.
– Кстати, познакомьте меня с этим субъектом… Сообщите, где он учился, имеет ли какие познания, чем промышляет?
Василий Иванович сообщил то немногое, что знал о нем.
– Шершневский вследствие бедности должен был оставить университет на третьем курсе филологического факультета. Он на днях просил меня подыскать ему какие-нибудь занятия, говорил, что знает немецкий, польский, французский и латинский языки, но так ли это в действительности – неизвестно. Как только он оставил университет, ему пришлось пробиваться уроками, в последнее время исключительно в частных пансионах, где не всегда платят даже один рубль за урок, а с этой осени он не имеет никаких занятий.
– Может быть, он и дурит от безделья, – заметил Ушинский. – А компилятивная статья в последнем номере «Журнала министерства народного просвещения», составленная довольно толково и подписанная буквою Ш., – не его ли она?
Чтобы убедиться в этом, позвали Шершневского. Результатом переговоров было то, что Ушинский просил его походить к нему два-три дня, чтобы убедиться, может ли он исполнять у него некоторые работы. Шершневский выдержал искус, и Ушинский предложил ему у себя стол и особую комнату, относительно же вознаграждения за труд сказал, что оно будет выяснено через два-три месяца, а теперь он может брать по 40–50 рублей в счет будущего жалованья.
Шершневский через неделю-другую совсем преобразился: его всегдашнее, точно спросонок, мрачное и сонное лицо сделалось теперь более одушевленным. Он принарядился, припомадился и почистился. Когда он в первый раз по получении места пришел к нам, мы, точно сговорившись заранее, зааплодировали ему. Он всюду превозносил теперь Ушинского, выказывал преклонение перед величием его души и его необыкновенным умом.
– Вы более не ждите от меня комплиментов, – сказал он однажды с важностью, поглядывая на дам. – Хотя вы и современные дамочки, но все на один лад – до смерти любите, когда мужчина лебезит перед вами. И хвастаете этим друг перед другом. А Константин Дмитриевич человек серьезный: дойдут до него ваши сплетни и интриги относительно меня, и, пожалуй, лишишься у него места.
И он стал держаться теперь в обществе с большим достоинством.
Участие Ушинского к Шершневскому сильно поразило меня. Оно пробудило в моей душе еще большее благоговение к моему наставнику. Что Ушинский был человек великодушный и личность исключительная, нам всем, его ученицам, давно было известно. Но я всегда видела, что наибольшее внимание он оказывал людям более или менее способным, талантливым, подававшим надежды проявить себя чем-нибудь в будущем, и резко относился к людям глупым. Между тем перед ним во всем блеске проявилась пошлость Шершневского, но он и его вытянул из бедственного положения. Мы все только подсмеивались над Шершневским, а в душе даже презирали его, только один он, Ушинский, протянул ему руку помощи. Вот кого можно назвать истинным поборником идеалов шестидесятых годов, раздумывала я, – стремление к обличению и к педагогическому воздействию даже на людей, по своему возрасту давно вышедших из-под педагогики, эти характерные качества наилучших шестидесятников оказываются характерными качествами и нашего дорогого наставника.
Как-то Шершневский забежал к нам днем на одну минуту, просил вызвать к нему Ивановскую и, передавая ей книгу, указал на немецкую статью в несколько страниц, которую Ушинский просил ее перевести. В запечатанном конверте он посылал ей 25 рублей за не сделанный еще перевод.
– Как? Я только вскользь упомянула Ушинскому о том, что мне необходимы платные занятия, и он уже вспомнил! – кричала Аня. Трудно описать ее восторг и экстаз, великолепные эпитеты, которыми она осыпала Ушинского.
Когда Аня навосхищалась до хрипоты, когда она обегала все комнаты, изливая перед каждым из нас чувства восторга, когда о своей неожиданной радости она пересказала прислуге, няня пришла нам сообщить: «Барышня не в себе: ей надо дать каких-нибудь капель!» Я вбежала в кухню: Аня сидела на табуретке, запрокинув голову, с открытым ртом, точно ей не хватало воздуха, с посиневшим лицом и истерически хохотала, как-то всхлипывая, точно от рыданий. Мы уложили ее в постель. Полежав недолго с компрессом, она закричала: «Я сейчас еду к Ушинскому благодарить его, броситься перед ним на колени, целовать его руки!» Я отвечала, что никуда не пущу ее. Для нее сейчас же разложили в столовой складную постель, уже давно доставленную нам знакомыми, а мы сами отправились обедать в мою спальню.
Аня проснулась поздно вечером, взяла немецкий словарь, просидела за работой всю ночь и несколько дней, два-три раза переписывала ее и под предлогом, что ей не удаются некоторые фразы, просила Василия Ивановича поправить ее перевод. Ему пришлось зачеркнуть почти каждую строчку и под нею написать совсем другое. Аня чистосердечно просила нас всех откровенно сказать ей, нести ли перевод с поправками или снова переписать его. Мы с Тонею нашли, что переписывать после поправок, сделанных другим, значило бы обманывать Ушинского. Василий Иванович предоставил ей решить этот вопрос, как она сама желает. Она немедленно отправилась к Ушинскому и представила ему работу с поправками. Что она говорила с ним, как он отнесся к ее работе, она нам не рассказывала, но возвратилась от него очень скоро и крайне расстроенная. Я в это время уже собиралась на урок и на лестнице встретила Шершневского. Он тут же заявил мне, что Ушинский просит меня к себе и извиняется, что по болезни не может сам приехать: он простудился, и доктор строго запретил ему выходить. Я просила передать, что после урока немедленно явлюсь к нему.
– Ну и угораздило же Анну Петровну! Нашла кому делать любовные признания… да еще на коленях! Ушинскому, этому Златоусту, этому проповеднику, не знающему других страстей, кроме страсти распространения просвещения! И отчитал же он ее! Ах ты боже мой! Если бы так-то… какая-нибудь девица передо мной… да на коленях… а, а, ах!
Ушинский лежал в своем кабинете совершенно одетый и прикрытый пледом.
– Почему вы своей подруге Ивановской уделяете так мало внимания? – резко спросил он меня, как только я успела поздороваться с ним.
Я отвечала, что сделала для нее все, что могла.
– Вы думаете, что, приютив у себя несчастную девушку, вы можете этим ограничиться? Относительно ее вы взяли на себя ответственную роль матери, а между тем не обращаете ни малейшего внимания на то, что она совсем больна. Вы давно должны были показать ее психиатру, а не дозволять больной девушке разъезжать, куда вздумается.
Этот упрек взбесил меня своею несправедливостью.
– Я никогда не брала на себя роль ее матери. Это было бы и довольно мудрено: мы с нею одних лет. К тому же никто из членов как моей, так и ее собственной семьи не смотрит на нее как на душевнобольную. Мы считаем ее просто истеричкой.
– А я вам сейчас докажу, что она психически больная. Возможно даже, что форма ее душевной болезни тяжелая и опасная. Скажите откровенно, давал ли я когда-нибудь повод вам, моим ученицам, смотреть на меня как на мотылек, перепархивающий с цветка на цветок?
– Господи, что вы спрашиваете, Константин Дмитриевич! – с ужасом воскликнула я. – Даже институтское начальство, которое на вашу голову взваливало всевозможные ужасы, только в одном этом никогда не обвиняло вас.
– Ивановская же отнеслась ко мне как к последнему пошляку!.. А это что же такое? (Он вытащил злополучный перевод и помахивал листами.) Это уже красноречиво доказывает, что она и вас всех свела с ума! Я не заказывал перевода Василию Ивановичу! И для вас еще мало всех этих доказательств ее невменяемости? Неужели для того, чтобы убедиться в ее психозе, вам нужно, чтобы она выбежала на улицу нагишом? Усердно прошу вас завтра же отправиться с ней к психиатру.

