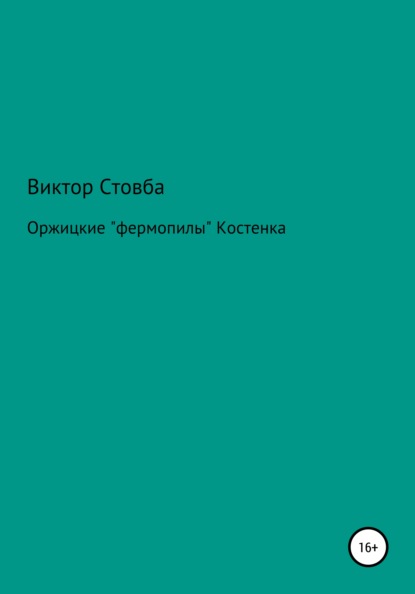 Полная версия
Полная версияОржицкие «фермопилы» Костенка
«…сам делал перевязку тяжело раненому командиру дивизии полковнику Бацкилевичу, село Белоусовка 19.09.41 г., был разрывом снаряда ранен и несмотря на это продолжал делать перевязку. Получив ранение руки продолжал выполнять работу, категорически отказался ехать в тыл для госпитального лечения».
Вадзинского Василия Иосифовича, 1903г.р., капитана, зам. начальника по тылу 32 кд —
«21 сентября 1941 года, будучи с тылами в местечке Оржица при полном окружении был вызван командиром дивизии полковником Бацкилевичем, котрого должны были выносить в безопасное место. Полковник Бацкилевич лично вызвал капитана Вадзинского и передал ему боевое красное знамя дивизии и приказал доставть знамя в штаб дивизии. Где находился штаб дивизии Вадзинский не знал.
Вечером 22.09.1941 года под. огнем артилериии, минометов и пулеметов вместе с раненым полковником Бацкилевичем переправил через болото и реку Оржица знамя и 23.09.41 года было доставлено в штаб дивизии (в лес севернее села Большое Селецкое).Знамя все время находилось у Вадзинского до полного выхода из окружения. Вышел из окружения организовано вместе с частями дивизии».
Коваля Александра Порфирьевича, 1911г.р., воентехника 1 ранга, начальника ВТС управления штаба 32 кд —
«20.09.41 года, в период корда части дивизии выходили из вражеского окружения, зная, что где то среди многих автомашин находится раненый командир дивизии полковник Бацкилевич, взял на себя инициативу, разыскал его и вместа с Дзюбановым на сделаном плоту перевезли раненого полковника Бацкилевича через реку Оржица в болем безопасное место, а затем и следовал с ним, пока он не был оставлен на квартиро в селе Новоселица. Принял также участие в выносе дивизионного боевого знамени из вражеского окружения».
Мы знаем, что раненого полковника Бацкилевича пришлось оставить на попечение местных жителей.
Дзюбанова Владимира Константиновича, 1907 г.р., старшину, старшего бригадира по ремонту машин ремонтного эскадрона 32-й кд, помогал при переправе раненого полковника Бацкилевича через р. Оржица —
«…проявил себя героически при переправе через реку Оржица под обстрелом огня противника – раненого командира дивизии полковника Бацкилевича. Раздевшись догола 5 раз переплывал реку. Личко сопровождал на плоту полковника Бацкилевича. Кроме того на себе на другой берег неумеющих плавать медсестру, политрука Девликанова и мл. лейтенанта. Добросовестно участвовал в дальнейшем несении командира дивизии, как то: ходил в разведку и был при нем до самого последнего момента».
Девликанов Аким Аметович, 1910г.р., политрук, политрук 4-го ескадрона 65 кп 32 кд —
«… после того, как был убит командир ескадрона, лично принял на себя командование ескадроном».
Хотя эти события были уже позже.
Дядькин Иван Павлович, 1906г.р., капитан, начальник штаба 121 кп 32 кд —
«…4 сентября, после ранения командира полка подполковника Павлова, принял на себя командование полком. До 19 сентября его полк выполнял ряд боевых задач. 22 сентября был в окружении у с. Оржица. 5 октября вышел в Ахтырку в составе кагруппы».
Власенко Иван Николаевич, 1907г.р., ст. лейтенант, начальник вхс 121 кп 32 кд —
«23 сентября, когда Оржица было окружена немецкими войсками, под градом пуль, мин и снарядов через болото и р. Оржица пробился к кавгруппе, имея с собой знамя части.
С 23 сентября по 5 октября доставал продукты и зерно фураж в селах, занятых немцами, тим самым обеспечил полк питаним людей и лошадей».
Журавлев Порфирий Дмитриевич, 1901г.р., батал. комиссар, военком 32 кд —
«…участвует в боях с 18.07.41 г. Дважды был вместе с дивизией в глибоких тылах противника. Будучи в окружении противника выполнял ряд поручений по разведке расположения противника, лично эти поручения выполнял на отлично».
Карасик Яков Михайлович, 1901г.р., военветврач 3 ранга, начальник ветлазарета 65 кп 32-й кд —
«…трижды принимал участие в конной атаке совместно с полком. Показал себя безстрашным в бою. В Оржице спас под своим личным руководством 120 лошадей, которые вышли с кавгруппой».
Грязнов Георгий Николаевич, 1918г.р., красноармеец, управление штаба 32 кд —
«…будучи в ожесточенном бою с противником под селом Белоусовка 20.09.41 г. был ранен и несмотря на это продолжал оставаться на поле боя и ехать в госпиталь отказался.
Вторично был ранен в бою под селом М. Селецкая 23.09.1941 г. и опять несмотря на более тяжелое ранение остался в строю и выполнял посыльную для себя работу».
Межвинский Станислав Иосифович, 1920г.р., красноармеец, коновод 65 кп 32 кд —
«…не однократно выполнял боевые приказы по разведке противника и всегда доставлял точне данные. Под р. Удай несмотря на отсутствие переправочных средств вплавь переправил большое количество конского состава».
Москаленко Алексей Прокофьевич, полковник —
«В боях под с. Белоусовка, когда командир дивизии полковник Бацкилевич был ранен, вступил в командование дивизией и успешно провел ряд боев под. с. Белоусовка 19.09.41 г., под. Оржица 20—22.09.41 г., прикрывал переправу для частей 26 армии под Б. Селецкие 24.09.41 г. Основные кадры 32 кд, впоєне боеспособные, были выведены 5.10.41 г. из окружения противника».
Кочнев Александр Петрович, 1921г.р., красноармеец, писарь 121 кп 32 кд —
«22 сентября, находясь в местечке Оржица в транспорте во время полного окружения наших частей вскрыл сейф, уничтожил все документы, взял полковое знамя и через огневое кольцо противника три раза переплывал реку Оржица и преодолев много болот вышел из окружения пройдя около 200-т километров вынес боевое знамя».
Матушкин Михаил Семенович, 1915 г.р., мл. политрук, политрук 1-го эскадрона 121 кп 32 кд —
«С 22 сентября 1941 года находится в 1-м эскадроне 121 кп 32 кд. Не один раз ходил в наступление и увлекал за собой бойцов».
Невский Иван Иванович, 1903 г.р., майор, нач. связи 32 кд —
«…все время и всеми средствами поддерживал связь между частями дивизии».
Борисов Аркадий (Арон) Борисович (Шустер) (13 мая 1901). Еврей. Генерал-майор (1941). В сентябре 1941 года командовал кавалерийской группой Юго-Западного фронта.
Из наградного представления к ордену Красного Знамени на командующего кавалерийской группой Юго-Западного фронта генерал-майора Борисова А. Б.:
«В период операции по выводу из окружения частей кавалерийской группы в районе Белоусовка, Исковцы, Оржица Полтавской области, в течение 19—23 Сентября 1941 проявил исключительную личную храбрость и мужество. В сложных условиях, при полном окружении частей кавгруппы превосходящими силами противника, умело организовал операцию прорыва фронта противника и форсирования рек Удай и Сула, при отсутствии постоянных переправ и табельных средств переправы.
Комбриг тов. Борисов, благодаря проявлений личному мужеству, отлично продуманному плану операции и умелому руководству частями, сумел частями кавалерийской группы прорвать фронт противника, с упорными боями форсировать 4 серьезных водных препятствия и вывести части кавалерийской группы из окружения вполне боеспособными, нанеся при этом противнику ряд чувствительных ударов.
Сам комбриг Борисов, 22 сентября, управляя боем частей за овладение переправой в с. Оржица, был ранен».
Командир 32 КД полковник Бацкалевич Александр Иванович, будучи в окружении в районе с. Белоусовка, в сентябре 1941 года был тяжело ранен и оставлен в поселке района Оржицы.
Григорьев Николай Васильевич, служил в звании майора в должности начальника штаба 40 кп 43-й кавалерийской дивизии, затем командира 38 кп той же дивизии. В составе 1-й конной группы А. И. Городовикова участвовал в рейде по тылам противника. 20 сентября 1941 при возвращении из рейда в бою под поселком Оржица Полтавской области был ранен в лицо и в руку. 22 сентября 1941 попал в плен в госпитале. После освобождения в декабре 1945 проходил спецпроверку. В результате проверки был восстановлен в звании майора, был награжден медалью «За боевые заслуги» и вторым орденом Красного Знамени, к которым был представлен еще в 1941 году. В 1946 году демобилизовался из армии. Умер 4.01. 1978 года в г. Москве.
Командир рембригады 18 тп 32 кд Романов В. А. вспоминает, что:
«… на следующий день (на 23.09.1941 года) заградительные пулеметные точки, стрелявшие по солдатам и офицерам, пытавшимся сбежать переплыв реку, были сняты. Им, остаткам 18 танкового полка батальонный комиссар объяснил обстановку: «Мы находимся в кольце, окруженном немецкими войсками (мы – это целые армии), дана команда выходить из окружения самостоятельно. Глубина окружения километров 300—400».
Получается, что заградительные пулеметные точки стояли в течение 20-23-го сентября 1941 года.
«С этого момента начинается выход из окружения, в т.ч. и его бригады. Романов бригаде сказал, что будем выходить из окружения вместе. Но уже в первые часы немецкие автоматчики обстреляли их еще на берегу с деревьев (таких автоматчиков, засевших на деревьях, они называли «кукушки»). К нему подошли начальник особого отдела, заместитель командира полка по технической части Конанков, беременная жена начальника артвооружения полка (врач) и еще несколько человек – всего человек 15—20. Каждый из них ждал момента, чтобы безопасно переплыть реку.
Романов разделся за кустами, связал свое обмундирование: кожаные штаны, кожаную куртку, сапоги, нательное белье, фуражку, пистолет. Голым вошел в воду (уже темнело) и поплыл, толкая впереди себя завязанный узел. Переплыл на противоположный берег и изо всех сил побежал от реки, потому что автоматчики (немцы) начали стрелять по воде и берегу по тем, что плыли.
Подбежав к кустам, перевел дух, сел на землю и начал одеваться. Затем взял сапог, надел на ногу и видит, что второго сапога нет, очевидно, утонул, когда он переплывал. Решил обвязать вторую ногу нательным бельем, и здесь его что-то вроде кольнуло, он посмотрел под кусты и видит, лежит сапог. Подошел, взял, смотрит – кирзовый, как раз на его ногу. Одел его и осторожно начал удаляться от реки. Затем они, несколько человек, снова встретились вместе (в том числе и врач).
Воинов, переплывших реку, было как муравьев. В общем дальше народ собрался в большую колонну – ни конца, ни края и все это двигалось по оврагу. Не знали, куда все идут, но шли все в одном направлении, в том числе и полковники, и младшие начальники. Но никто не командовал этим потоком.
Среди этого потока был один сержант кавалерист, который вел своего коня под уздцы. Внезапно лошадь как заржет, взбудоражила всех. На этого сержанта накричали, мол, брось лошадь, пристрели ее, чтобы не нагнетать обстановку. Но тот сел на нее и уехал подальше от колонны.
Так они и шли всю ночь, с одной стороны вода, а с другой суша. С рассветом узнали, что они двигались вокруг острова, окруженного водой. На острове полно спелой ржи в снопах, собранной в стога. Им солдаты рассказали, что в одном месте, по выходе из острова, находится село Нарышкино, в котором размещается штаб. И еще, что немцы после завтрака выезжают на остров танками. Наблюдатели залезают на большие копны и вылавливают наших солдат и офицеров, укрывающихся в стогах. Их берут в плен, а тех, кто особенно оказывает сопротивление, стреляют или давят танками.
Романов собрал своих людей из ремонтной мастерской и сказал: «Давайте спрячемся в высоком прошлогоднем подсолнечнике. Хотя он и просматривается, но немцы будут меньше обращать на него внимание», – так и сделали. Выкопали каждый для себя ямку и пролежали этот день. Затем усовершенствовали, нашли другие места».
Воспоминания Бориса Васильевича Блинникова. Написанные 15.02.2004 (Архив семьи Мельниковых). Вспоминал он о самом горьком дне в его военной судьбе так:
«Поступил приказ: всем на оборону Оржицы. Кроме шоферов. Я повез командира взвода в райцентр. Начальник штаба сжигал документы. Сказал: «Как угодно отступать, продвигаться к городу Лубны, там наши». Пошли ночью через море огня. Ночи были темные, хоть глаз коли. Нас в группе подобралось четыре солдата, проползали по десять километров за ночь.
Утром нашли ров, скатились в него, надо было отдохнуть, сил нисколько не осталось. С собой был спирт, выпили, чтобы голод преодолеть и холод. Вдруг слышим страшный шум, гам на расстоянии. Выглянул один из нас, вскрикнул: «Там автоматчики немецкие!». Подошли те к нашему рву, один немец показывает автоматом вверх: вставайте! У меня забрали наган, у ребят винтовки. Тогда еще винтовки у наших были. Трехлинейки. Отправили нас в тыл».
Вспоминает бывший начальник штаба 321 озад лейтенант Рохманюк Михаил Дмитриевич, что:
«…в ночь на 23 сентября, кто пожелал, пошли на прорыв. Он собрал командиров батарей, чтобы обсудить это. Командир и комиссар отказались дать указание выходить мелкими группами, а поручили это ему. Он, по молодости и неопытности, добросовестно это сделал…
…В 1941г. был приказ Сталина, запрещающий выход из окружения мелкими группами. Предписывалось сражаться до конца, организовано, с боем выходить, не рассеиваясь на мелкие группы…
…Наметили маршруты, место встречи за линией фронта. В ночь на 23 сентября они вырвались из Оржицы, бросив там всю технику и транспорт, и разрозненными группами начали просачиваться на восток до линии фронта… Болото тогда было сплошным до островка, но когда они увидели, что моряки Днепровской флотилии его прошли, пошли они».
Рохманюк четко указывает на то, что болото переходили моряки. Вряд ли речь идет об одном или двух. Вероятнее всего, речь идет о группе или подразделение. Этот факт лишний раз доказывает, что в Кандибовке погибли далеко не все моряки Черкасской группы Днепровского отряда Пинской военной флотилии.
«Чистой воды нигде не было, все болото заросшее, с толстым слоем корневой системы, когда на нее кто становился, то она тонула, и ты оказывался по пояс или по плечи в воде. Под кем этот слой прорывался, то тонул…
…Идти было трудно в форме и с оружием, только по ночам, а днем отсиживались в лесах, оврагах и т.д…
Маршрут его из Оржицы пролегал больше мимо населенных пунктов, поэтому шли с оружием и в форме, но проложить его можно было бы так: Оржица, Онишки, Исковцы, Остаповка, Биевцы, Вороньки, Риги, Пески (это южнее Лохвицы, там они и переправились через реку Сула), Разбишивка, Глубокая Долина, Рымаровка, Палки, Большие Будищи, Тростянец. Точно на окраине Тростянца они и вышли в район 100-й сд».
Из воспоминаний бывшего командира роты связи 34 сп 75 сд 66 ск 21 А старшего лейтенанта Лисичкина Алексея Никоновича узнаем, что:
«…в конце сентября 1941г. начальник штаба 34-го сп Козьмин получил приказ группами выходить из окружения. Он вошел в группу батальонного комиссара Гребнева. В ночное время они шли на восток…
По дамбе форсировали р. Оржица отряд моряков и кавалерийские подразделения полковника Мальцева, которые почти все погибли».
Опять упоминания об отряде моряков, на этот раз Лисичкина. Только неизвестно, откуда у него данные, что они почти все погибли.
«…Из Оржицы пошли группами через болота, форсировали р. Оржица вплавь, а реку Сула форсировали ночью с помощью сделанного плота вблизи села. В их группе было 16 человек, все были вооружены…
Не доходя хутора Михайловка из группы ушли украинцы по домам- лейтенант Ещенко, младший лейтенант Кучма, старшина Еремчук, врач Садыков и др. В ночное время они шли на восток.
К Михайловке шли через село Поповка, переходили реки Псел, Орлик (наверное Хорол), где пришлось снимать немецких часовых и переходить через мосты. В районе хутора Михайловка Сумской области (севернее Лебедина) их группа вступила в бой с большой группой немцев и полицаев, где был убит батальонный комиссар Гребнев, а его и старшего лейтенанта Горобченко П. взяли в плен. Часть из группы погибли в бою под хутором Михайловка».
В пермской областной газете «Звезда» 31 октября 1969 года была напечатана статья «Гимн героизма» журналиста АПН Александра Ландышева, в которой рассказывалось о подвиге пограничников 94-го пограничного отряда. На статью откликнулся бывший пограничник отряда П. В. Мосин, который вспоминал, как:
«…никогда не забыть бои в составе их пограничного отряда. Навсегда останутся в памяти те дни, когда небольшая группа пограничников, в которой был и он, охраняла штаб 26-й А. Вместе со штабом армии они выходили из окружения. После нескольких атак у городка Оржица им удалось пробить брешь, через которую прошел штаб 26-й А. В этом бою геройски погибли его земляки пограничники Алексей Казанцев и Василий Юдин. Не многие тогда вышли из вражеского кольца. Но и враг заплатил дорогой ценой».
Пробился с группой бойцов и командир 94-го пограничного полка майор Ф. И. Врублевский. Много лет спустя он написал, оценивая все, что пришлось пережить и выдержать бойцам и командирам 94-го пограничного отряда за первые девяносто дней Великой Отечественной войны, что, по его мнению, это был настоящий массовый подвиг двух с половиной тысяч человек. Ему не было известно ни об одном факте трусости, малодушия, ни один из пограничников не сдался добровольно в плен врагу, не поднял руки, не капитулировал, в какой бы сложной обстановке ему не пришлось быть. Да не забудется этот подвиг в сердцах людей.
Из немецких источников (В. Вертен):
«Огонь немецкой артиллерии достиг ураганной силы; пушки всех калибров вели огонь по путям отступления противника. Только в течение 23 и 24 сентября удалось снова закрыть бреши в кольце окружения. Были взяты массы пленных. Напор со стороны противника ослаб. 16-я танковая дивизия приготовилась к обороне по берегу Сулы».
Не многим удалось спастись. Среди уцелевших и тех кто вышел из окружения с оружием в руках, был и красноармеец 548 стрелкового полка, 116-й стрелковой дивизии, Мамка Ф. Э..
По воспоминаниям бывшего составителя типографии редакции дивизионной (117-й сд) газеты «Ворошиловский стрелок» красноармейца Трушина Георгия Павловича:
«… они услышали, что немец уже подходит к селу. Здесь они типографию сожгли вместе с машинами. Федотов и Евсеев сказали им, никуда не уходите, а сами пошли в лес. Трушин и еще был составитель Юлдашев Акрам, они ждали больше часа. Когда немец начал их обстреливать, Федотова и Евсеева не было. Они по сути дела их бросили, а сами скрылись. Вот в это время он бросился бежать в лес на восток, там уже стояли немцы, он в южную часть – оказалась такая же история, он тогда взял курс на север, но даже не вышел из леса, как попал в засаду и здесь его пленили.
Недалеко было видно дом и туда его и еще человек 20 привели, а там уже было очень много нашего брата, трудно было сосчитать».
Наталья Павловна Кокошко (Талочка) вспоминает, что:
«…местность покрыта лесом и заболоченная (об окраине Оржицы).
Отступающие войска, лишенные единого командования, попали в эту ловушку. Немцы в болото НЕ полезли. На самых проходимых местах поставили заслоны и методично обстреливали болота из минометов. Люди в болоте бродили в разных направлениях, сбиваясь в кучу в попытках найти выход. Ночи стояли уже холодные, а Талочка была одета в легкое летнее платье и туфли. На одном островке солдаты сняли с убитого сапоги и предложили Талочке. Она с ужасом отказалась надевать их. На нее накричали, посоветовав не отказываться, если она сама не хочет так же вот лечь в этом болоте, как этот убитый. Ей подыскали и другую одежду, более подходящую для болота. На голову надели кожаный шлем с мехом внутри. Талочка, конечно, понимала, ГДЕ солдаты взяли эту одежду. Но останавливаться на этой мысли было ужасно, и она пыталась отогнать ее. Стало несколько уютнее.
Так и ходила группа под командой лейтенанта по болоту несколько дней.
…Мины с характерным воем поднимали вверх столбы грязи и воды, осколки убивали и калечили людей, которые брели по пояс, а иногда и по грудь в воде. Чистой воды нигде не было, все болото заросшее, с толстым слоем корневой системы, когда на нее становились, то она тонула, и человек оказывался в воде. Под кем этот слой прорывался, тот тонул
…Раненые тонули, и никто не мог им помочь. Это было жутко и больно видеть, как на твоих глазах люди уходят под воду. А еще два дня назад было смешно, что солдаты ползут по траве и виляют попой! Талочка не умела молиться, она была комсомолкой, и ее мысли, стучавшие молотком в висок, были об одном: «Только бы меня не ранило, пусть уже сразу на смерть, чем так вот в болоте тонуть… Только бы не ранило …". Было одно стремление дойти до следующей кочки или островка и хоть немного отдохнуть».
Вспоминает бывший начальник 5 отделения штаба 117-й сд майор Долгошеев Афанасий Яковлевич, как переправившись на восточный берег реки Оржица, группы воинов 117-й сд из состава 173-го мсб и 121-го автомобильного батальона начали свой трудный путь к линии фронта:
«Служил в 117 сд с начала её формирования, т.е. с августа 1939 по сентябрь 1941г. в г. Куйбышеве в должности НО-5 (помощник начальника штаба дивизии по тылу). Участвовал в первые дни боев дивизии под Жлобином и Рогачевом. В лесу под Гомелем ночью без света фар при выводе автомашины медсанбата получил ранение «множественный перелом ребер грудной клетки», был придавлен автомашиной, и тут же медсанбатом в сопровождении медсестры был доставлен в госпиталь, в помещение школы, а потом вечером санитарным поездом в г. Орел, где после лечения был зачислен в запасной полк. Узнав, что на железнодорожной станции находится эшелон из с Куйбышева с материальной частью для 117 сд, отпросился у командования и с этим эшелоном вернулся в дивизию.
В районе Пирятина получил приказание «Отвести автобат и медсанбат как можно дальше в район Оржица», т.е. к переправе через мост, где уже было большое скопление автомашин и обозов разных армий и частей. В Оржицу ехали долго. Никто не обстреливал и не задерживал, и не спрашивал, куда кто едет. Это было странно.
Здесь уже после налетов авиации мост был разбит и шел минометный обстрел. Люди из впередистоящих обозов и автомашин начали переход вплавь через р. Оржица, одновременно уничтожали автомашины, лошадей распускали, что сделал и он, а людям приказал перейти вплавь и на том берегу собраться. Но вышли в основном только шофера автобата и медсанбата, т.к. этот район очень обстреливался минометным огнем противника и авиацией.
К вечеру стали переправляться через реку Оржица. Переправились не все. Стояли, обсыхали. Долгошеев спросил: «Кто пойдет назад и приведет остальных?» Вызвался пожилой лейтенант Иевлев, исполнительный хороший командир. Он ушел и не вернулся, наверное, погиб.
При переходе вплавь реки Оржица люди тонули и кричали «Спасите!» «Рятуйте!» т.к. илистое дно реки засасывало, и этот район сильно обстреливался минометным огнем и авиацией. А, перейдя реку, несколько дней шли мокрыми, т.к. переходили ее полностью обмундированными и почти все разутыми.
Какая-то женщина утопила свои ботинки при переправе, поранила ноги, Долгошеев ей отдал свои ботинки, надеясь, что в двойных чулках сможет пройти, но на стерне поранил ноги в кровь и дальше идти не мог. Сказал красноармейцам, что идти не может. Они ему сказали: «Мы Вас просим вести нас, если не можете идти, мы Вас понесем, а будете отказываться вести, мы Вас расстреляем».
Командир медсанбата личный состав повел отдельно, и после переправы он его не нашел. И только после выхода уже в октябре месяце встретил его в Ахтырке. При виде Долгошеева он как бы очнулся, сказал: «Как, ты жив?» Я сам тебя видел лежащего с разбитой головой и доложил об этом.» Долгошеев ему ответил: «Значит, долго буду жить.» Он понял, что у него были большие потери личного состава.
Далее Долгошеев повел в основном военнослужащих автобата и медсанбата. В списке люди, которые уже окончательно вышли с ним из окружения. вначале выходил Иваненко А. А., потом отстал. Группа была малочисленная, хотя иногда было человек 70—75, ежедневно стихийно пополнялась военнослужащими из других частей и подразделений и так же ежедневно убывали по неизвестным причинам (питаться было нечем, куда идти дальше ни я, ни кто не знал).
Через некоторое время с большим трудом присоединился к выходящей из окружения группе генерал-майора Лопатина (помимо его желания) и дней 5 шагал за его группой, пока не разошлись. Лопатина встретили за 5 дней до выхода из окружения. Лопатин приказал, чтобы все имели оружие (а где взять патроны), но в бой не вступать и идти от него подальше. Но так как выходили только ночью, он уходил и мы не знали куда и когда, т.е. время. Группа его (Лопатина) была примерно 20—25 пограничников, сам он был командиром (стрелкового) корпуса.



