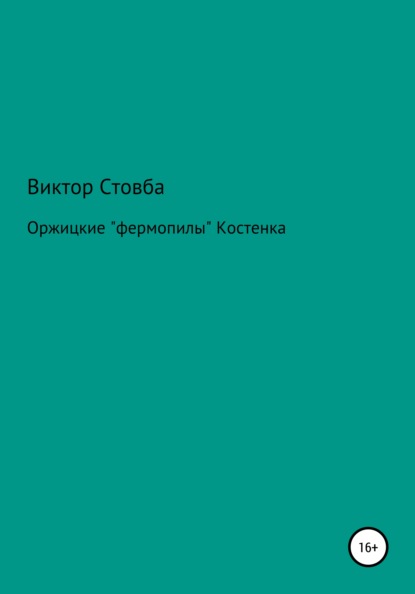 Полная версия
Полная версияОржицкие «фермопилы» Костенка
Несмотря на обстрел из пушек и минометов, которые подтянул сюда противник, неравная борьба все же продолжалась несколько дней.
Рассказывают, что самолеты, летая на бреющем полете над берегом, разбрасывали листовки, отпечатанные на машинке в немецком штабе.
«Безногие солдаты Оржицы, – говорилось в этих листовках. – Ваше сопротивление бессмысленно. Немецкая армия вступила в Москву и в Петербург. Красная Армия разбита. Спасите свою жизнь и сдавайтесь в плен. Немецкое командование немедленно обеспечит вас протезами и хорошим питанием».
Но на эти призывы из окопов все так же отвечали огнем, который, впрочем, слабел с каждым часом. Сопротивление прекратилось, когда почти все защитники «галерки» были убиты. Всего несколько «безногих солдат Оржицы», едва живых, лишившихся сознания, попало в плен.
Заслуживают большого внимания также воспоминания Александра Ивановича Полехина (уроженца г. Юрьев-Польский, Ивановской области) в г. Мозырь, Гомельской области в 1971 году, бывшего начальника штаба, а затем (после гибели командира) командира 507-го отдельного инженерно-строительного батальона. На путях отступления к его подразделению присоединилась группа красноармейцев, все они были из Ивановской области: сержант Николай Виноградов из Комсомольска, Сергей Антипов из Юрьевецкого района, Василий Петров из города Наволоки, Иван Андреев из Родников и Николай Федоров из Заволжского. Все прибывшие солдаты были зачислены Полехиным в состав батальона. Командиром отделения назначен сержант Виноградов.
В последующих боях эти ребята показали себя храбрыми и стойкими бойцами. Особенно отличились храбростью Сергей Антипов и Василий Петров. Полехин отмечает, что особенно отличились ивановцы в четырехдневных боях в городе Оржица Полтавской области, где его батальон попал в окружение.
С другого рассказа бывшего командира 507 отдельного инженерно-строительного батальона А. И. Полехина узнаем, что они шли на Восток. Однажды он встретил двух солдат без шинелей, в одних гимнастерках, измученных, грязных. Они стояли перед ним, крепко сжимая оружие. Эти двое шли от самой границы, шли болотами, лесными тропами. Их звали Алексей Данилов и Иван Герасимов. Он направил их в отделение сержанта Михайлова. С боями они отступали на Украину. Особенно запомнились четырехдневные бои у поселка Оржицы Полтавской области. Здесь батальон попал в окружение. С 19 по 23 сентября 1941 велись тяжелые бои.
Детальное изучение воспоминаний А. И. Полехина выявило также два варианта описания заключительного боя.
Вот первый вариант воспоминаний А. И. Полехина.
«Шли ожесточенные бои. Они шли днем и ночью. Гитлеровцы непрерывно обстреливали городок из пушек и минометов. От разрывов снарядов и мин было темно, все горело. Отделение Виноградова обороняло высоту западнее Оржицы. Это было важным направлением. Враг обрушил на горстку смельчаков пушечный и минометный огонь. Под прикрытием танков пехота противника пошла в атаку. Антипов и Петров открыли ураганный огонь из пулемета. Осколком наповал был убит командир отделения Виноградов.
Командование отделением принял Павел Чернецов. Фашисты дорого заплатили за смерть Виноградова. Враг не выдержал, откатился назад. Гитлеровцы оставили на поле боя около сотни своих солдат. Был взорван фашистский танк.
Перед вечером гитлеровцы снова пошли на штурм наших позиций. В неравной схватке были убиты Андреев и Федоров. В отделении осталось всего три человека – Чернецов, Антипов и Петров. Огнем из пулемета они продолжали бить фашистов. Гитлеровцы лезли напролом, ворвались в наши траншеи, завязалась ожесточенная схватка. Был убит Сергей Антипов. Оставшихся смельчаков Чернецова и Петрова фашисты хотели захватить живыми. Тогда друзья встали во весь свой рост и пошли навстречу фашистам. Со словами «Умрем за Родину, но не сдадимся!» они гранатами подорвали себя и более десяти гитлеровцев.
Кто остался жив – отступили к реке. Собрав остатки батальона, А. И. Полехин принял решение – прорвать кольцо вражеского окружения. Ночью они пошли на прорыв. Утром вырвались из кольца окружения. Похоронить погибших товарищей они не смогли».
Второй вариант воспоминаний А. И. Полехина.
«Группа М. И. Михайлова из 20 человек заняла оборону западнее Оржицы. Противник поливал смельчаков шквалом огня, уничтожая все живое. Но когда фашисты поднимались в атаку, оживали полуразрушенные дома, по врагу открывался бешеный огонь. Фашисты отступили назад, оставив убитых.
Сильнее всего бой разгорелся 22 сентября. Утром враг бросил свежие силы. Пехота шла в атаку под прикрытием танков. Но и это наступление врага было отбито. Вечером бой завязался снова. В группе погибло более половины бойцов.
Фашисты ворвались в траншеи. Начался рукопашный бой. Именно в этот вечер погибли смертью храбрых пулеметчики Алеша Данилов и Ваня Герасимов. 10 рядовых молодых бойцов с сержантом М. И. Михайловим стояли насмерть на подступах к высоткам Оржицкого плацдарма. И когда остались Саша Котов и Коля Ласточкин, они раненые, поднялись в полный рост перед сотней гитлеровцев и со словами: «Умрем за родную Отчизну!» взорвали гранатой себя и одиннадцать фашистов.
Силы были неравными. Бойцы батальона, оставшиеся в живых, начали отходить. Собрав остатки подразделения, Полехин принял решение прорвать вражеское окружение. Пользуясь ночной темнотой, повел бойцов на прорыв. Ценой больших потерь к утру 23 сентября они выполнили поставленную задачу. В жестоких боях за Оржицу много солдат его батальона отдали свою жизнь. Сам Полехин был ранен в руку. Похоронить погибших товарищей им не удалось».
Оснований не верить Александру Ивановичу Полехину у нас нет, но который из его рассказов верен? Или они верны оба?
Немецкий мемуарист В. Вертен:
«На р. Оржице, на участке 24-й пехотной дивизии, русские согнали в одно место несколько тысяч автомашин и подожгли их. Черный дым поднимался к небосводу целыми днями. В кукурузных полях многие российские солдат покончили с собой, предпочитая смерть плену».
Вечером 22 сентября: поступил приказ подорвать орудия и выходить из этого огневого кольца группами по 25 человек.
И настал день, когда кольцо сжалось до предела, в Оржице уже не было наших войск: все, кто мог ходить, даже легкораненые, пошли на прорыв.
Из наградного листа Купаляна Цолака Карповича, разведчика взвода пешей разведки 691-го сп 383-й сд (о 306-м сп 62-й сд):
«Тов. Купалян в сентябре 1941 г. замещал убитого комиссара и выбывшего из строя командира 306-го сп 62-й сд, полк имел задачу овладеть левым берегом р. Оржица, привести переправу и обеспечить отход наших частей. Противник неоднократными контратаками пытался овладеть переправой, что ему впоследствии и удалось. 306-й сп совместно с остатками 123-го и 104-го сп 62–й сд в рукопашных боях потерял свои людские силы, людей в полку не осталось, охраняющие боевые знамена частей дивизии были убиты, тогда т. Купалян сняв с древка боевые знамена и взяв с собой ордена, грамоту Верховного Совета СССР и орденскую книжку закопал их в землю, а сам находился в окружении до января месяца 1943.
По выходе из окружения т. Купалян командованием 691-го сп был командирован в Полтавскую область для доставки в часть закопанных ним боевых знамен, орденов и документов 62-й Краснознаменной сд. 18 октября 1943 т. Купалян доставил и сдал начальнику политотдела 56-й А Боевое Красное знамя 62-й сд, боевое знамя 306-го Краснознаменного сп, орден Трудового Красного Знамени 62-й сд, орден Боевого Красного знамени 306-го сп, грамоту Верховного Совета СССР о награждении 306-го сп и орденскую книжку. За спасение боевых флагов, орденов и документов 62-й Краснознаменной сд и проявленные при этом мужество и отвагу т. Купалян достоен награждения орденом Красного Знамени».
В. Вертен:
«Утром 22 сентября окруженые еще раз попытались вырваться из котла южнее Остаповки, их встретил заградительный огонь батареи пушек. Однако вечером, со второй попытки, им удалось прорваться».
22 сентября удалось прорвать немецкую оборону у населенного пункта Остаповка. Войска армии начали выходить из окружения. Но вышли только боевые части, в том числе и командующий армией Костенко вместе со штабом. Все обозы и тысячи раненых остались в Оржице. Бои в этом районе продолжались до 24 сентября.
Это первое упоминание о выходе из окружения командующего 26 А генерала Костенко Ф. Я. – 22 сентября 1941 года в районе села Остаповки.
В ночь на 22 сентября подполковник Д. К. Бурков собрал вокруг себя бойцов штабной батареи и вместе с ними стал выходить из окружения. Вскоре к ним присоединился полковник Д. М. Дорошков со своим взводом. Сохранить единство не получилось, и во время движения разбились на группы по 5–7 человек.
Около г. Лубны подполковник К. Д. Бурков выслал разведку, от которой вскоре узнал, что никаких советских войск ни в городе, ни около него нет. Повсюду немецкие солдаты, а в самих Лубнах располагается лагерь военнопленных. Сначала подполковник решил идти на восток, но вскоре убедился, что фронт ему не догнать, и решил вернуться в Киев и влиться в его оборону. О том, что Киев сдан противнику, он ничего не знал. Однако и этому желанию не суждено было сбыться: группа подполковника К. Д. Буркова на хут. Созонтов 1 октября была задержана немецкими самокатчиками, и всех отправили в лагерь военнопленных в г. Хорол.
К 22 сентября в районе Оржицы сосредоточились многочисленные медицинские учреждения, как армии, так и фронта, в частности ПЭП-78, ИГ-2193, СЭО-45, а также различные госпитали и медсанбаты подчиненных корпусов и дивизий. В них находилось несколько тысяч раненых. Большинство врачей и медсестер, даже имея возможность спастись лично, приняли решение остаться в окружении и разделить судьбу своих подопечных.
К этому времени единое командование окруженной группировкой было уже утеряно. Основная группировка сосредоточилась в Оржице для прорыва.
Обращаю внимание, что часто, говоря о т.н. «Оржицком котле», путают события и места, а именно – Оржицу Гребенковского района и собственно – Оржицу. Хотя, справедливости ради, следует заметить, что оба этих населенных пункта находяться на берегах одноименной реки и оба стали в сентябре 1941 года ареной ожесточенных боев.
Утром 22.09.1941 года, пробившись через немецкие заслоны, в Оржицу прибыли остатки трех дивизий кавгруппы комбрига А. Б. Борисова. Генерал Ф. Я. Костенко поставил их на рубеж у с. Онишки с задачей прикрывать переправу через р. Оржица. Здесь, совместно с частями 97-й дивизии конники вели бой, стараясь оттеснить противника от переправы. Однако вскоре немцы получили подкрепление, и советские войска перешли к обороне. К исходу дня плацдарм за р. Оржица удалось удержать. Противник, по подсчетам бойцов, потерял до двух рот пехоты и четыре танка. В боях под Оржицей была потеряна последняя артиллерия: в единственной оставшейся батарее 32-й кавдивизии выбыли из строя все четыре орудия.
Бои под Оржицей шли весь день. В. С. Михин вспоминал:
«…мы отступили. Немец опять загнал нас в село Оржица. Перешел в контратаку. Зашел к нам в тыл, кругом рвутся снаряды. Горят автомашины. Много убитых и раненых.
К 18.00 немец так сжал в кольцо, что нам деваться было некуда. Генерал-майор был тяжело ранен. Произошла паника, большинство бросилось спасать каждый сам себя».
Это последнее имеющееся упоминание о генерале А. Н. Смирнове. По настоящее время он числится пропавшим без вести.
На совещании комсостава в 21.00 было принято решение о возобновлении попыток форсировать реку. Но в это время заместитель начальника оперативного отдела майор А. К. Блажей сообщил, что противник ворвался на восточную окраину Оржицы и поджег ее. Понимая, что промедление может привести к потере управления и уничтожению остатков армии, Ф. Я. Костенко вызвал к себе комбрига А. Б. Борисова и приказал его кавгруппе нанести контрудар по немцам.
Под прикрытием конницы управлению 26-й армии удалось пробиться к дамбе через реку и успешно ее форсировать.
В дальнейшем штаб армии благополучно вышел из кольца в полосе 5-го кавалерийского корпуса. Вместе с генералом Ф. Я. Костенко вышли бригадный комиссар Д. Е. Колесников и полковой комиссар И. В. Заковоротний.
За вывод из окружения штаба 26-й армии комбриг А. Б. Борисов по представлению генерала Ф. Я. Костенко был награжден орденом Красного Знамени.
Но этот прорыв оказался спонтанным, неподготовленным, и о том, чтобы вывести остальные части, никто не позаботился. Поэтому, оборонявшиеся в районе с. Оржица полки и дивизии никаких указаний или приказов на прорыв не получили и продолжали удерживать свои позиции. Они так и оставались в окружении после того, как командование армии ушло на восток. Предоставленные самим себе, они в дальнейшем пробивались и выходили из кольца самостоятельно.
Так, уже вечером 22 сентября с наступлением сумерек до 1 тыс. человек под командованием командира 41-го артполка майора И. К. Сидорчука совершили удачный прорыв северо-восточнее с. Онишки. К утру 23 сентября они достигли с. Михновцы и здесь разбились на группы.
Дезорганизацией управления поспешил воспользоваться противник, начался артиллерийско-минометный обстрел, усилился нажим пехотой. В боях 22 сентября погиб командир 136-го полка 97-й дивизии капитан К. М. Палиашвили, во время обстрела был тяжело ранен и впоследствии умер военком 41-го артиллерийского полка батальонный комиссар Г. Ф. Игнатенко.
Ночь с 21-го на 22-е сентября прошла для немецких войск сравнительно спокойно. За предшествующие сутки соединения XI корпуса еще более приблизились к Оржице, до которой оставалось уже всего 10 км. Немцы понимали, что наступила критическая фаза всего сражения. В самые ближайшие часы будет решена судьба 26-й армии – она или сумеет прорваться, или будет уничтожена. Поэтому они готовились к решающим боям.
В утренние часы под нажимом XI корпуса советские войска предприняли попытку прорыва южнее с. Остаповка. Дорогу им преградил огонь пулеметов и одной артиллерийской батареи. Вечером попытка повторилась большими силами, и она принесла успех.
Солдаты 1-го батальона 79-го пехотного полка 16-й танковой дивизии не выдержали удара, и через их позиции хлынула волна красноармейцев, сметая все на своем пути.
Советская конница появилась в тылу боевой группы Вагнера, и немцам пришлось торопливо разворачивать свои орудия, чтобы отбить атаку. Однако удержаться и здесь не получилось. Под удар попал штаб 1-го батальона, и его командованию чудом удалось избежать уничтожения. Связь с вышестоящими штабами оказалась прерванной, и несколько часов никто в дивизии ничего не знал о произошедшем. Несмотря на все усилия, локализовать прорыв немцам не удалось.
Несколько ночных попыток прорыва выдержали солдаты 125-й дивизии.
Успешно отразили все атаки 420-й полк и боевая группа майора Р. Шмидта. На участке последней оказались уничтоженными 14 грузовых автомашин.
В 10.00 части 125-й дивизии перешли в наступление, нанося основной удар с юга в направлении с. Денисовка. Тут, буквально через полчаса после начала атаки, они попали под сосредоточенный артиллерийский обстрел. Как выяснилось, огонь вели солдаты 16-й танковой дивизии, которые, видимо, сочли немецкую атаку за советскую. Командир 125-й дивизии немедленно доложил о произошедшем в штаб XI корпуса. Он попросил доложить в 16-ю танковую, что южнее с. Денисовка и на южном берегу р. Оржица уже находятся немецкие войска. Просьба была выполнена.
Около полудня в тяжелые бои с прорывавшимися из окружения советскими частями вступил 419-й полк. Одним из первых в 11.20 был атакован разведывательный батальон, действовавший на правом фланге. Против него, по немецким оценкам, действовал целый советский стрелковый полк. Уже через 30 минут весь правый фланг 125-й дивизии оказался скован боем и не мог сдвинуться вперед ни на шаг. Артиллерийскую поддержку пехоте, зачастую прямой наводкой, оказывали орудия 3-го и 4-го дивизионов 125-го артполка. Бой прекратился только в 14.30.
В 12.55 от XI корпуса поступило новое распоряжение, уточнившее задачи 125-й дивизии. По словам начальника штаба, соединения корпуса помимо основной должны образовать дополнительную тыловую оборонительную линию, главной задачей которой является отлов советских бойцов и командиров, которым посчастливится прорваться из окружения за линию фронта. Солдатам 125-й дивизии предписывалось создать такую позицию по линии от северной окраины с. Крестителево до северной окраины с. Ивановка.
В результате между 419-м полком и боевой группой майора Р. Шмидта образовался разрыв. Командир дивизии, за неимением иных резервов, решил закрыть его 73-м саперным батальоном. Однако, вовремя прибыть на место тот не успел.
Командиры окруженных, каким-то образом установив, что немецкие части действуют в отрыве друг от друга, атаковали с. Зарожье. Здесь находилось несколько десятков немецких пехотинцев, саперов и артиллеристов. Общее командование ими взял на себя хауптман Розевич, командир 1-й батареи 125-го противотанкового дивизиона. К 16.00 все попытки прорыва через с. Зарожье были отражены с большими потерями для атаковавших.
Во второй половине дня 420-й полк вышел на юго-восточную окраину с. Шаблиев и занял группу домов вокруг ветряной мельницы неподалеку от с. Чмыхалов. Перешедшие в наступление солдаты 419-го полка ворвались на южную окраину с. Денисовка. Командир дивизии приказал здесь закрепиться, а все свободные силы направить на прикрытие разрыва с боевой группой майора Р. Шмидта, так как там по-прежнему сохранялась угроза прорыва.
Уже в сумерках в штаб соединения поступил доклад от командира 421-го полка. Его солдаты заняли с. Плехов, захватив при этом 10 000 пленных и, в качестве трофея, – Боевое знамя 212-го гаубичного артполка (первоначально он входил в состав 87-й стрелковой дивизии). Еще 5000 красноармейцев сдались в плен перед 420-м полком в с. Денисовка. Всего за день, по подсчетам штаба 125-й дивизии, в плен попали 20 250 чел. В целом кольцо окружения еще более сузилось и угроза прорыва из него – уменьшилась. В ближайшие три-четыре дня оно будет уничтожено. Поэтому теперь 466-й полк можно вывести из состава 125-й дивизии.
Быстрое сужение кольца окружения привело к негативным последствиям не только для советских, но и для немецких войск.
Так, в районе с. Круподеренцы сгрудились 1-й батальон 327-го и 444-й полк 239-й дивизии, а также 512-й полк 293-й дивизии.
Остальные силы 327-го полка ночью вышли к с. Денисовка, однако из-за плохих карт немцы неверно определили свое место, что чуть не привело к большим неприятностям.
К утру немецкое командование представляло себе ситуацию так. Окружение фактически состоит из двух больших группировок войск. Первая из них сосредоточена вокруг с. Денисовка, вторая – у с. Оржица и в лесах неподалеку. Против последней как раз действовали 125-я и 24-я пехотные дивизии, препятствуя прорывам окруженцев в южном направлении.
Когда утром 421-й полк занял с. Плехов, то в то же время три полка соединения генерала Х. фон Теттау нанесли концентрический удар по советской обороне в районе с. Оржица. Справа наступал 32-й полк, в центре – 102-й, а слева – 31-й, нанося одновременный удар с юга и запада.
Вскоре штурмовые группы ворвались на окраины и захватили первые дома в населенном пункте. Красноармейцы, несмотря ни на что, оказывали стойкое сопротивление, и каждый метр продвижения стоил противнику больших усилий и значительных жертв. Чтобы уничтожить одну из окруженных групп, пришлось применить огнеметы 5-й роты 102-го полка.
Вполне возможно, что именно об этой группе рассказывал в своих воспоминаниях Александр Иванович Полехин.
Однако к вечеру село оказалось в немецких руках. Остатки оборонявшейся группировки уже в сумерках предприняли последнюю отчаянную попытку вырваться из кольца и бросились через мост в северной части села на позиции 16-й танковой дивизии. Атаку немцы отбили.
Если немцы отбили атаку, то где же прорвалась из окружения кавгруппа?
Количество пленных, захваченных в районе с. Оржица, исчислялось тысячами, один только 421-й полк доложил о пленении почти 10 000 бойцов и командиров. Приказом командира XI корпуса генерала Коха был сформирован сборный пункт военнопленных в с. Крестителево.
Окончание боев за с. Оржица запомнилось командиру 24-й пехотной дивизии генералу Х. фон Теттау в следующих красках: «Густые столбы дыма вздымались над огромными пожарами… Наносивший удар на главном направлении 31-й полк пробился к дамбе с мостом по эту сторону деревни и протянул там руку танкистам-камрадам, когда уже ночь опустилась на ужасающую картину разгрома. Она превосходила самые фантастические представления об аде: хаос автомашин и гужевых повозок, орудий и лошадей, раненых и убитых, и все это посреди моря огня и дыма, в котором вплоть до самой ночи шли бои за каждый дом. Толпами выскакивали чуть не умирающие с голоду советские солдаты из домов, окопов и укрытий и покорно отправлялись в тыл. Их сбор, охрана и снабжение стали настоящей головной болью для сильно потрепанных частей и ответственных работников штабов».
Ночью, на участке обороны 327-го полка немецкой 329-й дивизии вновь разгорелись бои. Окруженные части 26-й армии все еще, надеясь на удачу, предпринимали последние отчаянные попытки вырваться из кольца. Для их отражения пришлось бросить на передовую всех солдат, включая саперов, связистов и писарей. Даже штаб 327-го полка в критические моменты вступал в бой. При отражении одной из атак погиб командир 2-го батальона, служебный автомобиль командира 327-го полка был расстрелян и сожжен.
Только к 9.00 бой прекратился, и в 10.00 немецкие батальоны смогли возобновить наступление. После короткого боя солдаты 444-го полка заняли с. Круподеренцы, а солдаты 327-го, продвинувшись всего на несколько сот метров, вновь попали под контратаку. Она началась с мощной артиллерийской подготовки, которая заставила немцев залечь прямо в поле. Как только обстрел прекратился, батальоны 327-го полка оказались атакованы с трех направлений.
Требовалось немедленно оказать им поддержку, в том числе артиллерией. В самый ответственный момент по какому-то недоразумению, видимо, из-за неверно отданного донесения, в штабе XI корпуса решили, что советские орудия ведут обстрел 327-го полка с огневых позиций у с. Круподеренцы и именно оттуда следуют контратаки красноармейцев. Однако по имевшимся в штабе данным, подтвержденным армейским командованием, в селе находились немецкие войска. На повторный запрос командир 327-го полка вновь ответил, что его солдаты находятся под обстрелом и отражают атаки со стороны с. Круподеренцы. Командиры штаба XI корпуса вновь пришли к выводу, что в селе советские войска. Следовательно, требуется нанести по ним огневой удар.
Тут в штаб поступил доклад от наблюдательного поста 293-й дивизии о том, что он разместился в церкви с. Круподеренцы. В головах немецких штабистов все перемешалось: по всему выходило, что в селе одновременно находятся и советские, и немецкие войска. Но почему они не ведут бой друг с другом и как в таких условиях красноармейцы умудряются атаковать 327-й полк? На эти вопросы не было ответов, и командир XI корпуса приказал отложить артиллерийский обстрел с. Круподеренцы, чтобы не задеть своих. Однако орудия уже успели сделать два залпа, правда, никого не задев.
Чтобы разобраться в ситуации, пришлось еще раз запрашивать командование 444-го и 327-го полков, а также штаб 293-й дивизии о местоположении частей.
Выяснилось, что действительно с. Круподеренцы занято немецкими войсками и никаких красноармейцев там нет, а 327-й полк находится под с. Денисовка. Виноватым оказался его командир, который по какой-то причине решил, что перед ним находится с. Круподеренцы.
Как только положение прояснилось, солдаты 329-й дивизии смогли возобновить наступление. От взятия с. Денисовка отказались, предоставив его 125-й дивизии.
Батальоны 327-го полка отвели влево и поставили их северо-западнее напротив с. Савинцы. На этом участие 239-й дивизии в уничтожении Оржицкого котла в основном завершилось. Теперь ее основной задачей являлась зачистка, сбор и классификация трофеев. Для ее проведения соединению придали 477-й полк из состава 257-й дивизии.
Корпусное командование напоследок удивило непонятно для чего необходимым отчетом. Оно потребовало рассчитать количество дней с даты форсирования р. Буг, проведенных на маршах и в боях, и количество пройденных километров. Получилось, что из 36 дней солдаты 239-й дивизии 33 дня провели на марше или в бою, преодолев за это время 500 км.
Возможно, форма отчета была спровоцирована приказом штаба 1-й танковой группы, поступившим вечером 22 сентября. Он предписывал войскам XI корпуса силами одной дивизии принять на себя зону ответственности 16-й моторизованной дивизии XXXXVIII корпуса у г. Лубны, войска которой теперь выводились из боя. Одним из обоснований для такого решения стало утверждение, что танковые и моторизованные части после прорыва советской обороны 12 сентября прошли с боями почти 500 км, не имея ни дня для отдыха.



