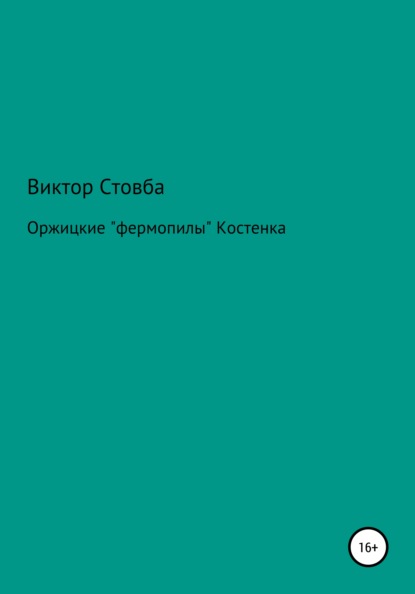 Полная версия
Полная версияОржицкие «фермопилы» Костенка
Хотя никто в отряде не знал точной обстановки, никто не знал, что отборные полки мотопехоты прибыли к немцам, что крупные танковые части атакуют Оржицу, что у своей артиллерии не хватает снарядов, что колонны, успевшие переправиться, погибли от огнеметов или попали в плен, хотя этого никто на передовой линии обороны не знал, но древний инстинкт подсказывал каждому: его армия проигрывает битву. От этого чувства нельзя было ни отмахнуться, ни отвлечься. Оно тревожило устойчивых, сбивало с толку уверенных, делало наглыми тайных врагов, а трусов делало трусливыми вдвойне.
Красноармейцы грубо разговаривали, выливали злобу на службе снабжения, даже чехлов на гранаты НЕ напаслись. Другие недобрым словом вспоминали командование фронтом. Где авиация… хотя бы какой-то истребитель прилетел. И длинная, вполголоса, ругань. В нее красноармейцы вкладывали всю нерастраченную ярость. Опять вопрос, опять ругань. Разрыв. Стон. Ругань. Разрыв. Шум кукурузы и вдруг кричат, что их обходят танки.
Отряд отошел назад… У реки на холме низкорослый, с перевязанной рукой генерал провожал отступающих солдат насмешливой бранью. Командующий Пятой армией (?), теперь почти лишенный армии, он во сто крат лучше, чем бойцы, знал, что бой проигран. Прорыв не удался. Для победы не хватило пушек, танков, снарядов, организации. Оставалось только драться, надеясь на чудо. Генерал не верил в чудеса. Ярость охватила его. Он забыл, что может приказывать, или сейчас не верил в силу приказа и угрожал отступающим маленьким кулаком левой руки. На нем сверкали нашивки. Генерал был в полной парадной форме. Он забыл об этом. Он кричал бойцам как советский человек советским людям, как своей ровне и товарищам. И многие невольно сдерживали шаг. Останавливались. Окапывались рядом с артиллеристами, залегали в выбоинах под холмом».
То, что переправой руководил командующий 5-й А генерал Потапов практически невозможно, так как он попал в плен в районе гибели штаба ЮЗФ. А вот то, что управлять переправой мог кто-то из других пехотных генералов (например – Смирнов) или раненый (или получивший там ранение согласно другим данным) комдив 32-й кд полковник О. И. Бацкилевич более достоверно.
«Дальше все произошло молниеносно. Серые машины с ревом вырвались из леса. Воздух засвистел над головой. Близко, звонко ударили пушки. Ударили еще и еще. Среди машин взлетели комья земли. Передняя, подпрыгнув, остановилась, задрав гусеницы. Другая рядом закружилась на месте, как придавленный жук. Опять взлетела земля – там, у танков, и здесь, между бойцами. Черные фигурки выскакивали из подбитых машин, мелькали в дыму, бежали в лес, а наши солдаты стреляли по танкистам.
Затем сразу стало тихо. На опушке серело восемь неподвижных, искалеченных стальных коробок. Из других валил дым. Отбили! Их было штук тридцать. Радостно кричал с холма генерал, так и не покинув его, благодаря артиллеристам. Из леса катились клубы дыма. Танки горели, как нефтяные цистерны. Вид разбитых, недавно еще грозных машин наполнял такой радостью, что всем хотелось вскочить, замахать фуражками, закричать: «Ура!»
Раненые доковыляли к оржицким окрестностям. Врач расположенного в школе переполненного госпиталя поспешно делал перевязки, пытливо заглядывая в лицо прибывшим с первой линии. Ну как там? Прорвемся? Бойцы понимали, что тревога распространилась и в Оржице, что всем хочется услышать хорошие вести».
Вспоминает бывший военный фельдшер эвакуационно-транспортного взвода 173 мсб 117 сд старший военфельдшер Волкова (Кузьмина) Александра Егоровна:
«… связи не было, и больше защищаться нечем было, и переправились (назад) вплавь через эту р. Оржицу. Они с Наташей мокрые, нашли свою душевую машину, залезли переодеться, там сидит врач Свиридов, он тоже из 173 мсб и из Куйбышева. Они с Наташей переоделись, вышли из машины. Еще Свиридов их не пускал, сидите, говорит, мне цыганка, говорит, нагадала, что должен жить 75 лет, так что сидите возле меня, останетесь живы…
Но им не сиделось. Вышли, и их забрали. Наташу отправили на переправу, а ее (Волкову), на гору в сарай плетеный большой, там раненые, и ее направили в этот сарай. В сарае было много раненых на носилках и ходячих, и медработники были, только незнакомые, не из их медсанбата, все евреи были. Угол сарая был занят материалом и бинтами. Они прятались за угол от пуль. Раненые ругались, просили помочь. Волкова тоже сказала им: «Что вы как сумасшедшие бегаете, нужно оказывать помощь».
Лежа оказывали помощь, потому что свистели пули. Заходит какой-то в кожаном пальто, и евреи все бросились к нему, по своему стали говорить. Он выслушал их и потом ответил по-русски.
Все идите в городскую поликлинику, там принимают и будут возить раненых туда, а вы, он Волковой сказал, останетесь здесь, отправите всех раненых и материалы и последней машиной приедете сами туда. Она всех раненых отправила, остались материалы, и никто не идет по материалы. Волкова одна очень боялась (здесь) находиться. Она села за столб, который стоял посреди сарая и сидит или лежит (прячась) от пуль.
Заходит старший лейтенант, представил себя, он тоже из медсанбата, он кадровый старший военфельдшер из Куйбышева, и он ей сказал, вот машина с ранеными, иди, езжай в поликлинику. Волкова села в кабину, немного отъехала, попросила, чтобы остановили машину, и она слезла, и пошла искать своих. Волкова уже не нашла Наташу и никого из своего взвода. Нашла врача, или фамилия Семенов, или имя Семен. Он говорит, что нужно идти, а они как раз сидели где-то на горе, недалеко от них взорвали машину бензина и сожгли бумаги из штабной машины. Пепел бумажный летел на них. Они к вечеру пошли к переправе, перешли и шли дотемна…».
Многие военнослужащие 173 мсб медсанбата, врачи и медсестры, попали в плен. Это и заведующий лабораторией Свиридов А. С., и командир медроты, военврач 3 ранга Масленников Борис Михайлович.
По роману Г.Л.Занадворнова:
«…убежищем многих бойцов в последнюю оржицкую ночь стали брошенные дома. Война неожиданно ворвалась в квартиры, хозяева бежали поспешно, набив чемоданы самым ценным. Кажется, двери только что закрылись за ними.
Вечер в чужих разбросанных домах в осажденной Оржице надолго, если не навсегда запомнится тем бойцам, которым удастся выжить. Они прислушивались, где ложатся снаряды, хотя враг был близко, но этот вечер дышал тем уютом, которого давно они были лишены. Как хорошо, что на свете много хороших товарищей. Как хорошо будет потом, после войны, встретиться снова, зная, что ты тоже кое-что сделал для победы. Вспомнить Оржицу, бой за переправу, этот последний вечер. Они собирались жить, побеждать, обязательно встретиться, скоро встретиться».
Командир кавгруппы Борисов в своем рапорте докладывал, что 22 и 23.09 кавгруппа с большими потерями вела, совместно с 97-й сд, сначала наступательный бой, отбрасывая противника на север и северо-восток, а затем, с подходом к противнику танков (до 30 штук на участке группы), перешла к обороне, не допуская выхода противника на мост Онишки-Оржица.
У противника было уничтожено 4 танка и до двух рот пехоты. В бою под Оржицей батарея 32-й кд в течение 2-х дней, ведя огонь по противнику, потеряла все 4 орудия и конский состав.
Техник 2-го ранга из 3-го танкового эскадрона 18 тп 32-й кд Романов Виктор Андреевич, где командиром был лейтенант Силецкий, рассказывал, что личный состав его 18-го танкового полка после долгого неуправляемого блуждания в окружении с остатком сил (личный состав тыла и танкисты без танков) в гуще передвигающихся войск (в основном без боеприпасов), сосредоточился в районном центре Оржица, где намечался прорыв окруженной группировки.
Остаток сил полка действовал в составе 32-й кд, и в районе Оржицы без танков вел бои в окружении, затем с боями выходил из окружения в составе 32-й кд.
Романов В. А. сохранил личный состав ремонтной мастерской и автомобиль-мастерскую на шасси автомобиля ГАЗ-АА – с двумя ведущими задними мостами. Прибыв в райцентр Оржица, он оставил автомобиль на окраине, а сам пошел узнавать обстановку. Районный центр и прилегающая к нему местность была забита автомобилями, тягачами с пушками и другой техникой, танков не было.
На окраине Оржицы, на некотором удалении, организованные части вели длительные бои с немцами – подвижную оборону вела в основном пехота и другие части с легким оружием. На окраине Оржицы протекает река Оржица небольшой ширины – метров 50—80, но глубокая.
На берегу по всей реке были установлены пулеметы, их задача – не давать переплывать реку солдатам или офицерам. Вели огонь на поражение лиц, пытавшихся переплыть р. Оржицу (обратно).
Опять свидетельство очевидца о наличии пулеметов за спинами своих же солдат и офицеров.
Он вспоминал, что немец находился недалеко от Оржицы, замкнув в кольцо крупную группировку наших войск, в окружение попали целые дивизии. Некоторые хитрецы бросали свои части, в т.ч. и командир их 18-го танкового полка с адъютантом оставили хоть и небольшой, но личный состав, прибывший в Оржицу. К тому же он (командир полка) успел обругать еще живого начальника штаба командира Панченко за то, что тот не вывел личный состав из окружения, а просидел с тылом в лесу.
Панченко парировал обвинения: «А где был приказ на отход тылов. Да и вы, как командир полка, виноваты в этом».
На этом они своего командира больше не видели, а Панченко через несколько дней был убит в окопе снарядом в нескольких метрах от Романова (5—10 м).
Смирнов Павел Иванович 1905 г. р., майор, командир 18-го тп 32 кд, пропал без вести 21.09.1941 Украинская ССР, Полтавская обл., Оржицкий р-н, с. Оржица.
Панченко Федор Иванович (1905—22.09.1941) капитан, начальник штаба 18-го тп 32 кд, убит в с. Оржице.
Полковник Александр Иванович Бацкалевич, командир их 32-й кд был в Оржице, руководил вместе с пехотным генералом сооружением моста через реку Оржица. Кавалерийские полки дивизии вели подвижную оборону, сдерживая немецкие войска, которые интенсивно обстреливали населенный пункт Оржица.
Вполне очевидно, что Романов знал Бацкилевича в лицо, поэтому вряд ли мог его спутать с кем-то другим, так что факт нахождения его в районе моста через р. Оржица практически достоверен.
В общем, Оржица была местом побоища. Остатки наших войск с упорством сдерживали противника.
Вся округа (населенный пункт и окраины) были забиты автомашинами и пушками, все ждали постройки моста через реку Оржица. В строительстве моста через реку Романов со своей рембригадой также принимал участие: таскали бревна из разобранных домов. На мосту их командир Бацкилевич был тяжело ранен – оторвало руку. Романов вспоминает, что потом его вынес из окружения доброволец, бывший командир его танкового эскадрона лейтенант Силецкий. Забегая вперед, Романов рассказывает, что после войны О. И. Бацкалевич руководил конным заводом.
Получается, что Бацкилевич был ранен не в с. Белоусовке (как указывается в рапорте комбрига Борисова), а на мосту в Оржице.
Построив мост через реку Оржица, генерал собрал колонну автомобилей с тяжелоранеными и пустил их по мосту через реку на другой берег. Все ждали и желали удачи этой колонне. Однако этому не суждено было сбыться. Через некоторое время после переправы появились первые раненые из колонны, которые могли двигаться и сообщили, что колонну расстреляли немецкие танки с автоматчиками, которые засели на деревьях на противоположном берегу реки.
Эти факты почти буквально совпадают с воспоминаниями Мальцева о колонне с ранеными, расстрелянной немецкими танками под Искивцами.
В этой обстановке некоторые офицеры самовольно переплывали реку Оржица, чтобы не участвовать в обороне, а поставленные на берегу реки Оржица пулеметы били по ним. Группа офицеров высокого состава проходила с криками: «Кто останется в машине или окопе, будут расстреляны, всем в оборону» И они действительно расстреливали тех, кто прятался за машинами или в другом месте.
И снова – расстрелы… расстрелы… расстрелы…
Романов собрал свою рембригаду, они забрали пулеметы (которые экипажи снимали с подбитых танков и передавали ему в машину) и прибыли на помощь к пехотинцам и своим кавалеристам. Начали стрелять из пулеметов, отбили атаку немцев, дело шло уже к ночи. Участки обороны обнажились. Затем Романов увидел, что почти все покинули свои окопы и отошли. Он решил отвести своих людей в мастерскую. Мастерская была уже разбита артиллерийским снарядом.
По свидетельству немцев (В. Вертен – историк 16-й тд вермахта): « [Утро 22 сентября]. Жестокий встречный бой. Русские предпочитали быть застреленными в окопах, чем покинуть их. Но солдаты 16-й тд были не менее жесткие и решительные: они отбросили отчаянно атакующего противника и закрыли пробел в обороне».
Бывший военфельдшер 3 дивизиона 707 гап Самохвалов Василий Григорьевич вспоминает: «…в районе с. Оржицы непроходимое болото и разрушенная дамба. Именно дамба была пристреляна немцами из ближних высот, и это не давало им возможности навести мост. Эту дамбу или мостик наши части наводили, вернее, делали попытку навести в течение недели, но все безрезультатно».
Вспоминает бывший шофер штаба 117-й сд красноармеец Давыдов Георгий Васильевич, что:
«…из окружения, последнее 22 сентября в селе Оржица, он бежал, и всего сделал 4 побега и все же убежал…».
Вспоминает бывший командир саперной роты 240 сп младший политрук Наумов Степан Кузьмич, что:
«…днем 22 сентября бои в районе окружения прекратились. Их 240 стрелковый полк (117-й сд) с этого дня перестал существовать».
Вспоминает бывший красноармеец штаба 240 обс Першин Василий Фомич:
«…других командиров-офицеров перед концом окружения в Оржице больше не было видно, только был Костромитин, он хромал на ногу и плохо двигался… Они пытались выйти из окружения этими бесконечными приднепровскими болотами».
240 отдельный батальон связи, где он проходил службу: командир 240 обс – майор Грубов Д. Ф., начштаба – капитан Костромитин С., пом. начштаба – лейтенант Святенко П. А., замполит батальона – политрук Павлов М. В., командир штабной роты – лейтенант Пуха, командир телеграфной роты – лейтенант Антипин, командир радиовзвода – лейтенант Губин, политрук штабной роты – младший политрук Павлов В. И..
Вспоминает бывший военный фельдшер 3 дивизиона 707 гап Самохвалов Василий Григорьевич, что:
«…Оржицу захватили моточасти фашистов, и 22 сентября он попал в плен».
Из воспоминаний ветерана Ефимова Николая Ефимовича:
«13 сентября 1941 его ранило в бою и слегка контузило. Вытащив из поля боя, ему перевязали раны и забрали в село Оржица, где находился полевой госпиталь в здании средней школы. 22-го сентября немцы захватили это село, а его пленили».
Николай Васильевич Григорьев – в Великой Отечественной войне участвовал с первых дней в звании майора в должности начальника штаба 40-го кавполка 43-й кд, затем командира 38-го кавполка той же дивизии. В составе 1-й конной группы А. И. Городовикова участвовал в рейде по тылам противника. 20 сентября 1941 при возвращении из рейда в бою под поселком Оржица Полтавской области был ранен в лицо и в руку. 22 сентября 1941 попал в плен в госпитале.
Лев Николаевич Савинский, как начальник связи, должен был со связистами корректировать артиллерийский огонь полка в боевых условиях. С отходящим полком, на одной из стоянок получил он приказ ехать в разведку, а когда вернулся, то не застал его на месте. В подобной ситуации оказалось тогда немало офицеров. Из них сформировали ударный офицерский батальон, с которым пришлось отступать и Савинскому. Но в Оржице (Полтавская область) попали они в окружение. «…Нас обманули, сказав, что танковая дивизия идет на прорыв кольца». Три дня ждали они прихода советских танков, пока не дождались немецкого плена.
Одна из попыток прорыва 22 сентября была сравнительно успешной, поскольку острие удара было перенесено на 14 километров к северу от Оржицы вверх по течению реки.
Немцы говорят (В. Вертен):
«Утром 22 сентября 11-й армейский корпус (в сентябре 1941: 125-я пд, 239-я пд, 257- я пд) приблизился с юго-западного направления к Оржицкому участку на расстояние 10 км, все сильнее прижимая россиян к линиям 16-й тд (командир – генерал-лейтенант Ганс-Валентин Хубе (Hans-Valentin Hube) – 1.11.1940 – 15.09.1942).
Окруженные попытались еще раз вырваться из котла – южнее Остаповки. Их встретил заградительный огонь пушечной батареи. На участке батальона Воtа (I батальон 79-го стрелкового полка 16-й тд вермахта) им удалось ближе к вечеру прорваться во второй раз. Вот уже враждебная кавалерия оказалась в тылу боевой группы Вагнера, батареи развернули свои орудия на 180°. Атакующий казачий батальон прошел сквозь расположения штаба батальона Воtа; связь с полком оказалась потерянной».
Известно общепринятое утверждение, что 116-я сд была окружена в Оржицком котле. Достаточно устойчиво оборонялась, применяла энергичные попытки по выходу из окружения. Дважды пыталась форсировать р. Оржица. После этих боев в ней осталось не более батальона личного состава. В безрезультатных попытках прорвать оборону немцев войска потратили весь боезапас и топливо. Дивизия погибла в окружении в районе села Денисовка Оржицкого района Полтавской области 22—24 сентября 1941 года, а все, кто остался в живых, попали в плен.
Более вероятно, что на 22.09.1941 года 116-я сд уже завершила свое существование, часть личного состава погибла, а основная масса попала в плен.
По свидетельству лейтенанта Кузнецова Ф. Я., который приказом по 38-й А Юго-Западного фронта №019 был назначен командиром стрелкового взвода 172 стрелкового батальона 116-й сд:
«22 сентября 1941 его батальон находился в районе с. Денисовка, Оржицкого района. 22 число для него несчастливое, 22 июня началась война, ровно через месяц, день в день, он был ранен, а 22 сентября попал в плен.
Конечно, это совпадение, но роковое. Вместе с пленными, которых было несколько тысяч, их гнали вглубь Украины. Через каждые 5—10 метров лежали трупы. Чувствует, стал ослабевать, решил: все равно погибать, попытается совершить побег. Стал присматриваться. В концлагере было несколько тысяч военнопленных, охрана небольшая. Немцы после проверки отпускали белорусов и украинцев. Прежде чем вручить удостоверение, ставили на колени. Затем их снова ловили и отправляли в другие концлагеря. В удобный момент, когда часовой на вышке отвернулся, подлез под проволоку и скрылся за сорняком. Пробирался почти до Николаева через линию фронта. 31 декабря прибыл в Елец. Как и положено, прошел проверку».
Из воспоминаний старшего лейтенанта В. Т. Пуганова о попытках выхода из очередного окружения и его пленении узнаем, что:
«… в районе Оржицы, Полтавской области собралась большая группа окруженцев всех родов войск. Эти войска оказывали серьезное сопротивление гитлеровцам. Несколько дней велись активные боевые действия. Фашисты, подтянув свежие силы, перешли в наступление, усилив огонь артиллерии и минометов. Налет авиации окончательно рассеял их. Пуганов был контужен и получил тяжелые удары в области грудного отдела позвоночника, ему отказали ноги.
Сколько и где он бродил сказать не может, счет времени был потерян – прячась в разбитых домах, в полях, лесах и так далее.
Последний раз, уходя от немцев, они (Пуганов В. Т., Сергиевский В. А., Дементьев и Цуркан В. – все пензенцы) прятались в болоте с кочками среди посевов конопли. Там был болотистый участок, в который каратели не пошли. Они там спрятались, когда цепь прошла, выбрались на сухое место, глядя им в спины, и не заметили второй цепи, которая подошла сзади и пленила их. Они были уже полностью обессилены и больные, гноились раны. Это произошло 22 сентября 1941 возле села Денисовка, Оржицкого района Полтавской области».
Владимир Тихонович Пуганов, старший лейтенант в отставке, инвалид Великой Отечественной войны, проживавший в городе Пенза, бывший помощник начальника штаба 66-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии. После гибели начальника штаба 66-го сп он исполнял его обязанности. Оказавшись в окружении, с группой бойцов прикрывал переправу через Днепр и вышел в расположение штаба 21-й армии. С августа по сентябрь 1941 года – командир резерва при штабе 21-й армии. Автор статьи «Боевой путь и судьба 61-й Пензенской дивизии».
Красноармеец Военный Валентин Сергеевич, 1908 года рождения, уроженец г. Херсон, воевал в 75-й автотранспортной роте 116-й сд, попал в плен 22 сентября 1941 в селе Денисовка, погиб в плену 23.03.1944 года, похоронен в Нюрнберге.
Вот история одного из командиров полков 116-й сд – майора Чубарова.
В ходе многолетнего поиска фильтрационное дело Главного управления контрразведки «СМЕРШ» на бывшего командира 656-го стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии майора Чубарова Григория Ивановича, к сожалению, найти так и не удалось. На основании документов Российского Государственного Военного Архива и Центрального Архива Министерства Обороны России было известно, что майор Чубаров Г. И. родился в 1898 году в городе Кузнецк Пензенской области, в 1919 году добровольцем ушей в ряды Красной Армии.
После гражданской войны он продолжил военную службу и окончил пехотное училище и курсы усовершенствования командного состава. В 1940 году майор Чубаров Г. И. уже занимал должность командира батальона 548-го стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии; приказом Харьковского военного округа No 002 от 15 января 1940 года он был назначен на аналогичную должностьв 441-й стрелковый полк той же дивизии, а приказом 38-й армии Юго-Западного фронта No 018 от 6 сентября 1941 года назначен командиром 656-го стрелкового полка. Приказом Главного управления кадров НКО No 02828 от 9 ноября 1945 года майор Чубаров Г. И. был исключен из списков офицерского состава как пропавший безвести в октябре1941 года.
На основании трофейной немецкой карточки на советского военнопленного стало известно, что командир 656-гострелкового полка 116-й стрелковой дивизии майор Чубаров Г. И. попал в неметкий плен 24 сентября 1941 года в районе села Малоселецкое Оржицкого района Полтавской области.
Находился он в неметких лагерях для советских военнопленных во Владимир-Волынском, в немецком лагере 2В (Хаммерштайн), где омел личный лагерный номер No 121134, с 9 сентября 1943 года – в немецком лагере 13Д (первоначально – офлаг 62), где омел другой личный лагерный номер No 11807; с 20 сентября того же года – в Норвегии на острове Неро, где находился неметкий лагерь Верги.
На основании материалов Управления по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупированных ею стран известно, что после освобождения из неметкого плена бывшие заключенные неметкого лагеря Верги еще оставались в Норвегии. 20 мая 1945 года была роздана комиссия по учету офицерского и рядового состава Красной Армии, погиблих в немецком плену.
Данная комиссия проводила опрос бувших советских военнопленных и 27 мая того же года составила «Книгу погиблих товарищей в фашистском плену». Бывший командир 656-го стрелкового полка и советский военнопленный майор Чубаров Г. И. перечислил членам комиссии фамилии погибших офицеров 116-й стрелковой дивизии:
Майор Авдейчик Владимир Васильевич, начальник инженерной службы 116-й стрелковой дивизии, умер в плену в декабре 1941 года;
Капитан Бойко Василий Степанович, начальник 3-го отдела штаба 116-й стрелковой дивизии, в июне 1942 года был расстрелян в немецком лагерне во Владимир-Волынском;
Капитан Шабаров Иван Васильевич, начальник штаба батальона 656-го стрелкового полка, умер от голода в феврале 1942 года в немецком лагерне во Владимир-Волынском.
В августе 1945 года бувший советский военнопленный Чубаров Г. И. прибыл в Московский военный округ, где проходил государственную проверку в 33-й запасной стрелковой дивизии. В государственном архиве Пензенской области хранится регистрационная фильтрационная карточка, на основании которой известно, что решением фильтрационногоо органа Чубаров Г. И. был арестован 11 апреля 1946 года и переведен в заключение. Умер командир 656-го стрелкового полка погибшей 116-й стрелковой дивизии в 1963 году.
Трофейные немецкие карточки на советских военнопленных содержат ценные сведения о трагической гибели многих воинских соединений Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны. На основании данных карточек можно установить, когда и где военнослужащие 116-й стрелковой дивизии первого формирования попали в немецкий плен, то есть где и до какого числа отдельные батальоны и полки погибшей дивизии продолжали вести ожесточенные бои. Необходимо отметить, что на основании трофейных немецких карточек можем установить день, месяц и год рождения советского военнопленного. Так, на основании данных карточек известно следующее:



