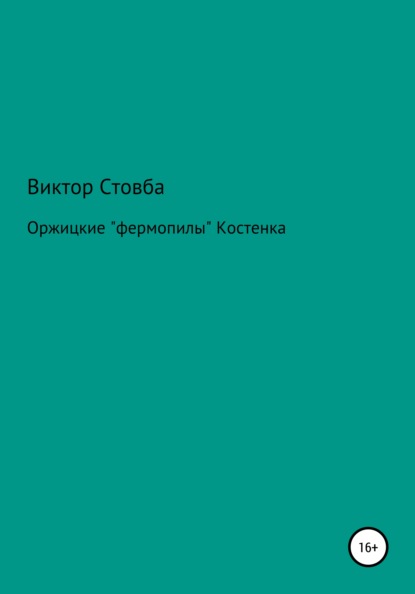 Полная версия
Полная версияОржицкие «фермопилы» Костенка
«Взрывы фугасных снарядов чередовались со взрывами осколочных. Командиры, вжимаясь в землю, выгребали из-под себя грязь.
– Лейтенант, сбегай с кем-нибудь, узнай обстановку. Кто там нас кроет?
Услышал Мальцев голос соседа-капитана. Глубоко, до середины голеней увязая в грязи, три офицера тяжелыми прыжками побежали на восток, к противоположному краю поля, откуда раздавались звуки выстрелов. Услышав свист фугаса или хлопок шрапнели, падали лицом вниз, все более просачиваясь грязью.
В полукилометре от конопляного поля жирной пунктирной линией выстроились немецкие танки. Стреляли не спеша, размеренно. Между танками и чуть впереди от них группами лиц по десять сидели и лежали фашистские солдаты. Дождь прекратился, из-за туч выглянуло полуденное солнце, приятно согревая людей. Солдаты располагались на разостланных или плащ-палатках, или кусках брезента. Многие разделись по пояс, держали в руках фляжки, периодически прикладывались к горлышку, поворачиваясь в сторону конопляного поля, поднимали вверх автоматы, что-то кричали, смеялись. Судя по движениям губ, кричали: «Рус, сдавайся!»
Конечно, у немцев было время и танки подтянуть (сколько там до тех Онишок), и пехота, судя по всему, собралась комфортно повоевать – с практически безоружными офицерами.
«Мальцев заметил, что обстреливают в основном центральную часть поля, а по краям и за его пределами взрывов практически не было. У самого края конопляного поля, на пригорке, росла огромная шелковица. Сначала ползком, а потом короткими перебежками Мальцев добрался до шелковицы и спрятался за ее толстым стволом. Отсюда было хорошо видно и городок, и берег на дальнее расстояние, и большую часть поля, изрядно уже изрытую воронками, в которых прятались офицеры. На дне воронок уже блестела вода, которая успела там накопиться».
Получается, что офицеры надежно зажаты с обеих сторон: немецкими танками и пехотой со стороны Онишок, и пулеметами со своей, оржицкой стороны.…
Может кто-то (из так называемых «организаторов») будет потом считать, что это было НАСТУПЛЕНИЕ, что это была попытка ПРОРЫВА?
«Со стороны города к мосту приближалась группа людей. Впереди шел крепкий, коренастый офицер с властными привычками. Следом, окружая начальника полукругом, почтительно семенила свита.
От моста, навстречу тем, кто приближался, выбежал начальник караула. Слишком рано перешел на строевой шаг. Держа руку у козырька, невероятно долго шел, выбивая из дороги подошвами сапог грязь, наконец, приблизился к начальству.
«В штаны, наверное, наложил от страха, – неприязненно подумал о нем Мальцев. – Даже к командиру полка в полукилометре строевым шагом не ходят. Неужели генерал Власов?»
Приближение большого начальства заметил не только Мальцев. Крича и размахивая руками, со стороны поля к мосту побежали люди.
Увидев вымазанных грязью военных непонятного звания, бежавших к мосту, генерал недовольно махнул рукой. Начальник караула скомандовал, показывая в сторону конопляного поля. Застучали пулеметы, пули зачмокали перед бегущими, преграждая им путь. Люди размахивали руками и продолжали бежать к мосту.
Генерал недовольно спросил что-то у начальника караула.
Начальник караула коротко крикнул.
– Тах-тах-тах-тах … – простучал пулемет. Несколько бегущих упало, другие остановились.
Мальцев был поражен тишиной, вдруг наступившей.
Танки не стреляли. Тишина, странная, почти мертвая, волнами распространялась над полем. И очереди наших пулеметов, положивших наших же командиров на глазах, а точнее – по приказу генерала, отдавались в голове Мальцева. И жаворонок в очищенном от облаков голубом небе. И противное жужжание мух. Больших, зеленых мух. А может синих.
Пахло гарью, тротилом и свежей кровью.
«Собирали пчелы мед – полетели. Услышали мухи смерть – прилетели», – вертелось в голове у Мальцева».
На данный момент самый главный вопрос – КТО был тот генерал? КТО отдал команду расстреливать своих офицеров? Для чего все это делалось? Был ли это Алексеев – нет; был ли это Костенко – вряд ли; был ли это Усенко – неизвестно, был ли это Смирнов – неизвестно, был ли это еще кто-то другой? А может, все-таки, это был Москаленко?…
« – Что же вы делаете, сволочи!
Услышал он голос соседа-лейтенанта. Лейтенант стоя расстегивал кобуру пистолета.
– Отставить истерику, лейтенант! Ты же не девушка малохольная! Нас танки топтали – мы выжили!
Попытался остановить его капитан. Вытащив, наконец, пистолет, лейтенант сделал шаг в сторону моста.
– Ты не дури!
Крикнул капитан.
– С пистолетом на пулемет только дураки ходят!
Рванувшись к лейтенанту, он упал, обхватил лейтенанта за ноги, попытался свалить его. Лейтенант, скользнув бешеным взглядом по боевому товарищу, приставил дуло к своему виску и выстрелил.
Опять артналет. Спасаясь от взрывов, около сотни офицеров волной выкатились из конопляного поля и побежали к реке. Пулеметные очереди от поста крошили бегущих. Берега достигла едва половина. Но как предательски он поступил, советский берег! Схватив офицеров за ноги, прибрежное болото превратило людей в неподвижные мишени, в удобные для пулеметчиков цели…
Время от времени в зарослях конопли щелкали пистолетные выстрелы. Врагов в конопляном поле не было, стрелять было не в кого…
Что им оставалось… преданным… отчаявшимся… растоптанным – только стреляться.…
Уткнув лицо в опавшие листья, Мальцев лежал у ствола мощной шелковицы. Что случилось с миром? Когда фашисты убивают наших – это понятно. Но когда наши убивают наших – этого сознание Мальцева принять не могло.
Огромное количество офицеров собрано на этом конопляном поле. Зачем? Для уничтожения? Кем? Более тысячи командиров загнаны в ловушку… Захочешь выйти – погибнешь от своих. Останешься – погибнешь от фашистов. А в городе и окрестностях в такой же ловушке десятки тысяч солдат! Без командиров эти тысячи солдат уже не батальоны, способные отстоять город и перейти в наступление. Они – масса людей, не знающих, что делать!
Кто-то, управляющий войной, согнал сюда наши войска и своей властью превратил их в фантастически огромную толпу… Своей волей обрек людей на уничтожение. Своей злой волей!
Мальцев поднял голову, посмотрел в сторону моста. Мост был пуст. Только пулеметчики и часовые на своих местах.
«Точно, это был Власов, – укрепился в своих предположениях Мальцев. – Кто еще с такой легкостью и жестокостью забьет своих ни в чем не повинных командиров?»
Один из пулеметов выпустил длинную очередь вдоль берега. В который раз множество людей, не желающих погибать от фашистской шрапнели, бросились к реке, чтобы выбраться из окружения вплавь. Слышались крики раненых и тонущих в болоте, крики людей, которых уносило стремительным течением…
Солнце клонилось к западу. Было нереально тихо. Безнадежно тихо. Только приглушенные стоны, просьбы пить, что прорывались сквозь боль и бред, доносились со всех сторон поля.
Через реку послышалось ворчание автомобильных моторов. Несколько грузовиков переехали мост и остановились у края конопляного поля.
– Раненых в машины! – Скомандовали те, что приехали.
Из зарослей конопли к грузовикам потянулись раненые. Большинство шли самостоятельно, многих вели под руки, некоторых несли на плащ-палатках или прямо на спинах.
– Только раненых! Здоровые остаются на месте! – Распоряжались из машин. – Погибших оставляйте у дороги, за ними приедут потом.
Вскоре машины были загружены полностью, а раненые все подходили.
Скомандовали легкораненым освободить машины и двигаться к месту своим ходом, а в машины продолжили грузить не могущих самостоятельно передвигаться.
Мальцев подошел к одной из санитарных машин.
– Браток, помоги … – услышал он просьбу. – Проводи до моста, сам не доберусь! Держась за кузов, рядом стоял старший лейтенант. Окровавленное бедро перетянуто ремнем, раненый едва держался на ногах.
Мальцев перебросил руку старшего лейтенанта себе через плечи и повел его к мосту. Часовые у моста отсеивали здоровых от раненых.
– Назад! Здоровые назад!
– Назад! – Потребовал часовой у сопровождающего, который шел впереди Мальцева.
– Ты … – он схватил Мальцева за рукав, но, взглянув на его петлицы, спросил: – Медицина? Проходи… Назад! – Остановил он следующую пару.
Не успев сказать ни да, нет – нет, Мальцев оказался на другой стороне моста. У интендантов и медиков петлицы были одного цвета – зеленые, у пехоты и артиллерии – красные и черные, поэтому часовой принял Мальцева за медика.
Проведя раненого в город, к месту, где формировалась большая санитарная автоколонна, Мальцев отправился к своим машинам.
– Здесь нам ждать нечего, – сказал он шоферам после рассказа о пережитом на конопляном поле. – Из города нас не выпустят. Зачем Власов держит командиров в конопляном поле, а солдат и технику в городе? Кто его знает… Но массу солдат без командиров сдать или уничтожить легче. Крупное воинское подразделение без командиров подобно паралитику – видит и слышит, а защитить себя не может.
К обороне нас здесь не готовят. Оборонительных укреплений нигде нет, и их не строят. За весь день в сторону немецких танков не выстрелили ни разу. Считаю, что пора бросать машины и выбираться к своим.
Мальцев замолчал. Молчали и бойцы. Бросить автоколонну, шестьдесят нагруженных продовольствием и фуражом машин, зная, что отмены приказа по доставке груза не было? За нарушение приказа в военное время наказывали строго.
– Как выходить будем? Не выпускают же никого, – спросил ординарец.
– Пойдем как санитарный взвод, собирать раненых. Дело к вечеру, городок перейдем, а там, в темноте, повернем от конопляного поля в сторону Лубен. Это единственная дорога, по которой мы можем выйти из окружения.
Через полчаса девять водителей-солдат и ординарец Гриша загрузили вещевые мешки продуктами и под командой Мальцева строем направились к мосту. Другие солдаты решили остаться с машинами.
Мост прошли в сумерках, сказав часовым, что отделение санитаров идет собирать раненых. За мостом отделения догнала колонна машин.
– Командир, помоги раненых загрузить, – попросил майор из кабины главной машины, указывая на раненых, которые выбирались из конопляного поля и останавливались на обочине дороги.
Около сотни грузовиков с едва заметными в темноте красными крестами на бортах, не включая фар, подобно призракам, медленно двигались вдоль поля, принимая в свободные кузова раненых. Люди почему-то старались не разговаривать, а если и говорили, то шепотом.
«Странно все, – думал Мальцев, – нереально. Будто не со мной происходит и не у нас. Будто в кошмарном сне… Как будто не держит командиров уже никто – уходите. Но – без солдат. А пойдут без солдат – трибунала не миновать…»
Скоро машины загрузили до предела. Мальцев и его солдаты втиснулись в кабины, колонна тронулась.
– Ох и мясорубку могут устроить здесь фашисты! – Покачал головой майор, оглянувшись на конопляное поле и на город, отсвечивало огнями пожаров. – Обороны ведь никакой!
Мясорубку нам Власов уже устроил, – проворчал Мальцев. Поехали с нами, – предложил майор. – Мы без охраны, а твои бойцы все-таки с автоматами. И при деле будешь.
Майор Завгороднов, начальник санитарной колонны, давно понял, что команда Мальцева к медицине не имеет никакого отношения.
Из темноты у дороги выплыли какие-то здания.
– Надо обстановку узнать, – майор кивнул в сторону домов.
Долго стучали в двери крайнего дома, потом так же долго объясняли хозяину, что они сопровождают санитарную колонну.
– Это Пятигорцы?
– Нет, хутор. Пятигорцы немножко дальше.
– Фашисты поблизости? – Еще раз спрашивал майор или бестолкового, то спросонья не понимающего, чего от него хотят, хозяина.
– Нет, нету. Врагов нет, – наконец ответил хозяин, выпучив глаза и часто хлопая ресницами.
– Хорошо, что «нет», – вздохнул майор. – Ну что, лейтенант, поедешь с нами?
– Нет, – решил Мальцев. – Своим ходом пойдем. И битком у вас.
– В тесноте – да не в обиде. Жаль. Ну, удачи вам.
– И вам счастливо добраться.
Солдаты Мальцева молча смотрели на проезжающие мимо машины. Наверняка они жалели, что командир отказал им ехать с автоколонной. Нашлись бы места для десяти человек! Проводив взглядом последнюю машину, отделение Мальцева выступило вслед. Минут через десять далеко за хутором, в той стороне, где спряталась автоколонна, прозвучали автоматные очереди, окрестности осветилось пламенем взрывов.
– Гришка, на дерево! – Крикнул Мальцев, вешая ординарцу на шею свой бинокль.
– Санитарная колонна на краю Пятигорцев на фашистов напоролась, – сообщил ординарец. – Танки! Передний грузовик горит! Прозвучали пушечные выстрелы.
– Наших расстреливают! Танками давят! Зарево набирало силу.
– Танки наших давят! – Простонал из дерева ординарец. – Ожидали их! Точно, ждали, сволочь! Автоматные очереди раздавались все реже.
– Все … – выдохнул ординарец и надолго замолчал, обвиснув на суку».
Колонна отъехала от Оржицы на расстояние около 15—18 км, где ее ждала немецкая засада на подъезде к Пятигорцам. И ждала она, судя по всему, не автомашины с ранеными, а боевые подразделения, чтобы уничтожить тех, кому удастся прорваться из Оржицы. Для чего посылать вперед санитарную колонну из около ста автомобилей, на что была надежда, была ли проведена предварительная разведка? Ответов, к сожалению, мы не имеем. Факт гибели колонны с ранеными описан в нескольких источниках, поэтому сомнений в том, что так и было, нет. То, что там могло быть не сто а, например, сорок или тридцать автомобилей, суть случившегося не меняет.
Постепенно центр давления на немецкую оборону смещался на юг, на участок обороны 79-го пехотного полка 16-й танковой дивизии между селами Онишки и Остаповка.
Из немецких источников узнаем, что в этот день состоялся первый прорыв советских войск через боевые порядки 16 тд вермахта:
«Утром 20 сентября части четырех российских дивизий, перевезенных из глубины «котла» на его восточную окраину, пошли на прорыв. Они форсировали реку у Онишок (село в 2—3 км севернее Оржицы), прорвали кольцо окружения и вытекли на северо-восток. Немедленно была создана группа быстрого реагирования (усиленный I батальон 64 полка без 3 роты, одна танковая рота и II дивизион 16 артполка) и брошена на угрожающий фланг.
В 17.30 началась контратака. Здесь русская кавалерия попыталась выйти в тыл атакующим. Опасаясь окружения, роты отступили здесь и там в беспорядке на исходные позиции. I батальон 79 полка получил подкрепления, и атака началась заново, поддерживаемая минометами. С криками «Ура!» Солдаты бросились вперед. Сильный артиллерийский огонь русских накрыл кукурузные и конопляные поля. Фонтаны разрывов вставали здесь и там, осколки свистели в воздухе, смачно врезаясь в грунт. Ближе к врагу! И тут россияне открыли огонь из танковых и противотанковых пушек «Ратша-бум» (прозвище советской 57-мм противотанковой пушки, вызванное характерным звуком выстрела, наличие таких пушек в 26-й армии не исключается) ударив в середину наступающих. Как новобранцы, прыгали солдаты от одного укрытия к другому, гроздьями прятались за танками. Наконец удается подняться на холм (господствующая высота со триангуляционной вышкой). Теперь они стоят перед российскими окопами. Завязался ожесточенный ближний бой. Красноармейцы дрались до последнего и почти не сдавались в плен. Да и немцы, ожесточившиеся от упорного сопротивления, предпочитали уничтожать их в окопах, не дожидаясь, пока те подымут руки. Россияне предпочитают быть застреленными в окопах, чем покинуть их; однако солдаты 16 танковой дивизии не менее твердые и решительные: они отбросили врага, который отчаянно бьется, назад и ликвидировали прорыв. К полуночи брешь в обороне 79-го полка была закрыта».
Нет оснований не верить немецкому историку, хотя информация о «четырех дивизиях», да еще и «перевезенных из глубины „котла“» – явное преувеличение. Главный вопрос – что это были за подразделения, как далеко и в каком количестве им удалось прорваться из окружения, кто и в каком количестве, наконец, вышел к своим.
Поскольку кавгруппа утром 20.09.1941 года еще не прибыла в Оржицу, то какое-же кавалерийское подразделение пыталось выйти в тыл контратакующих немцев? Не были ли это подразделения 37 кд?
На восточной стороне окружения пехотные дивизии XI армейского корпуса вели преследование советских войск, которые отходили с целью прорыва, собирая желающих сдаться в плен. В ходе наступления иногда возникали кризисные ситуации с отрядами, которые вырвались вперед:
«Окруженные русские не имели больше особого желания сопротивляться; как кажется, у них была еще надежда прорваться из окружения в северном или восточном направлении. Поэтому нажим на слабую немецкую боевую охрану на восточном берегу Сулы усилился. Так, например, 125-му разведывательному батальону пришлось пережить тяжелые часы на мосту восточнее села Тарасовка (населенный пункт на берегу Сулы южнее Оржицы).
421-й полк, который постоянно получал по радио призывы о помощи 125-го разведывательного батальона, нанес вечером 20 сентября, по инициативе командира полка, удар силами усиленной роты и взвода противотанковых орудий, чтобы взять Тарасовку и прийти на выручку разведывательному батальону. Быстрыми, мужественными действиями под личным руководством командира полка оберст-лейтенанта Райнхардта село было взято, русские отброшены, связь с разведывательным батальоном установлена. При этом в руки попало 1700 пленных».
Очевидно, что речь идет о действиях 421 пехотного полка 125 пехотной дивизии вермахта.
Генерал И. И.Трутко в этот день просил о воздушном подвозе в район с. Белоусовка и о вывозе раненых, но организовать воздушную транспортировку не удалось.
20 сентября 1941 Аникушкин Ф., заместитель командующего 26-й армии, поднимая в контратаку бойцов, будет тяжело ранен осколками мины в ноги и, находясь в полевом армейском военном госпитале в с. Оржица, Полтавской области, попадет в окружение. Истекая кровью, выползет он из госпиталя и начнет тяжелый выход из окружения по тылам врага, из которого, вместе с группой командиров, выйдет 25 октября в районе города Чугуев. Выйдет из окружения, ведя за собой раненых командиров и комиссаров, переплыв с кровоточащими ранами, ледяной Северский Донец под Чугуевом Харьковской области, но без партийного билета, без документов, без боевых наград.
Разведчик, лейтенант Иван Скрипка вспоминал, что в середине сентября от начальника розведпункта подполковника Копылова была получена радиограмма, в которой говорилось, что по оперативным данным разведчики находятся в окружении. Предписывалось выйти в район 12-й кавгруппы, координаты которой прилагались. После марша и выхода в район указанных координат было обнаружено, что в Оржице находится штаб, но не 12-й кавгруппы, а 26-й армии.
Возле села Оржица, перед переправой через реку, пришлось уничтожить автомобили, чтобы они не достались врагу. Переправлялись под постоянным обстрелом противника. Измученных, грязных, мокрых бойцов и командиров на другом берегу встретили немецкие автоматчики, засевшие на деревьях.
Пробившись через засаду, отступающие разведчики наткнулись на немецкий аэродром. Правда, он был замаскирован под поле, на котором то тут, то там стояли снопы. После перестрелки с аэродромной охраной разведчики подожгли несколько самолетов, и пошли дальше на восток. Группа из младших офицеров и бойцов, в которой был и Иван Скрипка на 11-е сутки вышла к своим в районе Ахтырки.
Михин В. С. и сформированное им подразделение весь день держали оборону, немец крепко их бомбил, обстреливал из минометов.
Не об этом подразделении, и другим, ему подобных, наспех созданных в окружении, говорит немецкий историк, описывая прорыв утром 20 сентября?
Лисичкин А. Н. который участвовал в боевых действиях в составе 34 сп 75 сд 21А вспоминал, что в район Гребенки прибыл к ним батальонный комиссар Гребнев с политотдела 75-й сд и дал указание на отход в район Оржицы, где (они) заняли оборону. К их приходу район Оржицы обороняли части кавалерийской (?) дивизии полковника Мальцева (?), которая пошла на прорыв, и больше они ее не встречали. В боях за Оржицу погибли капитан Сушкин и политрук Блохов.
Капитан Сушкин Петр Иванович, 1907 года рождения, не погиб, а 26.09.1941 года раненым был оставлен на поле боя при выходе из Оржицкого окружения группами, подобран немцами и отправлен в лагерь в Лубны. Далее были другие лагеря, побеги, участие в партизанском отряде, скрывание от врага, и так до прихода регулярных войск.
К боям в Оржице весь обоз полка и имущество связи были отправлены на восток. В бою за Оржицу связь держали пешими посыльными. Подразделения 34-го сп обороняли восточную окраину с. Оржица.
Село Оржица было окружено большими силами немцев. В момент обороны Оржицы 34-й сп насчитывал около роты личного состава. Со штабом 75-й сд связи не было, пополнение людьми и боеприпасами не получали. Люди в обороне сутками не имели пищи. В Оржице в это время находился медсанбат. По дамбе форсировали р. Оржица отряд моряков и кавалерийские подразделения полковника Мальцева, которые почти все погибли.
Следует заметить, что Федор Васильевич Мальцев командовал 97 сд, на плечи которой лег основной груз обороны собственно Оржицы. Дивизия кавалерийских подразделений в своем составе не имела.
В период 25.08.1941 97 сд ведет бои на острове Кролевец на Днепре в составе 38-й армии, затем снова передана в состав 26-й армии. Практически полностью уничтожена в окружении, в Оржицком очаге Киевского котла в сентябре 1941 года. Расформирована была официально 27.12.1941 года.
И снова возвращаясь к кавалеристам – вероятнее всего, это были подразделения 37 кд, командир полковник Г. М. Ройтенберг (10.7.1941-сентябрь 1941), что с 12.09.1941 года занимала оборону по правому берегу реки Сулы.
Относительно моряков в Оржице – пока найдено мало достоверных данных об их количестве и участии в прорыве окружения.
Жаркие схватки происходили на всех участках. Части 301 сд были сосредоточены в самой Оржице, здесь скопилось большое количество техники, обозов и раненых.
Роль 301 сд в Оржицкий боях, пока не имеет достаточного документального подтверждения. 11 сентября 301 сд сменила части 7-й мотострелковой дивизии и заняла оборону на фронте Процев – Рудяков – Яшники – Андруши. Через четыре дня немцам удалось замкнуть кольцо вокруг 5-й, 21-й, 26-й и 37-й армий, после чего дивизия оказалась в окружении и была уничтожена. Официально расформирована была 27 декабря 1941 года.
Состав 301-й сд на тот период:
1050, 1052 и 1054 стрелковый полк,
823 артиллерийский полк,
337 отдельный истребительно-противотанковый дивизион,
582 отдельный зенитный артиллерийский дивизион,
356 разведывательный батальон,
592 саперный батальон,
757 отдельный батальон связи,
341 медико-санитарный батальон,
390 отдельная рота химзащиты,
727 автотранспортный батальон,
383 полевой автохлебозавод,
977 полевая почтовая станция,
861 полевая касса Госбанка.
Есть информация по сентябрю 1941 года, что некоторые части ее были в барышевском котле (1050, 1052, 1054 сп та 337 птд), а некоторые – в оржицком (очевидно – тылы).
Багрово горел вокруг Оржицы горизонт. Он был одинаков и на западе, где только село солнце, и на востоке, куда рвались остатки советских дивизий. Повсюду дымились пожары. Облака, дома, деревья, стены домов отсвечивали пламенно, грозно.
Москвин Иван Уварович (06.10.1914—29.03.1993), служивший в 404 ап 109 мд, вспоминал, что он со своей батареей остановился в роще, недалеко от с. Оржица. Здесь бои продолжались до 20 сентября, когда немцы заняли Лубны, соединились с другими немецкими частями и отрезали им путь отхода на восток. Их полк оказался в окружении вместе со многими другими частями Юго-Западного фронта. Это было большое поражение наших войск.
В соответствии с директивой Генерального штаба от 16.07.41 г. №769/орг 109-я моторизованная дивизия переформирована в 304-ю стрелковую дивизию в составе 807, 809, 812-го сп, 866-го ап и др. частей и подразделений.
О том, что они – в окружении, сообщил старший техник-лейтенант Лосученко, который прибежал к ним на батарею, а вскоре они увидели немецкие танки, которые двигались в их сторону. Поскольку их батарея занималась только доставкой топлива и боеприпасов в дивизионе, то они были почти безоружны, и о том, чтобы прорываться с боем, речи даже быть не могло. Быстро согнав машины в кучу, а бензовозы поставив в середину, они зажгли их. Мощный взрыв и образовавшееся облако черного дыма покрыло все вокруг. Прикрываясь дымовой завесой, они спустились в плавни реки Оржица, пошли в камыши. С этого дня началось их тяжелая жизнь в тылу врага.



