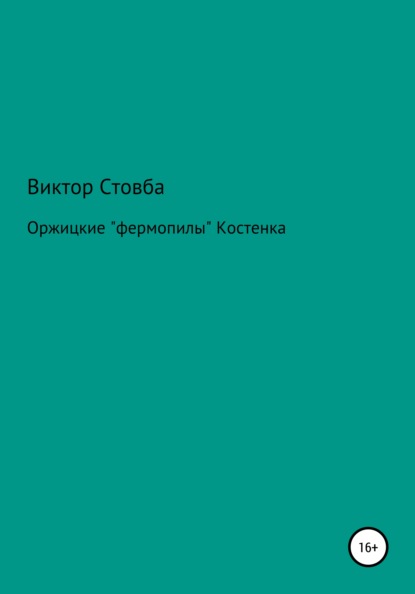 Полная версия
Полная версияОржицкие «фермопилы» Костенка
Оказалось, что 26 армия была отрезана от трех других армий, находившихся в кольце, не было у нее и связи со штабом фронта.
От генерала А. И. Лопатина путь В. М. Шатилова через с. Байковщину лежал в с. Круподеренцы, куда И. И. Самсоненко должен был отвести 196 сд.
В Байковщине В. М. Шатилов с шофером и двумя сопровождающими автоматчиками попали в ситуацию, аналогичную той, в которой оказался генерал К. Е. Куликов. В те дни в расположение советских войск часто просачивались вражеские разведывательные подразделения. Наверное, одно из этих подразделений просочилось в с. Байковщину. Гитлеровцы, вполне вероятно, пронюхали, что здесь находится КП 26-й армии, и решили во что бы то ни стало захватить или уничтожить ее руководящий состав. Час назад конники и бронедивизион выбили фашистов из деревни, но остатки этого подразделения рассыпались в его окрестностях. И вот когда машина В. Т. Шатилова на большой скорости влетела в село, человек пятнадцать гитлеровцев выскочили из кустов и давай поливать из автоматов. Шофер Казаков (очевидно, что речь идет о Казакове Иване Сергеевиче, 1918 года рождения, официально – такого, что пропал без вести) нажимал на газ, другие, схватив автоматы, открыли ответную стрельбу, им удалось проскочить и не попасть в лапы фашистов. Здесь уже помог случай и… пыль.
Вернувшись на КП дивизии, В. М. Шатилов ознакомил с содержанием боевого приказа командира корпуса комиссара и начальника артиллерии, после чего они начали подготовку марша в с. Денисовка на соединение со 116-й сд.
В Оржице была создана комендатура гарнизона, командование стремилось навести порядок, сюда сунула лавина тыловиков, так что двигаться боевым частям было очень трудно. На дорогах везде были пробки. Центральная часть Оржицы была заполнена полуторками, телегами, брошенным оружием, санитарными машинами, мотоциклами и другой техникой.
В районной больнице Оржицы расположился военный госпиталь. Медперсонала не хватало, а потому привлекали и местных медиков.
Так, Мелихова Надежда работала хирургической медсестрой и спасла жизнь не одному воину. Палат не хватало, а потому на территории больницы были поставлены палатки битком набитые ранеными. Военные хирурги работали днем и ночью.
Изучение судьбы большого количества медицинских подразделений, попавших в Оржицкий котел, отдельный вопрос, требующий детального анализа, свидетельства о некоторых из них приводятся и в данной работе.
Михин В. С. о своей явке (в Оржицу) доложил генерал-майору Смирнову, (Смирнов Андрей Николаевич – генерал-майор, 1899 г.р., с 02.09.1941 командовал 27-м стрелковым корпусом, погиб в окружении под Киевом в конце сентября 1941 года), который приказал ему сформировать роту и командовать ею, что и было им сделано. Люди были собраны из всех родов войск. Ему (В. С. Михину) было приказано наступать левым флангом от Оржицы. Это было первое его крещение в бою с немецкими оккупантами.
Относительно генерала И. И. Алексеева, из докладной И. Х. Баграмяна, о событиях 19.09.1941 года:
«… к моему выходу на высоты генерал-майор Алексеев (Иван Иванович, командир 6 СК – прим.) по собственной инициативе остановил убегающую толпу красноармейцев и, возглавив их, повел в наступление. Моя рота смешалась с отрядом т. Алексеева, и мы с ним быстро переправились через разрушенную переправу у с. Мелехи на северо-восточный берег р. Многа. С момента смешивания роты с неорганизованной массой бойцов я окончательно потерял управление ротой. После приведения в относительный порядок бойцов, вышедших в район с. Мелехи, мы продолжали движение к н. п. Сенча».
Сами немцы свое положение в ходе атак 19 сентября оценивали как критическое. Немецкая разведка выявила большие скопления советских войск возле с. Круподеренцы и у с. Денисовки. Отсюда можно было ожидать попытки прорыва, но 19 сентября они произошли на другом участке.
Особенно трудно пришлось пехотинцам 1-го батальона 64-го полка, оборонявшимся на линии сел Филипповичи – Белоусовка. Атаки окруженцев им пришлось отбивать не только огнем стрелкового оружия, но, когда боеприпасы подошли к концу, и «саперными лопатками и прикладами».
Несколько раз им пришлось отбивать удары конницы, скорее всего, из состава кавгруппы Борисова. Положение спасли вовремя подоспевшие авангарды 45-й и 293-й пехотных дивизий. С их помощью удалось не только удержать занимаемые позиции, но и перейти в контратаку.
В течение 18–19 сентября в основном сформировалось кольцо окружения. Оно имело овальную форму с поперечником примерно в 30 километров: на северо-западе – до с. Красеновка, на западе – до с. Чернобай, на юго-западе – до с. Ирклиев, на юге – до с. Большая Буромка.
В разгар боев к с. Денисовка подошла колонна 209-го корпусного артполка. Его командир подполковник Д. К. Бурков отправился в село, где разместился штаб 116-й дивизии, разыскал ее командира и доложил о прибытии. От него впервые узнали об окружении. Командир дивизии подчинил себе артполк, «обрадовав» напоследок: если сегодня не прорвемся, то положение станет безнадежным.
К вечеру подполковник Д. К. Бурков, впервые с начала войны оказавшийся в таком пекле, вдоволь насмотрелся на бесплодные атаки на немецкую оборону. Для себя он сделал вывод, что прорваться у с. Денисовка невозможно и надо искать другие, более уязвимые, участки. В сумерках поступил приказ: полку перейти в с. Оржица и вступить в подчинение командира 6-го корпуса.
В течение суток кавалерийская группа комбрига А. Б. Борисова отражала немецкие атаки на с. Белоусовка. По подсчетам ее командира, за полутора суток боев его конники уничтожили до 400 солдат противника и подбили шесть танков. Сами кавалеристы также понесли существенные потери: убитыми и ранеными до 200 человек, в одном из боев получил тяжелое ранение командир 32-й кавдивизии полковник А. И. Бацкалевич.
Мисливский Матвей Трофимович, 1907 г.р., красноармеец 40 кп 43 кд –«В бою под селением Белоусовка, когда пулеметчик был ранен, проявил исключительную смелость и храбрость, занял место пулеметчика и в упор расстреливал фашистов, чем самым обрати врага в бегство и вынес с линии боя раненого и пулемет».
С 9.00 утра полки немецкой 125-й дивизии продолжили марш. Около 10.00 передовые части 419-го полка заняли южную часть с. Малая Буромка, однако дальнейшее продвижение задержалось из-за опасности попасть под удар советских войск, сосредоточенных в лесу севернее с. Большая Буромка.
Сюда около полудня выдвинулся 2-й батальон, усиленный впоследствии 8-й батареей артполка. Только через 50 минут все село было занято немецкими войсками.
Постепенно подтягивалась дивизионная артиллерия: 10-я батарея миновала с. Лащевка, 11-я и 12-я батареи 125-го артполка, а также 2-й дивизион 52-го артполка прибыли в с. Галицкое.
После занятия с. Малая Буромка командир 419-го полка принял решение направить передовой отряд на с. Борисовка, 1-й батальона – на с. Новоселица. Остальные батальоны пока остаются на месте до тех пор, пока не подтянется 421-й полк. Пока поджидали подхода камрадов, опросили несколько местных жителей. Они подтвердили, что много красноармейцев, погрузившись на автомашины, уехали по дороге на с. Крестителево.
Командира 125-й дивизии беспокоил один вопрос. Еще с прошедшего вечера в штабе не имелось никаких сведений. К утру ситуация не изменилась. Поэтому в 11.00 на волне полка отправили радиограмму такого содержания: «В Веселом Подоле противника нет. Малая Буромка взята. Где передовые части?» Через 10 минут оттуда был получен ответ, что все благополучно и полк уверенно продвигается вперед в соответствии с определенными приказом задачами.
Майору Вальтеру, командиру 420-го полка, передали новое указание – как можно быстрее через с. Новоселица занять мост у изгиба дороги юго-восточнее с. Богодуховка.
В 15.45 солдаты 1-го батальона 419-го полка взяли с. Новоселица, в то время как передовой отряд этой части ворвался на южную окраину с. Крестителево.
В это время командир 125-й дивизии прибыл на командный пункт 419-го полка. Здесь он принял решение о формировании передового отряда под общим руководством командира 125-го противотанкового дивизиона майора Р. Шмидта для взятия с. Крестителево. В него предполагалось включить: 3-й батальон 421-го полка, 1-ю (самокатную) роту 419-го полка, две роты 125-го противотанкового дивизиона, 8-ю батарею 125-го артполка и 4-ю батарею и 5-й взвод тяжелых полевых гаубиц 52-го артполка. В 16.40 был отдан соответствующий приказ, и передовой отряд выступил маршем.
В 18.00 командир 125-й дивизии направился на новый командный пункт в с. Малая Буромка. По дороге он встретил тягачи 5-й батареи 52-го артполка, которые стояли без движения из-за поломки моторов. Вскоре выяснилось, что из-за нечеткой передачи приказа 8-я батарея 125-го полка все еще пребывала в Малой Буромке, и тем самым, передовой отряд майора Р. Шмидта остался без значительной части своей артиллерии.
Несмотря на это обстоятельство, майор Р. Шмидт вступил в бой и к 22.20 полностью занял с. Крестителево. В бою захватили 50 пленных и два счетверенных пулемета, артиллерийским огнем сожгли 16 грузовиков.
Как видим, масштабы боев у Крестителево далеки от формулировки «крупное сражение», которое часто встречается во многих источниках (авт.).
Из рассказа Смирнова «Госпиталь в Еремеевке»:
«Противник овладел им (Крестителево) после упорного боя, и цепи немецкой пехоты, методически прочесывая одну улицу за другой, вышли к окраине села, где на отшибе от хат стояло несколько длинных колхозных сараев. Опасаясь засады, автоматчики приближались к ним осторожно и недоверчиво, время от времени выпуская очереди по этим постройкам.
И тогда в дверях одного из сараев появился человек. Он по-немецки закричал солдатам, чтобы они не стреляли, потому что в сараях находятся только раненые.»
Как и остальные соединения XI корпуса, 239-я дивизия выступила в 9.00. Как и в предыдущий день, ее полки первое время не встречали перед собой серьезного сопротивления и продвигались почти со скоростью походного марша.
К 15.00 по всему фронту 239-й дивизии ее солдаты вышли к руслу ручья между селами Прилипка и Малые Каневцы и, не задерживаясь, пересекли его. На правый фланг, ввиду отсутствия там войск 125-й пехотной дивизии, перебросили 444-й полк, усилив его 239-м противотанковым дивизионом.
Особенно удачными оказались действия передового отряда майора Райфенштуля. Его солдаты, сломив сопротивление частей прикрытия, заняли участок дороги между с. Крестителево и Чернобай. Оттуда отряд атаковал советские части, занимавшие оборону в с. Богодуховка. Колонны, пытавшиеся выбраться из села в юго-западном направлении, попали под обстрел и были разгромлены. Развивая наступление, передовой отряд перехватил дороги, ведущие из с. Богодуховка на юго-запад, и прервал всякое сообщение по ним.
В 16.45, после короткого отдыха, передовой отряд выступил к с. Синеоковка. Здесь находилась важная переправа, по которой отступавшие советские войска могли ускользнуть на восток, и ее требовалось захватить. И эту задачу солдаты майора Райфенштуля успешно выполнили. Мост оказался в полной исправности, и, сдав участок прибывшему 327-му полку, передовой отряд по приказу командира дивизии перешел в с. Богодуховка. В качестве усиления ему придали самокатную роту 444-го полка, поставив задачу обеспечивать правый фланг до подхода 125-й дивизии.
В 19.00 основные силы 372-го полка на широком фронте перешли через дорогу с. Богодуховка – Синеоковка. К 20.00 почти все части 239-й дивизии вышли к руслу р. Крапивна.
Вечером начались первые серьезные бои с прорывавшимися из котла советскими частями. Двигавшиеся со стороны г. Золотоноша колонны были встречены огнем, когда попытались переправиться у с. Синеоковка. Много автомобилей удалось поджечь, и их полыхающие кузова полностью остановили движение. Те, кто пытался их объехать, также были расстреляны.
Как выяснилось чуть позже, появление колонны спровоцировала атака передового отряда немецкой 79-й пехотной дивизии на г. Золотоноша.
Несогласованность действий немецких частей обернулась для 239-й дивизии большими проблемами: вечером, а особенно ночью, небольшой плацдарм, образованный 327-м полком под с. Синеоковка, стал ареной ожесточеннейших боев. Почти непрерывно из глубины котла перебрасывались все новые и новые грузовики с красноармейцами. Выгрузившись, они разворачивались в цепи и во главе со своими командирами и политработниками шли в атаку на немецкие позиции. Поддержку им оказывала артиллерия.
Солдаты 327-го полка в ближнем бою, иногда переходившем в рукопашные схватки, удержали свой фронт, нанеся прорывавшимся большие потери. Только на отдельных участках красноармейцы смогли пробить немецкую оборону и уйти от преследования.
Положение 327-го полка казалось угрожающим, и командир дивизии поднял по тревоге все части своего соединения. Солдаты 372-го полка укрепили его правый фланг, а непосредственно на плацдарм отправился 1-й батальон 444-го полка. Остальные его батальоны, расположившиеся на отдых в с. Савковка, перешли в с. Додарев. В случае необходимости они должны были на этом рубеже остановить прорыв. И, наконец, вся артиллерия 239-й дивизии, которая находилась в пределах досягаемости, работала на 327-й полк. Благодаря совместным усилиям плацдарм удалось удержать.
Солдаты 257-й дивизии начали день с подготовки к преодолению ручья, заболоченные берега которого оказались неожиданным препятствием. В ходе быстрой атаки немцы успели захватить неповрежденным один из мостов, еще один, расположенный в с. Лихолеты, удалось отремонтировать силами саперов к 16.00. Переправа проходила без какого-либо воздействия со стороны советских войск: не стреляла артиллерия, в небе, как и прежде, не было ни одного самолета.
К 16.00 передовые части 257-й дивизии находились в 8 км от русла р. Крапивны. Левофланговый полк соединения уже через 40 минут ворвался в одноименное село, выбил оттуда оборонявшие его части и приступил к зачистке.
К вечеру немец вышел к р. Крапивна на участке между выс. 117, 0 (западнее с. Крапивна) и с. Богуславец.
Также быстро развивалось наступление левофланговой 24-й дивизии. Ее батальоны практически не встречали перед собой сопротивления, и большая часть уходила не на боевые действия, а на нужные зачистки сел, оставленных отступающей 26-й армией.
К 17.00 31-й и 32-й полки вышли к назначенной приказом цели дня – долине р. Крапивна у с. Плиски. Левый фланг соединения прикрывал разведывательный батальон.
Около 14.00 его солдаты в с. Дубинка встретились с камрадами из 267-го полка 94-й пехотной дивизии. Соединение образовало собственный плацдарм на Днепре у с. Пенское, с которого предприняло наступление в глубь котла.
Вечером разведывательный батальон находился уже в с. Чапаевка, развернувшись фронтом на северо-запад.
Воздушная разведка установила, что происходит скопление значительного количества советских войск и техники в районе г. Золотоноша. Командование XI корпуса предположило, что готовится прорыв в северном или северо-восточном направлениях. Именно с этими колоннами имела дело 239-я дивизия в районе с. Богодуховка и у р. Крапивна. Наиболее значительные силы 26-й армии сосредоточены в районе с. Оржица, и с ними в самое ближайшее время придется столкнуться правофланговым дивизиям XI корпуса – 125-й и 239-й.
Наступление осложнялось тем, что собственных карт местности у немцев не было. Приходилось рассчитывать только на трофейные, которые, как отмечали сами немцы, были плохого качества или сильно устарели.
Уже поздно вечером стало известно, что 79-я пехотная дивизия XXXIV корпуса в 21.30 вышла на ближние подступы к г. Золотоноша. Полученная информация заставила внести изменения в поставленные перед частями задачи на следующий день.
Левофланговой 24-й дивизии поручалось продолжать наступление на Золотоношу только одним полком, остальные же силы должны прекратить движение и оставаться в достигнутых районах. Образовавшуюся брешь между 239-й и 125-й дивизиями предполагалось закрыть резервным 466-м полком, направив его к с. Богодуховка.
В качестве задачи на следующий день командование XI корпуса поставило продолжение наступления в общем северном направлении до установления контакта с танковыми и моторизованными частями, удерживавшими восточный обвод окружения. События дня, как казалось немцам, показали полную дезорганизацию управления частями 26-й армии. Теперь оставалось только дожать и уничтожить ее остатки.
Войска XXXV корпуса вновь провели весь день в преследовании ускользающих от них советских войск. Однако впереди уже виднелись огненные всполохи и доносилась канонада, что свидетельствовало, что цель наступления уже близка.
На 20 сентября перед 293-й дивизией стояла задача передовыми отрядами оберста Х. фон Паннвица и Мюллера наступать вдоль железной дороги на г. Золотоноша и в сторону долины р. Крапивна. Навстречу им будут двигаться части XI корпуса, на правый фланг выйдет 262-я пехотная дивизия.
Гудериан:
«В тот день пал Киев. XLVIII танковый корпус 1-й танковой группы захватил Городище и Белоусовку».
20 СЕНТЯБРЯ
20 сентября командарму-26 Ф. Я. Костенко было (через Генштаб) передано указание главкома Юго-Западного направления С. К. Тимошенко о том, чтобы
«…главный удар, с целью выхода из окружения, наносить в направлении Ромен, а на направлении Лубны – Миргород оставить прочный заслон».
Колонны вышли к Оржице на конец 20 сентября. Прежде чем двигаться дальше, генерал Ф.Я.Костенко снова собрал армию в кулак: он уже знал, что прорыв на восток будет тяжелым и потребует напряжения всех его сил. Центр событий переместился в городок Оржица с окружающими селами: Плехов, Зарог, Онишки.
Утверждение «собрал армию в кулак», вероятнее всего, не соответствует действительному положению вещей: 159 сд еще на подходе к Кандибовке (малочисленная, дезорганизованая), 116 сд в районе с. Денисовки (руководство слабое, хотя численность подразделений едва ли не самая большая по сравнению с другими дивизиями), 196 сд после неудачных попыток прорваться через с. Круподеренцы и с. Савинцы (дважды) находится на пути к с. Денисовка (подразделение наиболее организованное и боеспособное, как покажет развитие дальнейших событий). В самой Оржице из регулярных частей лишь часть подразделений 97 сд и, по данным ряда источников, 301 сд.
Из воспоминаний генерал-лейтенанта Д. И. Рябышева, бывшего командующего 38А, узнаем что при передаче дивизий в его подчинение, а это – 13 августа, 116-я сд имела 17 000 воинов и вооружение по штату, в боях еще участия не принимала. В дивизии Куликова (196 сд) после жестоких боев осталось меньше чем полторы тысячи личного состава (5 стрелковых и пулеметных рот и 5 артиллерийских батарей). Она имела 12 разнокалиберных орудий и 38 станковых пулеметов. А ведь до оржицких событий оставался еще почти месяц.
Герман Леонидович Занадворов так описывает сентябрьские дни 1941 года:
«Вскоре маленькое тихое мирное местечко Оржица, раскинувшееся на берегу многокилометровых болот у реки, было забито до предела обозными грузовиками и подводами. Война не касалось его до 20 сентября. В этот день туда бросились конники, пехотинцы, батареи без пушек, батареи с пушками, командиры без частей, части без командиров, штабы, артиллерийские парки, базы снабжения, ремонтные мастерские, передвижные госпитали – десятки тысяч людей на тысячах машин и повозок. Их гнало одно властное желание – что бы то ни стало прорваться к своим. Поддерживать порядок в этом столпотворении было трудно, не было средств связи. Еще труднее было перестроить войска в боевые порядки».
Некоторые источники утверждают, что общее количество войск, попавших в т.н. «Оржицкий котел» составляло около 50 000.
Нам известно, что генерал И. И. Алексееев, должен был организовать оборону собственно Оржицы (но не организовал и не организовывал), известно также, что генерал Смирнов занимался формированием боевых подразделений из остатков разного рода военных частей, групп, тем или иным путем попавших в Оржицкое кольцо. Известно также, что в Оржице была создана комендатура, которая пыталась наладить там порядок (охрана у моста и пулеметные точки по берегу для сдерживание своих же отступающих солдат и офицеров – факт неоднократно доказанный).
Смирнов Андрей Николаевич – генерал-майор, 1899 г.р., с 2.09.1941 командовал 27-м стрелковым корпусом (по другим данным – начальник штаба). Погиб (пропал без вести) в окружении под Киевом в конце сентября 1941 года.
«В первом порыве они (советские войска) оттолкнули немецкие полки за реку на лесистые холмы. Саперы бросились в трясину наводить разрушенный мост. Легкие танки и броневички, поодиночке собранные сюда, шли на минометные и артиллерийские позиции. Их поддерживали зенитные пушки, заменившие гаубицы и полевые пушки. За ними шли в штыковые атаки поспешно собранные батальоны: пехотинцы многих дивизий, кавалеристы, потерявшие коней, краснофлотцы днепровских мониторов, натянув на бескозырки боевые каски, шоферы, политруки, оружейники. Батальоны таяли под огнем немецких автоматчиков. Командиры обходили машины и повозки, собирали новые подразделения. Вели в бой.
20 сентября не было времени раздумывать ни пехотинцам, ни танкистам последних уцелевших машин, ни саперам, ни генералу с перевязанной рукой, стоявшему посреди переправы. Они спешили. Спешили даже раненые. Просили подтянуть телеги лазаретов ближе к переправе. Бой перекатывался по болотам, перелесках и полях. Приближалась ночь, предназначенная для переправы. Многими дорогами – с севера, с запада, востока, юга – спешили к Оржице колонны свежих немецких частей».
Во время войны, несмотря на инвалидность, Герман Занадворов с женой Марией оказался в числе фронтовых журналистов 5-й армии. Вместе с этой армией они пытались пробиться в Киев и не пробились, попали в окружение. В Оржице, где 5-я армия делала попытку прорваться на восток, погибло много ее командиров и бойцов. Германа, у которого еще до войны было очень плохо с ногами, вынесли из-под Оржицы Мария (жена) и сержант Борис Кузнецов, парень с Алтая. С остатками войск, вырвавшихся из Оржицкой каши, они предприняли попытку пробраться через Сулу южнее Хорола, но потерпели неудачу. В результате Герман оказался в колонне советских военнопленных, которая растянулась на километры. Мария шла за колонной. На привале она разыскивала мужа, передавала ему пищу и воду, взятую в селах, что встречались на пути колонны. Затем Герман оказался в лагере, окруженном колючей проволокой. Здесь не было никаких зданий. Спали прямо на земле. Каждую ночь умирали сотни людей от голода, усталости, ран. Вымолила Мария его, умирающего, у немца часового.
Она решила отвезти мужа на свою родину в село Ольховая (Глушковского района, Одесской области). Продала свое пальто, купила лошадь. Первое время смогла его везти, но лошадь погибла. Далее повезла мужа на тачке. 300 километров они пробирались по оккупированной территории. С огромным трудом добрались до Ольховой. Не раз по дороге Герман просил Марию: «Брось меня, я все равно умру». Мария и ее родители выходили его.
Почти два с половиной года, с ноября 1941 по март 1944, прожили Герман и Мария в оккупированном фашистами селе, где он стал организатором сопротивления оккупантам.
В ночь с 4 на 5 марта 1944 года, за несколько дней до освобождения села от фашистов, раздался условный стук в окно. Но вместо партизан ворвались полицейские. Кто-то предал Германа. Его связали, увели. Мария бросилась за ним. Утром тела нашли в овраге за селом. Их расстреляли.
Незадолго до гибели Герман закопал во дворе ящик со своими рукописями. Отец Марии после расстрела дочери и зятя нашел его.
В 1946 г. на могилу сына и по его рукописи приехала с Урала мать Германа – Екатерина Павловна. В 1962 г. в Ольховую приезжала сестра Германа – Татьяна Леонидовна с дочерью Наташей, которой тогда было 13 лет.
Из работ Занадворова сохранились разделы недописанного романа, шесть рассказов, дневники (413 маленьких листочков), прощальные письма другу и родителям. Очень проницательное письмо он написал другу, завещал ему рукописи в надежде, что тот их опубликует. Герман страстно хотел, чтобы его работы были напечатаны как можно раньше. Мать Германа нашла друга, но тот не принял архивов Германа. Наверное, испугался ответственности за связь с человеком из оккупации. Лишь много лет спустя произведения были напечатаны в периодической печати.
Как вспоминал бывший начальник штаба 173 мсб 117 сд старший лейтенант Юртаев Даниил Васильевич, они в район Оржицы приехали после обеда (ближе) к вечеру (20-го?). По цепочке была команда: «Всем идти на переправу». Вот они и пошли, Юртаев, старшина Сологуб Михаил и Уральшин. В это время немцы открыли огонь со стороны переправы из всех видов оружия. Юртаева контузило и задело голову. Сологуб и Уральшин оттащили его в какой-то окоп. На следующий день при прочесывании местности немцы обнаружили (Юртаева) и забрали.



