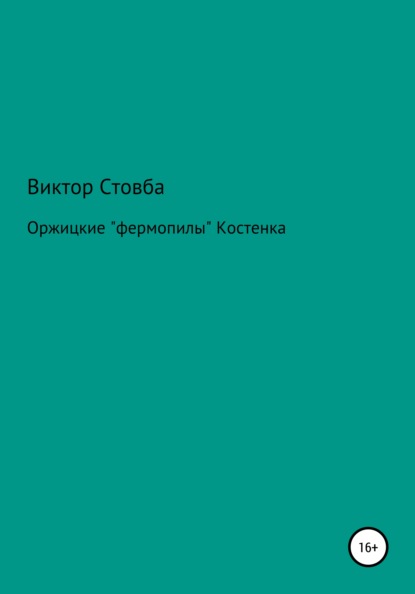 Полная версия
Полная версияОржицкие «фермопилы» Костенка
Ночь на 21 сентября приближалась. Красноармейцы в Оржице давно исчерпали ближние колодцы. Все надеялись, что скоро начнется переправа.
Верховное командование сухопутных войск вермахта временно запрещает использовать трофейное имущество и технику в 48-м танковом корпусе и посылает полковника Леттова (Lettow), начальника артиллерийского отдела штаба 3, для надзора над тамошним имуществом.
В 5.00 в штабы соединений XI корпуса поступил приказ на наступление. Проведенная ранним утром воздушная разведка позволила скорректировать представление о местах сосредоточения основных сил 26-й армии и уточнить задачи дивизиям.
Части 79-й пехотной дивизии заняли г. Золотоноша, тогда как остальные силы 6-й полевой армии вышли на линию с. Безбородовка – Драбов – Белоусовка.
Перед 257-й и 239-й дивизиями находятся сравнительно слабые силы, а основные сосредоточены перед фронтом 125-й.
Поэтому генералу Коху теперь казалось правильным изменить направление движения левофланговых соединений в северо-восточном направлении. Главной осью должна стать железнодорожная ветка Вознесенск – Золотоноша. Ориентируясь на нее, 257-й и 239-й дивизиям следовало наступать до тех пор, пока они не сомкнутся с немецкими соединениями, атакующими с севера и северо-запада.
С рассветом полки 125-й пехотной дивизии продолжили движение в глубь котла.
В 9.15 солдаты 421-го полка заняли лес севернее с. Большая Буромка и провели его зачистку. Его передовые части выдвинулись на гряду холмов западнее с. Новый Махнач. Отходившие советские войска оказывали незначительное сопротивление. Тем не менее командир полка решил потратить два часа времени, чтобы подтянуть пехоту и артиллерию для штурма. В атаку он определил усиленный 2-й батальон.
Боевая группа майора Р. Шмидта в 11.30 доложила о занятии с. Марьяновка. Ей удалось взять в плен 30 красноармейцев и многочисленные обозы. Все свидетельствовало о том, что под удар попали тыловые части.
Почти без боя усиленный 2-й батальон 421-го полка занял северную часть с. Новый Махнач и продвинулся вплоть до моста через реку. Здесь солдатам пришлось остановиться, так как переправа оказалась разрушенной. Первая же попытка чуть не привела к потерям: все подступы к мосту оказались заминированы. От боевой группы майора Р. Шмидта пообещали направить взвод саперов. До его прибытия солдаты 421-го полка оставались в бездействии.
Перед прибывшими в 12.30 саперами командир 421-го полка поставил задачу: разминировать подходы к мосту, оценить степень его повреждений и приступить к ремонту.
В 13.20 командир 125-й дивизии получил новый приказ от штаба XI корпуса. Перед соединением стояла задача продолжать наступление в общем направлении на северо-восток, одновременно уничтожая войска противника в районе к западу от р. Сула. В качестве усиления придавался 466-й полк, ранее находившийся в с. Чернобай. В соответствии с полученными задачами командир 125-й дивизии определил новую цель для своих полков: выход к руслу р. Оржица.
Тем временем 419-й полк был атакован советскими войсками численностью до батальона. Бой продолжался до 13.30 и завершился не в пользу советских подразделений. Немецкое наступление им удалось несколько приостановить, однако вскоре немецкие солдаты возобновили движение.
Уже через четверть часа боевая группа майора Р. Шмидта заняла с. Чигринов и достигла р. Старый Иржавец, выставив охранение фронтом на юго-восток. В нескольких километрах впереди был виден хвост уходившей автоколонны. Немецкие орудия открыли по ней огонь, уничтожив за несколько минут 15–20 грузовиков.
В связи с изменившейся обстановкой командир 125-й дивизии потребовал от 421-го полка ускорить движение в северном направлении. Одному из батальонов поручался захват с. Чутовка, другому – с. Новоселица. В занятых населенных пунктах следовало организовать прочную оборону, чтобы не допустить прорыва советских войск на юг.
К 14.30 завершилась переброска батарей 4-го дивизиона 125-го артиллерийского полка, которые заняли огневые позиции у с. Крестителево. Вскоре орудия 3-го дивизиона открыли огонь по скоплению советской пехоты в районе с. Чутовка. По данным наблюдателей, там находилось около двух стрелковых полков.
Во второй половине дня 420-й полк вышел на северную окраину с. Ивановка, по приказу командира дивизии туда же стал перебрасываться 466-й полк.
На этом марш частей 125-й дивизии в основном завершился. Части стали закрепляться на достигнутых рубежах. Отдел 1-ц доложил, что за сутки в плен захвачено 7600 пленных.
Новые разграничительные линии, определенные штабом XI корпуса для 239-й дивизии, требовали задействования всех трех пехотных полков в одной линии.
Построение их оказалось следующим: справа – 444-й, в центре – 372-й и слева – 327-й полки. Восточнее русла р. Крапивна действовали 444-й и 372-й полки, тогда как 327-й наступал в некотором отрыве от основных сил дивизии и с открытыми флангами.
Передовой отряд перебросили на высоты у с. Савищина, поставив перед ним задачу препятствовать попыткам прорыва в северо-восточном направлении.
Утром поступил доклад от командира 327-го полка по результатам ночных боев по удержанию плацдарма. В целом они оказались удовлетворительными, и основная задача полка – сохранить плацдарм и не допустить прорыва советских войск из котла – была выполнена. С сожалением командиру дивизии пришлось осознать, что 327-му полку нанесены значительные потери. Русские, пользуясь ночной темнотой, неоднократно прокрадывались вплотную к оборонительным позициям немцев и расстреливали солдат практически в упор.
В 10.00 327-й полк выступил с плацдарма. Его продвижение было замедленно отсутствием слева частей 257-й пехотной дивизии. Поэтому командир полка получил разрешение начать активные действия не ранее, чем соседи займут высоты у с. Синеоковка. В противном случае левый фланг окажется чрезмерно растянутым и уязвимым для контратак.
Поэтому основной удар теперь нанесли 444-й и 372-й полки. Выступив в 10.00, они, почти не встречая перед собой сопротивления, быстро продвигались вперед. Около полудня они достигли соответственно сел Кривоносовка и Хрущевка. Здесь полкам пришлось задержаться по двум причинам. Первая связана с тем, что 125-я дивизия немного отстала, и требовалось время, чтобы она выровняла фронт наступления. Вторая причина заключалась в изменении направления для дальнейшего продвижения. Дело заключалось в том, что поступили доклады от немецких войск, действовавших с севера. От сел Белоусовка и Драбов они перешли в наступление, оттесняя советские войска на юг, в сторону XI корпуса и 16-й танковой дивизии.
Также стало известно, что основные силы 26-й армии концентрируются вдоль русла р. Сула с центром у с. Оржица, готовясь к прорыву в восточном направлении. Собственных сил здесь у немцев было недостаточно, и надежды, что удар удастся удержать, было мало. Поэтому командир XI корпуса приказал развернуть ось наступления на северо-восток. Перед ними поставили задачу выйти на линию с. Чернещина – северная окраина с. Зоревка.
После полудня перед полками 239-й дивизии вновь показались моторизованные колонны, идущие на прорыв. Однако при свете дня у них не имелось никаких шансов: немецкая артиллерия сравнительно легко и быстро расстреливала их, не позволяя приблизиться к передовой линии обороны.
Передовой отряд после короткого боя занял высоту 116,0, захватив три зенитных и два противотанковых орудия. Подсчитав остальные потери, майор Райфенштуль повел своих солдат на север. Вскоре они заняли с. Красеновка и приступили к его зачистке.
В 12.30 в штаб 239-й дивизии поступило сообщение о том, что 257-я дивизия заняла с. Монжаковка и тем самым вышла на одну линию с 327-м полком. Последний теперь получил возможность атаковать, не беспокоясь за состояние своего левого фланга.
В 15.25 его солдаты достигли ветки Зоревка – Вознесенск, передовые части вышли на северную окраину с. Чернещина, высвободив тем самым 2-й батальон 372-го полка, оставленный здесь в качестве прикрытия.
Передовой отряд майора Райфенштуля в 21.00 перешел в с. Савищину, прикрыв фланг дивизии с этого направления. В дальнейшем он должен был занять с. Озёра.
Наступление 239-й дивизии развивалось почти без перерывов. Полки соединения, пользуясь отсутствием на своем участке организованного сопротивления, старались прорваться как можно дальше, чтобы не дать времени бойцам 26-й армии прийти в себя.
В 19.00 444-й и 372-й полки заняли район с. Красеновка и северо-западнее от него и находились в готовности занять до исхода дня с. Клименки и Кандыбовка.
Глубокий прорыв внутрь котла, даже с открытыми флангами, должен был привести к полной дезорганизации окруженных войск. Именно к таким последствиям приводила немецкая тактика во время Французской кампании.
Однако, как отмечали сами немцы, русские оказались не в пример крепче. Они продолжали оказывать сопротивление и наносить удары даже в такой, казалось бы, безнадежной ситуации. Поэтому немцам приходилось быть осторожнее, постоянно заботиться о флангах и готовиться к отражению новых прорывов.
Особенно беспокоил левый фланг, где соседи вновь отстали. Солдаты 327-го полка уже в сумерках заняли высоту 125,0 и укрепились на ней. Однако такую оборону нельзя было считать достаточной.
Вечером 444-й и 372-й полки заняли линию южнее с. Регушовка – северная окраина с. Кандыбовка. Им казалось, что советские войска полностью обескуражены и серьезного сопротивления уже не окажут.
В с. Чернещина остался 2-й батальон 372-го полка, не успев за светлое время нагнать свою часть.
Ранним утром части 24-й пехотной дивизии атаковали от с. Плиски в направлении г. Золотоноша. Под ее удар попала колонна, двигавшаяся вдоль железной дороги. Она была разгромлена, и в плен попали до 1000 красноармейцев и командиров.
После этого успеха 24-я дивизия выводилась из боя на этом направлении. Ее 102-й и 31-й полки, двигаясь по двум дорогам, направлялись к селам Большие Каневцы и Чернобай и далее на северо-восток. Конечным пунктом назначался район с. Борисовка – Крестителево, который предполагалось достичь уже к вечеру.
Оставшийся фронт прикрывал 32-й полк вплоть до его смены частями 257-й дивизии, после чего отправлялся по дороге вслед за 31-м. На своем прежнем участке временно оставался и разведывательный батальон.
Однако поставленная цель оказалась недостижима. К вечеру 31-й полк достиг с. Крестителево, 102-й – с. Раздол, 32-й – с. Чернобай.
Несмотря на запаздывание, командование XI корпуса рассматривало возможность участия соединения в боевых действиях уже 21 сентября на участке между 239-й и 125-й дивизиями.
На следующий день командование XI корпуса планировало дальнейшее продвижение в глубь котла с целью выхода к руслу р. Оржица. Казалось, сопротивление войск 26-й армии сломлено, ее командование полностью утратило управление своими войсками, а те – деморализованы и не способны ни на какие решительные действия. Никто, ни генералы, ни солдаты не предполагали, с чем им придется столкнуться буквально через несколько часов. Разумеется, немецкие командиры допускали, что сжатые на маленьком участке у р. Оржица советские войска пойдут на прорыв, но не предполагали всех его масштабов. На 21 сентября они планировали выход к реке и полное уничтожение котла.
На момент принятия генералом Кохом своего решения на участке 239-й дивизии части 26-й армии заканчивали свои приготовления к прорыву из окружения. Для немцев он оказался неожиданным и неприятным сюрпризом.
В ходе наступления 20 сентября части XI корпуса вышли к железнодорожной ветке Золотоноша – Пирятин, в то время как г. Золотоноша был занят частями наступавшей с севера 79-й пехотной дивизии. Тем самым окружение 26-й армии было завершено. Высвободившуюся 24-ю дивизию командование корпуса смогло перебросить правее для усиления группировки, наступавшей на Оржицу. Совместно с 257-й дивизией ей надлежало создать здесь фронт на восток и выдавливать советские войска на окопавшиеся полки 16-й танковой.
Первая половина дня для солдат 134-й пехотной дивизии прошла так же, как и в предыдущие дни, а именно – в непрекращающемся марше. Только после полудня стали поступать тревожные сообщения от соседей.
Из штабов 293-й пехотной и 16-й танковой дивизий доложили, что их боевые порядки атакованы крупными силами советских войск, рвущимися из окружения в северном направлении.
Положение у с. Белоусовка и в долине р. Чумгак весьма напряженное, не исключено, что здесь немецкая оборона не выдержала ударов и каким-то частям 26-й армии удалось выскользнуть из котла.
Командир 134-й пехотной дивизии немедленно поднял по тревоге 446-й и 439-й полки и поставил перед ними новые задачи.
Солдатам первого из них поручалось ускоренным маршем двигаться через села Тарасовка и Давыдовка на с. Драбов, а второму – прочесать берег р. Чумгак в восточном направлении.
Оберсту Шварцу, командиру 134-го артиллерийского полка, отдали приказ оказывать наступавшей пехоте всю возможную поддержку.
Третий из пехотных полков соединения – 445-й – пока оставался в резерве.
К 17.30 положение немного прояснилось, и оказалось, что поводов для беспокойства существенно меньше, чем казалось ранее. В с. Драбов прежде 134-й вошли солдаты 262-й пехотной дивизии. Поэтому 446-й полк, достигший к этому времени с. Давыдовка, пришлось там остановить.
Около 18.30 в штаб 134-й дивизии доложил лично оберст-лейтенант Райнерт, что его солдаты расположились не в с. Давыдовка, а дальше – в с. Михайловка. Контакт с соседями – 293-й дивизией и 439-м полком – пока отсутствует.
Из-за проблем со связью долгое время не удавалось определить местоположение 439-го полка. Только поздним вечером от него поступило сообщение, что его батальоны благополучно перешли по мосту в свх. Ильича.
День прошел вопреки первоначальным ожиданиям без крупных боестолкновений. На пути атаковавших немецких полков попадались только мелкие группы красноармейцев, старавшиеся избегать боя с противником. Личный состав и лошади были сильно утомлены, и им требовался отдых. Однако командование XXXV корпуса по-прежнему гнало свои войска вперед.
35-й армейский корпус (нем. XXXV. Armeekorps) – общевойсковое соединение сухопутных войск Вермахта. Образован 20 января 1940 г. как Главное командование 35-го армейского корпуса (нем. Generalkommando XXXV. Armeekorps). Командир- генерал артиллерии Р. Кэмпфе (до 19 июля 1942).
Ф. Гальдер записал в дневнике:
«Противник пытается поспешно собрать свои разбитые войска в районе Полтава, Красноград, Харьков и наступлением их в районе Ромны задержать дальнейшее продвижение группы Гудериана на восток. Противнику, пожалуй, удалось вывести из Киева больше войск, чем мы ожидали, и теперь эти войска предпринимают попытки прорваться на северо-восток и восток. В кольце окружения начинается кризис».
21 СЕНТЯБРЯ
Приказ СТАВКИ ВГК №002224 командующему 26-й армией о порядке выхода из окружения. Копии командующему войсками Юго-Западного фронта. 21 сентября 1941 г. 18 ч 00 мин.
«Больше решительности и спокойствия. Успех обеспечен. Против вас мелкие силы противника. Массируйте артиллерию на участке прорыва. Кирпонос 21.9. с Потаповым и Кузнецовым [в] районе Городище. Пробивайтесь вслед за ними на Лохвицу, Ромны. Вся наша авиация действует на вас. Ромны атакуются нашими войсками. Наши части занимают фронт Лютеньки, Белоцерковка. Повторяю, больше решимости, спокойствия и энергии в действиях. Докладывайте чаще. Б. Шапошников» ЦАМО. Ф. 48 а. Оп. 3408. Д. 15. Л. 470.
Войска 26-й армии продолжают вести ожесточенные бои в окружении.
196 сд еще вечером 20 сентября достигла Оржицы.
Из воспоминаний В. М. Шатилова, в то время исполняющего обязанности командира 196-й сд – утром 21 сентября над Оржицей появились немецкие самолеты. Они летели на небольшой высоте, оставляя за собой шлейф густого темно-зеленого дыма. Нарисовав кольцо, которое хорошо проецировалось на фоне чистого неба, самолеты исчезли. И. И. Самсоненко и В. М. Шатилов, которые наблюдали за манипуляциями немецких летчиков, поняли, что немцы в большом котле сделали маленький для их 26-й армии, персональный, так сказать. Они предупреждают, что дело табак, чтобы солдаты сдавались.
Догадка И. И. Самсоненка подтвердилась. Вскоре пришла новая группа самолетов, которые сбросили не бомбы, а листовки. На искаженном русском языке в листовках предлагалось «русь золдатам» прекратить сопротивление и «штык в земля». Командование вермахта обещало «соблюдать жизнь» и отпустить сдавшихся в плен, по домам. «В противном случае смерть». В листовках сообщалось, что Красная Армия разбита и перестала существовать. Москва, Петроград, Киев пали и поэтому выхода у российских солдат нет. К тому же 26-я большевистская армия окружена и ее окончательный разгром – дело «пары дней».
Каким бы тяжелым и трагическим ни было положение, но ни у кого из бойцов и командиров 196-й стрелковой дивизии не возникло и мысли принять предложение фашистов. Каждый из воинов был готов скорее погибнуть, чем сдаться на милость врага. Сердца их до краев заполняла ненависть к гитлеровским захватчикам и убийцам, она звала к борьбе до последней капли крови!
Фашисты для большей убедительности решили подкрепить угрозу делом. С дальнобойных орудий они начали интенсивный обстрел Оржицы, несколько раз прилетали «юнкерсы» и почти с землей сравняли это большое и красивое село.
В. М. Шатилов, вспоминая то трудное время, не перестает восхищаться стойкостью красноармейцев и командиров своей дивизии. Выдержать ежедневный натиск врага это не так-то просто, для этого нужно не только в кулак зажать нервы, но и перестать уставать, надо, несмотря ни на что, совершать марши, обороняться, ходить в атаки, оборудовать позиции, копать окопы, то есть заниматься обычной, тяжелым солдатским трудом.
Первый день пребывания 196-й сд в Оржице прошел относительно спокойно, если не считать артобстрела и бомбардировки. Подразделения дивизии эту паузу использовали для отдыха и подготовки к прорыву. В оперативной группе штаба забот было не впроворот.
Ряды дивизии поредели, не вернулись с рекогносцировки заместитель командира майор Михаил Иванович Карташов и начальник четвертого отделения капитан Дмитрий Тихонович Курбатов (1903 года, интендант 3-го ранга, официально – пропал без вести в сентябре 1941 года) – «главком штабного делопроизводства», как в шутку называли его товарищи.
Особенно остро ощущалось отсутствие капитана Трунова, который был, без преувеличения, глазами и ушами дивизии. Известно, как важно, по возможности, все знать о противнике: его численность, вооружение, расположение, намерения. Без этого нельзя воевать. И если дивизия была и действовала, если она крепко насолила фашистам, то, без сомнения, в этом в немалой степени «виноваты» капитан Трунов и его разведчики. И вот теперь, когда, словно ночь, дивизию окружает неясность, когда, как воздух, как солнечный свет, необходимы данные о том, где противник слабее, чтобы вырваться из его капкана, Трунова нет – он не вернулся с задания, скорее всего, попал в безвыходное положение и погиб, хотя слово «тупик» не вяжется с этим смелым и чрезвычайно изобретательным человеком, которого постоянно сопровождает удача. Сколько раз за три месяца боев он со своими разведчиками попадал в такой лабиринт, из которого, кажется, выбраться было невозможно, а Трунов выбирался и получал такие данные о фашистах, по которым в штабе дивизии легко было планировать боевые действия.
Третий день Трунов не появлялся, и В. М. Шатилов, зная его, хотя и не терял надежды, все же думал, что случилось непоправимое.
Забегая вперед, скажем, что, к счастью, предположения В. М. Шатилова не оправдались. Капитан Трунов вернулся (когда дивизия уже подошла к линии фронта).
После короткой артподготовки генерал Ф. Я. Костенко в нескольких местах форсировал р. Оржица штурмовыми группами стрелков и саперов и захватил небольшие плацдармы на левом берегу. Однако все попытки прорваться из этих плацдармов на восток были отражены огнем танков и артиллерии противника, который закрепился на господствующих над рекой высотах.
184-й полк пытался пробраться на восток через реку Оржица. Но немцы прямым попаданием разрушили деревянный мост.
Фактически это первое упоминание о повреждении моста.
Непонятно, о каком 184-м полку идет речь, если о 184-м стрелковом Краснознаменном полку, то он был в составе 56 сд, которая на 19.09.1941 года уже была расформирована, в Оржицких боях участие не принимала.
Из воспоминаний Михина В. С. узнаем, что они перешли в атаку. Немец не выдержал, отступил на 8 км. Из его людей ранили старшего техник-лейтенант Соколовского, который, видя безнадежное положение, сам себя застрелил. Кроме него ранили младшего техник-лейтенант Бондаря. Ели плохо, то есть то, что было с собой у каждого.
Вспоминает бывший шофер майора Садовского (заместителя командира 240 сп) красноармеец 240 сп 117 сд Миронов Иван Григорьевич, что числа 21 сентября 1941г., не доезжая немного до переправы, они остановились. Майор сказал: «Вот здесь и ждите, а то разбомбят, скопилось много (машин)» и все вышли из машин и пошли к переправе, а мы (водители) с машинами остались. Переправа эта где-то под Лубнами. Минут 30 или час прошло, их стали обстреливать, они к земле, и поползли в ярок. Там наш пулемет застрочил, а потом замолчал, попали в пулемет и пулеметчика, пулеметчик убит, пулемет разбит. И оказалось, немец недалеко был от оврага и их взял в плен. Немцы, которые их взяли в плен, в зеленой форме, оружие у них было – автоматы, сожгли при них машину.
И погнали их, и пригнали в Лубны на мельницу, там уже были пленные. Там И. Г. Миронов встретил однополчан, шофера полкового, который возил продукты, и писаря. Спрашивают его, где майор, он рассказал, как дело было, и вот оказался, мол, среди вас.
173 медсанбат 117 сд 21 армии также попал в «оржицкий котел». Командиром 173 мсб был военный врач 2 ранга Чурилов М., комиссаром – Родионов Семен Иванович, он из Куйбышева, из известных – военный врач 3 ранга Масленников Борис Михайлович, медсестры Бородина М. Д. и Коваль М., командир санитарного взвода Семенов Петр Семенович, тоже врач из Куйбышева.
Из воспоминаний капитана Э. Пискунова – из Пирятина они (187 сд) отошли в район Оржицы, где окончательно было завершено противником их окружение. Их 187 сд в составе 21 армии начала отход в направлении Гомеля, Новозибковкы, Клинцов, Прилук, Пирятина и конечным пунктом оказался поселок городского типа Оржица. При отходе приходилось вести тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника. Было два варианта отхода: один – на восток в сторону Брянска; другой – на юго-восток по ранее указанному им направлению. Очевидно, решение было принято, чтобы отходить на юг из следующих соображений. Во-первых, в направлении Пирятина и Оржицы отходили 5-я и 26-я армии, оборонявшие Киев; во-вторых, хотя их армия была недостаточно укомплектована личным составом и вооружением, но, соединившись с армиями, отходившими из Киева, представляла значительную силу. Когда их части соединились с 5-й и 26-й армиями в районе Пирятина и Оржицы, то оказалось, что они представляли собой жалкие остатки с очень ограниченным количеством боеприпасов. Пополнение же горюче-смазочных материалов и боеприпасами абсолютно отсутствовало. Каждая часть в поставках проявляла полную самостоятельность.
Дивизия (187 сд) к этому времени оказалась достаточно немногочисленной. Часть личного состава за время боев вышла из строя, а часть личного состава, к сожалению, разошлась по домам.
Дивизия при формировании была укомплектована личным составом, в основном, из Черниговской области. И вот при отходе через населенные пункты, из которых были призваны солдаты, часть личного состава, которая была слабее духом, разошлась по домам. Командир дивизии генерал-майор Иванов был ранен. Конечным пунктом отхода был н. п. Оржица. В этом населенном пункте скопилось огромное количество техники и различного вооружения. В основном, это была артиллерийская техника, автотранспорт и обозы трех армий – 5-й, 21-й и 26-й.
В Оржице около трех дней вели бои в окружении. Артиллерийские снаряды закончились, а артиллерийские орудия из грозного оружия превратились в обычные безмолвные мишени. К стрелковому оружию также не осталось боеприпасов. Положение сложилось весьма критическое. Сзади оставался Днепр, а впереди р. Оржица с заболоченными берегами. Сама река Оржица для живой силы, как водная преграда, не представляла большой помехи, но перед рекой на расстоянии 200—800 метров по обе стороны были сильно заболоченные, труднопроходимые даже для живой силы поймы. Технику можно было переправлять только через мост. С дороги свернуть ни в одну, ни в другую сторону было невозможно.



