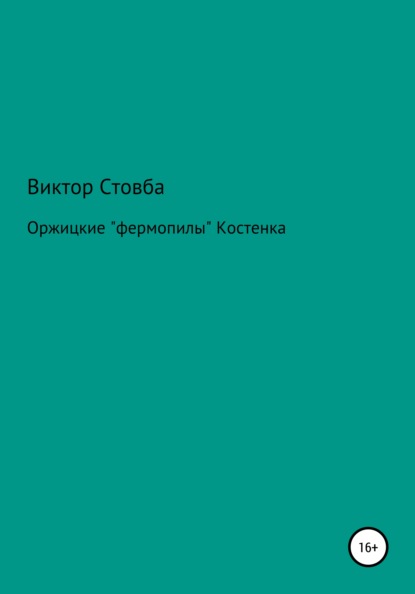 Полная версия
Полная версияОржицкие «фермопилы» Костенка
С первого дня он (Москвин) поставил перед собой и бойцами его отряда задачу не вступать в столкновения с врагом, выйти из окружения без потерь и как можно быстрее. В первый день их было тридцать три человека (из его воспоминаний узнаем фамилии некоторых из них – сержант Радченко, Черемных, Егоров), но на второй день от группы откололся ст. техник лейтенант Лосученко. Вся забота о людях легла на его плечи. Остальные бойцы были полны решимости, желая выйти из окружения в расположение наших войск.
Просидев в камышах до ночи, они вышли к скирдам соломы, немного обогрелись в них, предварительно отжав обмундирование от влаги.
Поняв, что в военной форме в тылу врага им не пройти, Москвин и его товарищи зашли в первое попавшееся село – это была Остаповка (очевидно, Миргородского района) Полтавской области – в надежде разжиться гражданской одеждой. По их наблюдениям, немцев в селе не было. Но стоило им войти – в конце деревенской улицы появились немецкие мотоциклисты. Наши бойцы укрылись в близлежащих домах. Дом, в который заскочил Москвин, принадлежал многодетной молодой женщине (из его письма военного времени – имя этой женщины – Анна Никифоровна Иванченко). Она не растерялась, тут же принесла пиджак и брюки мужа, который служил в Красной Армии, а военную форму Москвина спрятала в русской печи, заложив ее дровами. Надо ли говорить о том, что эта женщина очень сильно рисковала и собой, и детьми, которых у нее было шесть или семь, все – мал-мала меньше. Младший – младенец.
Затем двинулись в путь, в сторону Миргорода. Пройдя километров пятнадцать, наткнулись на водную преграду – реку Сула, стали искать средства переправы. Помог им в этом пасечник, у которого была лодка. Он, не колеблясь, перевез их всех на другой берег, и еще накормил медом вволю. Теперь их путь лежал по пересеченной местности, почти без единого кустика, только изредка встречались сосновые лесопосадки.
Уже не первое свидетельство участников тех событий подтверждает, что плотной обороны у немцев на левом берегу реки Оржицы не было. Очевидно, что это, в основном, были заслоны в населенных пунктах и мобильные группы.
Между тем 196 сд продолжает свой марш. Дисциплина в 196 сд была безупречна, красноармейцы и командиры устойчиво переносили все тяготы боевой обстановки. Сборы на марш были недолгими, только сгустились сумерки, подразделения снялись с места и взяли направление на с. Денисовку. Шли всю ночь на 20-е сентября, делая лишь короткие привалы. Были приняты самые строгие меры предосторожности. Впереди колонны следовал разведывательный батальон, автомобильный и гужевой транспорт был сосредоточен в хвосте, замыкал шествие артиллерийский сборный дивизион – ему была поставлена задача прикрывать дивизию от танков противника, если они появятся с тыла (фашистов можно было ожидать отовсюду!).
Для справки, артиллерийские подразделения 196 сд первого формирования: 725-й артиллерийский полк; 739-й гаубичный артиллерийский полк; 228-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион; 484-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион.
В пяти километрах от с. Денисовки танки атаковали именно в хвост колонну 196 сд, как только начало светать – на горизонте медленно наползали черные коробки.
Комиссар Чечельницкий остался в колонне, а В. М. Шатилов на коне, вместе с И. И. Самсоненко поскакал к пушкарям, на которых была вся надежда. Артиллеристы батареи старшего лейтенанта Е. И. Кузнецова приготовились к стрельбе и по команде И. И. Самсоненко, когда танки подошли метров на 150, сделали пять-шесть выстрелов. Немцы не захотели ввязываться в незапланированный ими бой, они шли на усиление охраны переправ через р. Оржица, поэтому, когда от прямых попаданий артснарядов два танка стали как вкопанные, остальные поспешили уйти.
Капитан Трунов доложил В. М. Шатилову, что комиссар поскакал в голову колонны, где, по его словам, также появились немецкие танки, и бойцы вынуждены были принять бой, им пришлось отбиваться гранатами и бутылками с горючей смесью. Согласно докладу старшего политрука Качанова, случилась беда: фашистский снаряд разорвался рядом со старшим батальонным комиссаром Дмитрием Степановичем Чечельницким, оборвав его жизнь.
Война войной, окружение окружением, а жизнь в дивизии шло своим чередом. Дивизия вошла в Денисовский лес, где людей накормили, дали им отдохнуть.
В рассказе «Война. Украина. Елена Филипенко», из солдатского письма:
«Дорогая сестричка, здравствуй! Небольшой привал позволил написать письмо. Два дня мы прорывали оцепление фрицев. Хотели переправиться через (реку) Оржица. Но силы неравны. От нашей дивизии (196 сд) остался батальон. Оружия нет. Выбираемся мелкими группами. Несмотря на это, хочу тебе сказать – смерть не пугает меня. Каждый день мы поливаем родную землю потом и кровью, часто горькими слезами, без стыда признаюсь тебе в этом. Столько жизней здесь положено! Мы по-прежнему одержимы желанием выжить и снова начать наступление на фашистов. Этой серой чуме нет места не только на советской земле, но и во всем мире. Надеюсь увидеть тебя, моя хорошая…».
В. М. Шатилов поехал в с. Денисовку, в штаб 116-й сд.
Состав 116-й сд:
Управление дивизии
441-й стрелковый полк
548-й стрелковый полк
656-й стрелковый полк
406-й легко-артиллерийский полк
255-й гаубично-артиллерийский полк
246-й отдельный противотанковый дивизион
305-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион
178-й отдельный разведывательный батальон
250-й отдельный саперный батальон
231-й отдельный батальон связи
193-й отдельный медико-санитарный батальон
136-я отдельная рота химический защиты
75-я автотранспортная рота
222-я полевая хлебопекарня
26-й дивизионный ветеринарный лазарет
453-я полевая почтовая станция
234-я полевая касса Госбанка
Буянов Виктор Федорович, командир 116 сд в период с 08 сентября 1941 по 27 декабря 1941 года, к 1941 г. – подполковник, умер в мае 1952 г., в звании генерал-майора.
Следует заметить, что командует дивизией Буянов недавно. Из воспоминаний бывшего командующего 38 генерала Д. И. Рябышева узнаем, что в августе, заподозрив неладное, он немедленно выехал на командный пункт дивизии (116-й). Каково же было его удивление и возмущение, когда он обнаружил ее командира спящим на КП. В тесном помещении блиндажа пахло водочным перегаром. Рябышеву было известно, что Еременко (в то время командир 116-й сд) боевого опыта не имеет, среди подчиненных ведет себя высокомерно. А теперь сам увидел, что он обладает и таким недостатком, который выключает его из жизни и борьбы на долгое время как личность. Такому человеку доверять нельзя ни дивизию, ни отделение. Рябышев потребовал разбудить его и отстранил от командования. О том, что произошло, доложил в штаб фронта. В командование дивизией приказал вступить подполковнику Виктору Федоровичу Буянову, который до этого занимал должность замкомдива по строевой части. Полковнику Краснобаеву (начальник штаба?) объявил выговор за проявленную беспринципность.
Оказалось, что уже двое суток 116 сд тщетно пытается форсировать р. Оржица, зацепиться за ее восточный берег. Село охвачено пожаром – горели дома, колхозные здания, вишневые сады, гитлеровцы надежно заперли их и стараются не выпустить из с. Денисовки.
В период боев августа и половины сентября 116 сд понесла значительные потери, но, несмотря на это, численный ее состав был едва ли не самым большим среди дивизий, попавших в Оржицкий котел. Очевидный факт, что 116 сд ведет бой в с. Денисовке в период 18—19 сентября 1941 года. Основная задача, вероятнее всего, захват моста через р. Оржица и прорыв на восточный берег.
Не до конца понятно, насколько плотным было кольцо окружения 116 сд в с. Денисовке, если В. М. Шатилов беспрепятственно туда прибыл для встречи с В. Ф. Буяновым и так же беспрепятственно ее и покинул. Возможно, что НП В. Ф. Буянова был за чертой окружения.
Командир дивизии подполковник В. Ф. Буянов, как показалось Шатилову, на тот момент потерявший присутствие духа, рассказал, что дивизия фактически разбита, от нее осталось не более батальона и ни одной пушки. Он собирается выйти из окружения, но предпочитает это сделать мелкими группами, советует это и В. М. Шатилову, настаивая на бессмысленности объединяться сейчас.
Относительно артиллерии сказать трудно, а вот что касается человеческих потерь, то Буянов явно преувеличивал.
В. М. Шатилов решает вернуться в штаб корпуса, чтобы доложить А. И. Лопатину о крутой смене обстановки и невозможности взаимодействия с 116-й сд. В рассуждениях В. Ф. Буянова безусловно был здравый смысл. Распрощавшись с комдивом и пожелав ему успеха, В. М. Шатилов поспешил к своим. Ему надо было доложить командиру корпуса, что обстановка круто изменилась и поэтому взаимодействие с 116-й сд невозможно. КП генерала находился в селе Оржица. А. И. Лопатин посоветовал вести дивизию туда (в Оржицу), чтобы попытаться прорваться вместе, рассказав, что здесь создается группа прорыва, в нее входит воздушно-десантная бригада. Когда 196 сд включится в эту группу, то возникнет возможность создать в месте прорыва как будто коридор, пропустить по нему других, а потом по этому коридору удастся пройти и ей.
Действительно, в Оржице были остатки 1 вдк под командой генерал-майора Усенко Н.А, но их численность навряд-ли превышала несколько десятков человек, так что назвать это подразделение бригадой можно было только условно.
Днем 20 сентября 196 сд полностью зашла в лес, тянувшийся примерно на 15 километров (от с. Денисовки почти до с. Зарог). Солдаты были на грани крайней усталости. Здесь майор В. М. Шатилов последний раз видел майора Степана Семеновича Керженевского и его жену, военврача 3 ранга Керженевскую Веру Петровну. Во время прорыва их догнал фашистский снаряд, и они навсегда неразлучные, остались лежать в степи под Лубнами.
На пути в с. Оржица 196 сд пришлось отразить несколько атак противника, в отражении одной из них принял участие и штаб дивизии. В селе Зарог, лежащему на полпути от с. Денисовка к с. Оржица, куда группа штабных работников въехала, неожиданно поднялась стрельба. Оказалось, что большая группа фашистов оседлала дорогу, не пропуская 196 сд в Оржицу. Гитлеровцы оставались верны своей тактике – пытались разбить дивизию на части и уничтожить ее. Командира стрелковой роты, которая рассыпалась в цепь по обе стороны дороги, в этот критический момент ранило. Оценив обстановку, комдив В. М. Шатилов приказал работникам штаба занять место в цепи, принял на себя командование ротой, занял выгодную для отражения атаки гитлеровцев позицию в огородах, откуда просматривались поле и лес, откуда, строча из автоматов, шли около сотни фашистов. Противостояло им чуть больше полусотни красноармейцев, пятнадцать работников штаба и ни одного автомата, зато было два «максима» плюс преимущества обороняющейся стороны.
В. М. Шатилов занял место первого номера за одним из станковых пулеметов, а молодой боец, необстрелянный красноармеец, был вторым номером. Огонь был открыт вовремя, когда гитлеровцы сравнялись с тремя пирамидальными тополями, которые росли на развилке дорог в ста метрах от пулеметов, одновременно обеими «максимами», дружно захлопали винтовки. Атака врага захлебнулась. Уцелевшие гитлеровцы исчезли в лесу. Но через несколько минут появились снова, под прикрытием трех танков, которые взялись невесть откуда. Внезапно вокруг фашистских машин начали рваться снаряды. Одна из них загорелась. Тотчас же открылся люк – и из него начали выскакивать танкисты, которые тут же были уничтожены. Потерпев неудачу, фашисты спрятались в лесу и больше атак не делали. Волшебниками, которые выручили штаб 196 сд с в самую критическую минуту, оказались расчеты двух пушек из артиллерийского полка дивизии. Подходя к с. Зарог, они заметили атакующие фашистские танки и, недолго думая, дали прикурить фашистам.
Остатки 159 сд в составе наиболее действенных сил 26-й армии, продолжали сражаться в районе 20—30 км к северо-востоку от Золотоноши. Этот центр, постепенно сокращаясь, держался до 24 сентября, пытаясь пробиться на восток в район Оржицы, но 159 сд была окружена и вела тяжелые бои у села Кандибовка.
Возможно и так, но 159 сд, малочисленна, деморализована и, как следствие, вряд ли способна дать отпор наступающим немецким подразделениям.
Моряки Днепровского отряда Пинской военной флотилии, оставшиеся в живых, вместе с частями Юго-Западного фронта вели бои в окружении, а позже небольшими группами и в одиночку с боями пробивались по вражеским тылам к линии фронта, чтобы вернуться в состав действующих флотов и флотилий. По официальной версии – под селом Кандибовкой погибло 200 моряков Днепровского отряда Пинской военной флотилии и похоронены в братской могиле в селе Сазоновке.
Попробуем более детально разобраться в событиях, которые произошли под селом Кандибовка Полтавской области в сентябрьские дни 1941 года.
Из воспоминаний Нины Алексеевны Масенко, отличницы народного образования, ребенка войны, школьницы первого послевоенного выпуска в 1950 году, бывшего завуча Кандибовской школы, заместителя председателя ветеранской организации села Сазоновка. Она помнит, как в ее родное село пришли в сентябре 1941 года немцы и выгнали их семью из дома. Помнит, как пришлось ее маме с тремя детьми жить в землянке. Помнит, как на их огороде враги расстреляли двух разведчиков. Помнит много и, чтобы не забыть, рассказывает обо всем увиденном и пережитом современникам:
«Начался бой за наше село, по-моему, 20 сентября. Было мне тогда восемь лет, и многое я не помню. Но уже после войны, после того, как я закончила сначала педучилище, а затем Киевский пединститут имени М. Горького и стала работать в Кандибовской школе, на уроках, на встречах с моими учениками, старожилы нашего села рассказывали, что бои за село были очень жестокими. Оно переходило несколько раз из рук в руки. Вечером первого дня немцы захватили хутор Китаевщину. А уже ночью моряки завязали рукопашный бой с врагами».
Вы спросите, как на сухопутной территории оказались моряки?
Дело в том, что в июле 1941 года Пинская военная флотилия, созданная годом ранее на базе Днепровской, была разделена на три отряда. Третий, Днепровский, действовал на реке Днепр.
Когда войска Юго-Западного фронта оставили Киев, моряки, подорвав свои боевые корабли, сошли на левый берег Днепра и сосредоточились в Дарнице. Нелегким был последующий боевой путь моряков флотилии. Вечером 19 сентября с личного состава кораблей, тыловых и штабных подразделений флотилии, которые сосредоточились в районе Дарницы, был сформирован отряд моряков, который состоял из двух батальонов, отдельной роты и роты офицерского состава. Возглавлял отряд капитан 2-го ранга И. И. Брахман. Позже к ним присоединились моряки других отрядов Пинской флотилии. Отсюда они пошли на Борисполь, чтобы там соединиться с отступающими войсками и выходить из окружения.
«Вместе с бойцами Юго-Западного фронта моряки вели бои в окружении. Не одну атаку захватчиков отбили богатыри в черных бушлатах. И хотя ряды их таяли, они, израненные, измученные, вставали на новые и новые контратаки. Земля была устлана трупами. Но силы были неравны. На следующий день враги ввели новые войска и овладели селом.
Среди моряков в живых не осталось никого (?). В те дни здесь, в боях за Кандибовку, погибло более трехсот воинов Юго-Западного фронта, среди которых было 200 (?) моряков. Многих жители похоронили здесь же, на месте гибели, в траншеях, а после освобождения села, 23 сентября 1943 года, останки мужественных бойцов были перенесены на сельское кладбище, а в 1968 году – в братскую могилу в центре с. Сазоновка.
Здесь были похоронены 337 человек. Сначала были известны имена только двух погибших: лейтенанта Захарова А. И. и солдата Савицкого А. Е.. Потом, в результате проведенной поисковой работы было обнаружено и документально подтверждено еще несколько имен защитников села: Лазаренко Е. Д., Максименко А. З., Бурносов И. М., Чернобаба Ф. А., Рыжов Н. Д., Вакула М. Ф.».
Нина Алексеевна вспоминает 1983 год. Сорокалетняя дата освобождения села. Необычные торжества господствовали здесь. По инициативе партийной организации и правления колхоза «Маяк», исполкома Сазоновского сельсовета и Совета народных депутатов, при широкой поддержке районного комитета партии и управления районного Общества охраны памятников истории и культуры на месте кровопролитных боев грозного сорок первого в селе Кандибовке открывали памятник.
На отполированной из черного мрамора плите выбита надпись: «Героическим защитникам земли Оржицкой – морякам Днепровской военной флотилии, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в сентябре 1941 г. в селе Кандибовка».
У подножия стелы встроен обычный корабельный якорь, который, по воспоминаниям старожилов – очевидцев тех сентябрьских дней, моряки оставили здесь, на месте боев. Долгое время якорь хранился у жителей села, и только теперь этот немой свидетель боев моряков и гибели героев занял здесь свое почетное место.
Сейчас у этой гранитной страницы мужества героев фронтовых будней проходят ежегодно 23 сентября торжества, посвященные Дню освобождения Кандибовки, и приуроченные к этой дате праздник ветеранов и пожилых людей.
Теперь обратимся к известным на данный момент фактам. К началу войны с Германией в рядах Пинской флотилии служили 2300 краснофлотцев и офицеров, до конца войны дожили лишь несколько десятков человек.
По документам последний бой флотилия провела под Борисполем (курган Язвина могила), но в селе Карань (Переяслав-Хмельницкий) стоит памятник с надписью, что именно здесь моряки приняли последний бой.
Опять же – события под Кандибовкой, где погибло 200 моряков.
Необходимо признать, что подвиг моряков под Кандибовкой не так известен, как, например, место последнего боя моряков на поле возле села Иванков Бориспольского района Киевской области.
История их боя под Кандибовкой требует дальнейшего исследования: к какому отряду они относились? сколько их было? остался кто живой? известны кому подробности боя? или только здесь они были (известны свидетельства об обстреле немцами из пулеметов группы людей «в черном» на подходе к селу Филипповичи со стороны Драбова).
Точно известно, что моряки под Кандибовкой принадлежали к Черкасской группе Днепровского отряда Пинской военной флотилии. Часть кораблей не смогла прорваться в Киев (третья группа) и затем были взорваны экипажами и затоплены 17 сентября 1941 в озере (затоне) Лезерень в 25 км от Черкасс после ухода наших частей из-за того, что оказались в безвыходной ситуации.
Из известных нам судов это:
1. БКА №45 (бывший «KU-19») – построен в 1934 году в городе Пинск на верфи «Портовые мастерские ВМС Польши». 21.09.1039 года затоплен в Королевском канале ок. Кузличина. Поднятый водолазами ВМФ СССР, отремонтированный в Пинском порту. 24.10 1939 включен в состав Днепровской флотилии, затем вошел в состав Пинской флотилии.
2. БКА №54 (бывший «KМ-14») – построен в 1932 году в Польше, бронированный посыльный катер, затопленный экипажем в 1939 году. Поднятый советскими водолазами, отремонтирован и включен в состав Днепровской, а потом и Пинской флотилии. С марта 1941 переклассифицирован в сторожевой катер (СКА), в апреле 1941 года вновь стал бронекатером.
3. Плавучий госпиталь «Молотов». Водоизмещение 400 т. Размеры 61,4 х 8,5 / 13,4 х 1,35 м. ГЭУ котломашинна, 250 л. с. Скорость 15 км / ч (8 узлов). Экипаж 35 чел., Включая медперсонал. Бывший грузопассажирский пароход производства СБ-7а Днепровского речного пароходства Наркомата речного флота. Построен в 1932 г. (завод «Ленинская кузня», Киев). Мобилизован 23.06.1941 г. и вошел в состав Пинской флотилии как госпитальное судно. Входил в состав Днепровского отряда речных кораблей. Расформирован 16.08.1941 г. и 16.09.1941 г. затоплен в оз. Лезерень.
4. Плавбаза «Белоруссия».
5. Тральщик №34.
6. Катер связи.
Экипажи этих судов и, очевидно, моряки с наземных служб флотилии в количестве около 200 человек были сведены в один отряд, загрузились на 10 автомобилей и отправился в Киев через Золотоношу. По одному из печатных источников под Золотоношей отряд принял первый бой с гитлеровцами, в котором погиб командир. После этого, 18.09.41 г. направление движения колонны был изменено на восточное и в с. Кандибовка отряд принял бой и понес первые потери. (После этого (авт..) На автомашинах удалось доехать до района поселка Оржица – дальше дороги были забиты обозами. Здесь отряд спешился, смешался с частями Красной Армии и прорывался из окружения мелкими группами.
В воспоминаниях участников Оржицких боев есть ссылка на то, что отряд моряков перешел дамбу, в другом – перешел болото.
Много лет повторяются данные о том, что под Кандибовкой погибли ВСЕ ДВЕСТИ моряков, однако, судя по всему, это не так.
Краснофлотец Зегельман Сергей Владимирович первый боевой опыт получил в Советско-финскую войну, на Балтийском флоте. В Великую Отечественную войну (20.09.41) попал в плен у Оржицы. После освобождения из плена воевал на 2-м Украинском фронте в составе 27-й армии. Участвовал в освобождении Будапешта. Закончил войну в звании старшины. Награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени. После войны продолжил службу на озере Балатон.
Правда не понятно, что значит «у Оржицы», или это все таки у Кандибовки Оржицкого района, или у самой Оржицы, или, возможно, у с. Оржица Гребенковского района?
Уже в течение полутора суток кавалеристы Борисова контратаками отбрасывали противника от с. Белоусовка, уничтожив у противника 6 танков и до 400 человек пехоты. В этом бою кавгруппа понесла потери убитыми и ранеными более 200 человек, в том числе был ранен командир 32 кд полковник А. И. Бацкилевич.
Кавгруппа четко выполняет приказ командарма-26, привлекая к себе силы противника и давая шанс стрелковым дивизиям продолжать движение на указанные им исходные позиции. Однако, только 196 сд находится в движении, пытается пробиться через р. Оржица то в с. Круподеренцах, то в с. Савинцы и возле них. 159 сд застряла в Кандибовке (или у нее) где, в конце концов и погибнет. 116 сд уже около двух дней ведет бои в с. Денисовке, упорно пытаясь пробиться именно здесь (хотя, вероятнее всего, возможны и другие решения, что полностью зависит от ее командира подполковника Ф. Буянова). 264-я сд, судя по всему, также застряла на подходах к Кандибовке.
Но в Белоусовке в это же время вели бои не только кавалеристы.
Вот свидетельство Поздяева Ивана Ивановича – служившего в 14-м особом железнодорожном батальоне, которым командовал бравый капитан Сушко: «Пробивались они с боями по территории, уже занятой врагом, в направлении города Полтавы. Под селом Белоусовка (в районе г. Лубны Полтавской области) остатки их батальона были разбиты. Командир роты оказался малодушным человеком: убежал от них ночью и попал к немцам. Весь день 20-го сентября они в окружении отражали атаки немцев. Руководил ими политрук роты по фамилии Рычаг. Они с ним держались до последнего патрона. На закате дня приказали всем мелкими группами выходить из окружения и идти в Полтаву».
Кончилось тем, что их в разных местах и в разное время переловили, согнали в кучу, окружив танкетками и кавалеристами, и погнали назад, в киевском направлении. Кто не выдерживал пути, падал на дорогу, того пристреливали. Прошел И. И. Поздяев полевые лагеря военнопленных под Пирятином, Яготином, под Киевом (в Дарнице). Политрук Рычаг умер от истощения. Выжили только молодые. Затем, после Дарницы, И. И. Поздяев побывал в нескольких лагерях в пределах города Киева. Сделал три неудачных побега из плена. После третьего побега его в группе офицеров-военнопленных перевели в лагерь Бабий Яр, затем на северную окраину Киева через Подольский район в Куренёвку, откуда ему удалось бежать в Бобровицкий район, в партизанский отряд «За Родину!». Помогла ему и бывалому разведчику Григорию Маклакову убежать киевская подпольщица Нина Ковшунова, передав им за колючую проволоку план маршрута побега.
Вот цитата из дневника Поздяева:
«Двадцатисемилетний старшина Дударь был командиром взвода в кузнечной роте 14-го Особого железнодорожного батальона. У него всегда был бравый подтянутый вид, безупречная строевая выправка; он всегда излучал спокойствие, уверенность и оптимизм; был очень толковым военным, про каких говорят: военная косточка. Когда остатки нашего батальона оказались в болоте около села Белоусовка и были пленены (а мы с командиром отделения Волковым на тот раз сумели выбраться), то в числе других попали в плен и Дударь, и политрук Рычаг. После мне рассказали, что произошло с ними. Немцы всех пленных выстроили в один ряд и вначале потребовали выдать политруков. Пригрозили, в случае отказа сообщить, расстрелять каждого пятого, затем начали отсчитывать и выводить намеченные жертвы. Никто не признавался, все угрюмо молчали. Тогда немцы ужесточили условия и начали выводить для расстрела каждого третьего. И тут Дударь сказал пожилому политруку Рычагу: „У тебя дети, тебе нужно выжить ради них, а я – неженатый, мне не о ком беспокоиться, кроме этих несчастных: я выйду вместо тебя!“. Вышел старшина из строя и сказал: „Я – политрук!“. Фашисты тут же убили Дударя на глазах у всех. Затем погнали колонну в лагерь. После в лагере в Дарнице – где пленных морили голодом – спасенный от расстрела старшиной Дударем ценой своей жизни немолодой уже политрук Рычаг заболел дизентерией и умер».



