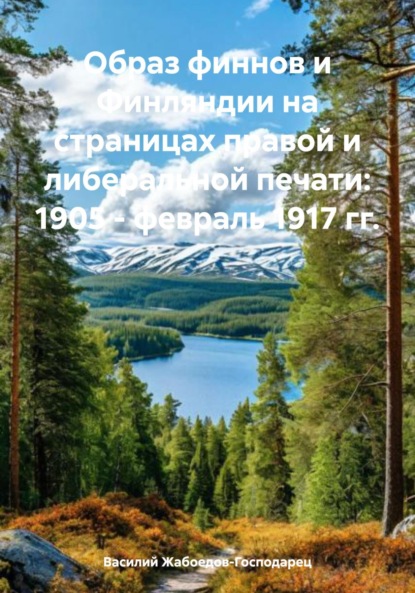
Полная версия:
Образ финнов и Финляндии на страницах правой и либеральной печати: 1905 – февраль 1917 гг.
Упование на русский национализм как основной локомотив будущего развития государства предопределило отношение правых к инородцам. Лояльность к жителям окраин зависела от их сочувствия всему русскому, если этого не было, то правые автоматически записывали их в разряд врагов, не дружественных и опасных империи. Сохранение и пропаганда национальной культуры воспринимались правыми как противодействие распространению влияния русской культуры, предвестием сепаратизма. Опасения правых не были столь надуманными. Как свидетельствует профессор В.С. Дякин, «начинаясь с движения за защиту и развитие собственной культуры, процесс национального самосознания приходит независимо от искренности деклараций возглавляющих его социальных групп к лозунгу территориальной автономии, а при благоприятствующих радикализации требований обстоятельствах – полной независимости»115.
Но при всем этом изначально националистический подход правых к окраинной политике не позволял им выявить все причины обострения национального вопроса в начале XX столетия. Как следствие они не могли предложить эффективные меры для решения накопившихся противоречий. Разделение инородцев по принципу «лояльные», «нелояльные» изначально обрекало «нелояльные» на искусственно демонизированный образ в правой печати, особую пристрастность в освещении вопросов, связанных с ними, акцентируя внимание на негативных моментах. Обратное мы можем проследить на примере «лояльных», где последние подвергались совершенно незаслуженному восхвалению116. Подобный подход всегда ставил в разряд виновных жителей окраин империи. Правые, отчасти из-за своего почитания самодержавия, не пытались даже вскрыть истинные причины ущемленного в правовом отношении положения жителей центральной России. Во всех высказываниях правых идеологов и публицистов указывается на то, что жители окраин последовательно (обманным путем), расширяли свои права и привилегии. Но при этом умалчивали, что расширяла им эти права русская администрация. Ранее уже отмечалось, что правительство было вынужденно вести гибкую окраинную политику. Привилегиями инородцев в большинстве случаев наделяли из оборонительных соображений, чтобы иметь на пограничных территориях лояльное империи население, быть в уверенности, что в случае военных конфликтов оно не будет оказывать содействие врагу. Такой подход, как отмечает финский историк М. Энгман, приводил к ограничению в правовом отношении жителей центральной России, бывших основной податной единицей. Согласно его мнению правительство намеренно не стремилось к уравниванию в правовом отношении жителей окраин и центральной части империи, чтобы последние не стали покидать обжитые места, переселяясь в более комфортные для жизни. В результате под нажимом политически грамотных инородцев (в основном это касается западных губерний) и уступчивой окраинной политики правительства разница в правовом отношении между русскими и жителями окраин становилась существенной117.
Националистическая парадигма под девизом «Россия для русских», несмотря на методологическую разработанность, была совершенно нежизнеспособна в многонациональном государстве. Принцип империализма, некогда составивший основу будущего строительства империи, обязывал учитывать интересы всех народностей, входящих в её состав. Изначально провокационный подход правых приводил на деле лишь к обострению ситуации в национальном вопросе. Освещённый подход правых в окраинной политике предопределил ракурс, под которым рассматривались инородцы и окраины империи.
Наряду с правыми свое отношение к национальному вопросу в программах партий, в печати и в публичных выступлениях выражали русские либералы. Российский либерализм конца XIX – начала XX столетия – явление уникальное. Испытывая постоянные стеснения со стороны официальной власти, он изначально воспринимался как проявление оппозиционных взглядов. В силу объективных причин либерализм не мог оформиться в общественное движение. Но совершено естественным становилось появление людей, которым были близки идеи либерализма. Среди них следует назвать, прежде всего, Т.Н. Грановского, П.Б. Струве, Б.Н. Чичерина, П.Н. Милюкова, попытавшихся развить и применить принципы либерализма к российской реальности. В частности, они заложили основы русского конституционализма, идеи правового государства и гражданского общества. Их заслуга состояла также в постановке в практическую плоскость проблем прав и свобод личности, подчинения государственной власти праву, верховенства закона. После объявления Манифеста 17 октября у российских либералов появилась возможность образовать монолитное движение в виде единой партии, но из-за различий в понимании оптимального характера власти этого не произошло. Своеобразным итогом стало появление нескольких либеральных партий: кадетов, демократических реформ, свободомыслящих, мирнообновленцев, октябристов и, наконец, в 1912 г. – прогрессистов118. Двум из них, партии конституционных демократов и «Союзу 17 октября», суждено было в последующем сыграть большую роль в решении финляндского вопроса.
Одним из камней противоречия в стане либералов было понимание решения национального вопроса. Полярность мнений не способствовала приходу к консенсусу. Относительно национального вопроса в программе партии «Союза 17 октября» есть соответствующий пункт, который дает ясное представление видения этой проблемы самими октябристами. Согласно ему октябристы выступали за унитарную форму территориально-государственного устройства, при этом они считали возможным создание областных союзов для решения вопросов культурного плана отдельных народностей. «Исключительно за Финляндией признаётся особое положение, дающее ей право на известное автономное государственное устройство при условии сохранения государственной связи с империей»119.
Фактически октябристы не были против культурной автономии, но в строго ограниченных рамках. Согласно их представлениям подобный подход к национальному вопросу являлся оптимальным, одновременно учитывающим культурные и духовные запросы жителей окраин, сочетающим эти потребности с задачами государственного строительства в многонациональной стране. Учитывая различный уровень развития жителей окраин, октябристы придерживались различного подхода к каждой из национальностей. В этой связи русскому народу отдавалась роль путеводителя этой разношёрстной многонациональной массы. Именно на его плечах лежала задача развить «отстающих», держать в общем русле «выбившихся» вперед. В этом октябристы несколько схожи с правыми, также отдающими предпочтение русским. Но коренным отличием является отсутствие стремления к русификации жителей окраин. Обязательным, согласно мнению октябристов, являлось приобщение к русской культуре всех народностей, входивших в состав империи. По их мнению, это должно было стать основным стержнем, благодаря которому обеспечивалось бы единство народностей. В связи с этим они были сторонниками умеренного русского национализма, понимая под этим пропаганду русской культуры, истории, языка.
Сам термин «национализм» в интерпретации октябристов имел романтизированный оттенок. В национализме октябристы видели источник позитивной энергии, исходящий от русского этноса, который может быть направлен на обустройство государства. Они сознательно наполняли термин национализм чувственным содержанием, уводя тем самым от проблемы межнациональных противоречий.
Приобщение к русской культуре эффективнее всего, по мнению октябристов, стоило делать посредством системы образования.
Представленное понимание формирования националистической идеи является характерным для «Союза 17 октября», терпимо относящегося к культуре инородцев, но отдающим предпочтение русской культуре. Подобные рассуждения можно охарактеризовать как скрытый национализм. Идеологи октябристов намеренно завуалировали свои взгляды за рассуждениями о высоких задачах, стоящих перед русским народом, о признании национальной культуры и языка, тем самым избежав открытых обвинений в национализме. Что для них было совершенно неприемлемо, так как они позиционировали себя как либералы.
Октябристы вполне определенно высказывались об оптимальном формате взаимодействия между центром и окраинами. Согласно их рассуждениям, «Русский центр столько поработал для окраин и на окраины, что он в праве категорически отказаться от затрат хотя бы одной копейки для вящего процветания окраин»120. Подобные высказывания практически в унисон звучали с заявлениями правых идеологов, также стоящих на точке зрения о благотворном воздействии метрополии на окраины и паразитическом характере поведения со стороны последних. Вслед за подобными высказываниями, звучали призывы к справедливости, которые начиная с 1907 г. были адресованы к Великому княжеству Финляндскому. В отношении северной соседки октябристы не проявляли последовательности. Декларировав в программе партии особый статус Великого княжества Финляндского, в последующем они не стесняли себя в резких выпадах в его адрес. По мнению А.Я. Авреха, в национальном вопросе октябристы не являлись проводниками собственного мнения, а лишь покорно следовали в фарватере намеченного курса, определяемого Столыпиным и правыми121. С автором стоит согласиться. Потому как публикации явно националистического содержания стали появляться на страницах партийного издания с момента обсуждения национального вопроса, в частности финляндского, на заседаниях Государственной Думы. В них октябристы являлись сторонниками предложений председателя правительства, зачастую выступали в полном согласии с правыми. До этого момента тон публикаций был совершенно иным. Видный правовед Э.Н. Берендтс в одной из своих публикаций уличал правых в откровенной лжи относительно Финляндии122. Зависимым положением партии от председателя правительства во многом объясняется резкий крен октябристов в финляндском вопросе, наглядно проявившийся в период обсуждения проекта общеимперского законодательства в Государственной Думе. Когда октябристы выступили ярыми сторонниками введения общеимперского законодательства, выражая солидарность с П.А. Столыпиным, с правыми, отступая от пункта собственной программы123. Пример партии октябристов весьма показателен. Несмотря на декларативные установки, вписанные в программу партии, при условии изменения позиции правительства в отношении Великого княжества Финляндского изменилась и позиция партии. Весьма отчетливо это прослеживается в тоне публикаций, соответствующих периоду обсуждения проекта общеимперского законодательства в Государственной Думе, приемов, используемых в освещении вопросов, связанных с Финляндией.
Партия кадетов, в духе либеральных традиций, проявляла максимальную взвешенность в национальном вопросе. Конституционные демократы настаивали на необходимости взаимоуважения и равноправия между представителями различных национальностей. С одной стороны, приверженность к подобным взглядам в какой-то мере объяснялась основными постулатами либерализма, с другой обходительное отношение к представителям иных национальностей обеспечивало кадетам ответную лояльность. Это было немаловажным в горниле политической борьбы. Закоренелых либералов, в силу низкого образовательного уровня большинства населения Российской империи начала XX столетия, в большом количестве среди широких масс населения быть не могло. Поэтому одним из инструментов политической борьбы для кадетов являлся национальный вопрос, которым они неоднократно пользовались для привлечения дополнительных голосов. Мы не можем утверждать о единстве мнений по национальному вопросу среди членов партии кадетов, но нам доступны материалы, публиковавшиеся лидерами партии, выражавшие официальную позицию конституционных демократов.
Преобладание национализма в официальной политике правительства начала XX столетия достаточно резко объяснял П.Б. Струве. По его мнению, «в этом одном умалении народного представительства и превознесении национального начала заключается целая историческая проблема русского развития.
Весь этот официальный национализм неизбежен при современных политических обстоятельствах уже потому, что только он может психологически скрашивать бессилие и унижение народного представительства. Он наркотизирует народное представительство и «оправдывает» абсолютизм с его противолиберальной и противодемократической политикой»124. П.Б. Струве принадлежал к правому крылу партии кадетов, являлся представителем национал-либерализма. Его нельзя заподозрить в излишних симпатиях к представителям нерусской национальности. Но, будучи человеком энциклопедических знаний, в своих работах о столь щекотливой проблеме, он мог отстраниться от своих личных чувств и дать полноценный анализ природе национализма в России, в том числе и на самом высоком уровне, характеризуя это явление как абсолютно неприемлемое.
Позиция кадетов по национальному вопросу достаточно конкретно обозначена в программе партии. Первый пункт гласит: «1. Все российские граждане, без различия пола, вероисповедания и национальности, равны перед законом. Всякие сословные различия и всякие ограничения личных и имущественных прав поляков, евреев и всех без исключения других отдельных групп населения должны быть отменены»125.
В этом пункте прослеживается стремление конституционных демократов к созданию гражданского общества, для построения которого жизненно важным условием являлось равенство перед законом, что в полной мере соответствовало идеям либерализма. Именно посредством главенства закона кадеты рассчитывали решить национальный вопрос. Исключить таким образом все возможные притеснения в отношении представителей иных национальностей. В этой же программе мы находим пункт 26, разъясняющий видение кадетов по финляндскому вопросу. Согласно этому пункту, «Конституция Финляндии, обеспечивающая ее особенное государственное положение, должна быть всецело восстановлена. Всякие дальнейшие мероприятия, общие империи и Великому княжеству Финляндскому, должны быть впредь делом соглашения между законодательными органами империи и Великого княжества Финляндского»126. Кадеты весьма почтительно относились к успехам северной соседки. И склонны были связывать это с её особым статусом. Своеобразным гарантом статуса и одновременно защитой от проникновения спрута российской бюрократии была конституция Великого княжества Финляндского. Давление на Финляндию со стороны российского правительства в конце XIX − начале XX столетия на Финляндию привело к обострению взаимоотношений между метрополией и окраиной. Давление производилось при фактическом несоблюдении действующего законодательства. Абсолютизм, с привычным пренебрежением к силе закона, был свойственен империи, но законопослушные финны за столетия привыкли к верховенству закона. Поэтому в режиме активного противодействия они встречали инициативы российского правительства. Для кадетов являлось принципиальным возвращение к предшествующей модели взаимоотношений между империей и Финляндией, потому как именно она стала залогом интенсивного развития Княжества Финляндского. В противном случае судьба Великого княжества Финляндского представлялась весьма туманной.
Близкий к кадетам некогда выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета, а в последующем видный общественный деятель М.А. Славинский следующим образом объяснял оговорки в программе конституционных демократов по национальному вопросу: «Особые оговорки делаются относительно Царства Польского и Финляндии. История возникновения в программе партии народной свободы, в первоначальной редакции принятого еще на одном из земских съездов, указывает на то, что он явился результатом соглашения между представителями имперских прогрессивных групп и представителями национальных организаций недержавных народностей империи»127. Учитывая ранее сделанное замечание относительно заинтересованности кадетов в лояльности со стороны представителей нерусских национальностей, данное предположение заслуживает внимания, в связи с тем, что последующая деятельность кадетов в рамках национального вопроса является подтверждением предположения.
Исследователь Д.П. Кондратенко приходит к выводу, что ЦК и думская фракция кадетов осторожно подходили к постановке финляндской проблемы, не стремились форсировать ее решение. Однако такой подход в конечном итоге привел к расхождению между финскими и российскими либералами. В связи с этим он предполагает, что можно выделить определённое развитие кадетской точки зрения на финляндский вопрос в период 1907 и 1914 гг. Прежде всего кадеты исходили из принципа безусловного преобладания общегосударственных интересов в регионе. Но это не мешало им в начале 1908 г. отстаивать позицию сохранения за финским законодательством приоритетного значения на территории Великого княжества (сохранение прав, данных Александром II и Александром III). К осени 1909 г. в таком подходе произошли изменения. Они проявились в создании особой финляндской комиссии при ЦК и разработке идеи так называемого «параллельного законодательства». При этом кадетская фракция в Думе выступила против законопроекта об объединении имперского и финляндского законодательства, а после же его принятия кадеты начали охладевать к финляндским делам, что проявилось в поддержке некоторыми из них осенью 1911 г. новых законов о распространении общеимперского законодательства на Финляндию, которые фактически лишали какой-либо автономии северо-западную окраину империи. С начала 1912 г. вопрос о финляндской автономии, по существу, был снят с повестки дня, поскольку кадеты вынуждены были признать новое положение Финляндии в составе России. То есть фактически произошел отход кадетов от обозначенной ими в своей программе формулировки по финляндской проблеме128. Схожей точки зрения на судьбу финляндского вопроса в рядах партии кадетов придерживаются авторы коллективного труда «Либерализм в России. Очерки истории (середина XIX – начало XX в.)» С.С. Секиринский, В.В. Шелохаев. Согласно их выводам, некоторые из членов партии кадетов − Н. А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, С.А. Котляровский, В.А. Голубев и другие − разделяли точку зрения П.Б. Струве о здоровом национализме. Что приводило к оживленным дискуссиям внутри партии. Но предупреждаемые П.Н. Милюковым о негативных последствиях подобного рода рассуждений на отношения кадетов и национальных партий, не предавали на тот момент свои суждения огласки. Придерживались официально утвержденной формулировки по национальному вопросу, закрепленной в программе партии. Это приводило к поверхностному единению в официальной партийной печати129.
Поэтому относительно Финляндии конституционные демократы, посредством своего печатного органа − газеты «Речь» делились множеством самых разнообразных замечаний. Большинство из них носили подчеркнуто положительный характер. Затрагивая тему национализма среди представителей окраин империи, они отмечали, что он носит ответный характер и воспринимать его надо только как меру противодействия засилью извне. Причем финляндский национализм в отношении друзей Финляндии, по заверениям кадетов, выражался в проявлении всяческого расположения, отзывчивости и оказании самой разнообразной помощи. Эти суждения кадетов были основаны на личном опыте после визита конституционных демократов в Великое княжество Финляндское осенью 1906 г.130
Позиция кадетов относительно национального вопроса была предопределена основными идеологическими постулатами либерализма, сторонниками и проводниками в жизнь коих являлись кадеты, а также практической необходимостью нахождения в дружеских отношениях с представителями окраин в интересах партии. Финляндия занимала особое положение в программе партии в силу ряда объективных причин. Во многом Великое княжество Финляндское являлось полным антиподом Российской империи. Антиподом в положительном смысле. В лице Финляндии кадеты имели реальный пример своим идеалистическим устремлениям в вопросе реформирования государственной системы. На примере ее они могли доказательно демонстрировать, как посредством верховенства закона за короткий период времени возможно добиться колоссальных успехов в вопросе государственного строительства, культурного развития масс. Ракурс статей относительно Финляндии в близких кадетам печатных изданиях был предопределен этими исходными. Увеличение объема статей о Финляндии являлось в большей степени ответной мерой на критические публикации правых и октябристов. Кадеты, будучи «защитниками» Великого княжества Финляндского, были вынуждены реагировать на подобное, ввязываясь в печатную полемику.
1.2. «Споры о праве»: взгляды правых и либералов на статус Финляндии в составе Российской империи в 1905-1907 гг.
Характеризуя правовой статус Великого княжества Финляндского, думские партии стояли во многом на кардинально различных позициях. Правые были сторонниками теории завоевания Финляндии, ставя её в один ряд с другими провинциями империи. Теория оформилась во второй половине XIX века, в результате дискуссий о правовом статусе Великого княжества Финляндского между сторонниками теории унии и теории завоевания. Сторонниками второй были известные специалисты-правоведы, профессора Н. Таганцев, Н. Коркунов, Э. Берендтс, В. Даневский, Ф. Мартене, А.С. Алексеев131. Профессор А.С. Алексеев писал: «Финляндия не присоединилась к России, а была присоединена к России. Связь между Финляндией и Россией основывается на договоре не между Финляндией и Россией, а между Швецией и Россией. Финляндия не самостоятельное государство, связанное с Россией реальной унией, а инкорпорированная Россией провинция».132 Акцент на завоевание Финляндии имел важное значение в анализе правыми финляндского вопроса.
Подобный ракурс рассмотрения проблемы проявился уже на первоначальном этапе полемизирования по финляндскому вопросу. Известный ученый правовед конца XIX − начала XX столетия Э.Н. Берендтс, неоднократно публиковавшийся на страницах октябристского издания «Голос Москвы», комментируя события, сопутствующие сейму в Борго, напоминал, что после подписания договора «остатки финской армии отчаянно сражаются с войсками контрагента и, получив известие о мире, рвут знамена, ломают ружья и с проклятием возвращаются на родину!».133 Замечание Э.Н. Берендтса живописало обстоятельства вхождения Великого княжества Финляндского в состав Российской империи, делая акцент на настроениях среди солдат «финской армии» шведского короля, несогласных с решением представителей финского народа на сейме в Борго. По отношению к финляндским участникам сейма в Борго правые занимали критическую позицию, уличая их в фактической измене шведскому королю, подданными которого они являлись. Подобного рода комментарии указывали на зыбкость верноподданнических чувств финляндцев, вне зависимости по отношению к кому бы они выражались: к шведскому королю или российскому монарху134.
В одной из своих публикаций Э.Н. Берендтс упоминает о появлении теории о финляндской государственности, связывая это с бывшим профессором Александровского Университета (перешедшим в 1830 г. в Упсалу) Вассером. Ученый в 1838 г. напечатал рассуждение о союзном трактате России со Швецией в 1812 г., в котором он защищал политическую самостоятельность Финляндии. После этого по данному вопросу началась печатная полемика, которая обнаружила, что финское образованное общество смотрело на теорию Вассера как на утопию. Но уже к началу 60-х г. подобные взгляды на природу русско-финских отношений в Финляндии стали распространенными135. Наблюдение, сделанное Э.Н. Берендтсом, свидетельствует об изменениях, произошедших во взглядах финнов. Они, окрыленные своими экономическими, промышленными и культурными успехами, в ином ракурсе стали смотреть на Россию, видя в ней не освободительницу от шведского владычества, а стесняющий фактор на дальнейшее развитие. Подобную эволюцию взглядов названный автор отмечает в отношении финских студентов, желающих стать стипендиатами для изучения русского языка. Если в 30-е г. XIX в. инициатива со стороны финских студентов их товарищами встречалась позитивно, то уже к середине столетия желающие получить стипендию для изучения русского языка рисковали стать объектом унизительных насмешек со стороны своих товарищей136.
В обозначенный период публикуются статьи, рассматривающие причины формирования теории о личной унии Княжества Финляндского с императором. Правые авторы связывали это с привилегиями, которыми обладало Великое княжество Финляндское в соответствии с решением Александра I. Акт наделения Финляндии привилегиями правые оценивали как проявление неудачной окраинной политики Александра I, приведшей в дальнейшем финляндцев к убеждению в предоставлении им не только государственной автономии, но и некоторых признаков государственной самостоятельности137.
«Окраины России» критично относились как к самим привилегиям Великого княжества Финляндского, так и к попыткам их расширения. В 1907 г. гнев издания вызвал проект новой Формы Правления, разработанный финской стороной, согласно которому предполагалось значительно расширить права финляндского сейма. Профессор Н.Д. Сергеевский в попытке принятия Формы Правления видел посягание на интересы России в Финляндии. Согласно его мнению, посредством этой Формы финны хотели сделать для себя имперское законодательство «обязательным лишь настолько, насколько это будет признано в местном финляндском законе»138.



