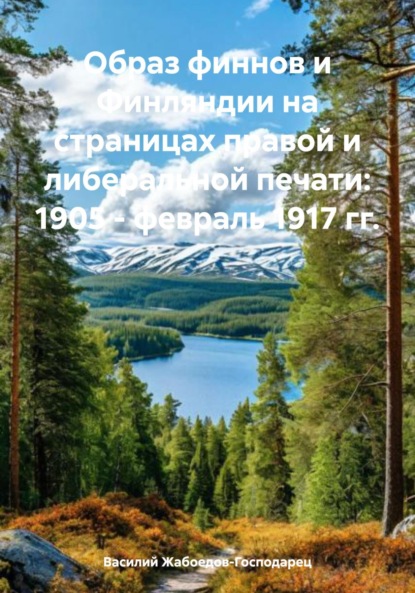
Полная версия:
Образ финнов и Финляндии на страницах правой и либеральной печати: 1905 – февраль 1917 гг.
Наряду с либеральными газетами финляндский вопрос освещался «толстыми» журналами. Одним из них был «Вестник Европы». Журнал на протяжении более полувека играл ведущую роль среди «толстых» ежемесячных журналов. Основанный в 1802 г. Н.М. Карамзиным в Москве, журнал закрылся в 1830 г. В 1866-м пять опальных профессоров Петербургского университета, вынужденных уйти в отставку из-за несогласия с политикой правительства в области образования, – М.М. Стасюлевич, К.Д. Кавелин, А.Н. Пыпин, В.Д. Спасович, Б.И. Утин – выпустили в свет новый журнал в Петербурге. В последующем журнал издавался с марта 1866 до апреля 1918 гг. в Санкт-Петербурге (Петрограде), сначала четыре раза в год, а с 1868 г. – ежемесячно. В течение сорока трех лет редактором-издателем журнала был М.М. Стасюлевич, для которого издание «Вестника Европы» стало главным делом жизни80. В 1909 г. в связи с ухудшением здоровья он оставил руководство журналом. Издателем «Вестника Европы» стал известный ученый М.М. Ковалевский (а после его смерти в марте 1916 г. − Д.Н. Овсянико-Куликовский), редактором − юрист и литературный критик К.К. Арсеньев.
С момента образования партии кадетов журнал симпатизировал их деятельности, но руководство журнала и его авторы, оставаясь верными своим принципам, не допускали мысли об эволюции в партийное издание. В начале XX века, как и в момент своего второго рождения, журнал оставался верен своему курсу: пропаганде реформ с целью дальнейшего прогрессивного развития России.
В освещении «финляндского вопроса» «Вестник Европы» стоял на профинляндской позиции. Для авторов издания Великое княжество Финляндское являлось образцом реформаторских начинаний. В действиях центрального правительства они видели угрозу дальнейшему благополучному существованию Финляндии.
Партийная печать, как лидер общественного мнения, являлась основной площадкой в борьбе за сознание масс. На страницах изданий идеологи партий, используя весь доступный арсенал словесных убеждений, шли в массированное наступление на своих оппонентов, не оставляя безучастной общественность. Последовательно проводя свою линию, используя различные лингвистические приемы, «партийцы» пытались склонить чашу общественного мнения в свою сторону, ориентируясь главным образом на образованные круги населения.
Научная новизна исследования:
Научная новизна исследования заключается в том, что оно является одним из первых в отечественной историографии комплексным исследованием образа финнов и Финляндии формируемого периодической печатью. В исследовании выявлена взаимосвязь между позицией автора печатных материалов и принадлежностью к определённому политическому движению. Определена периодическая активность печатной полемики в зависимости от обсуждения «финляндского вопроса» в Государственной думе Российской империи. Сочетание исторических и культурологических методов позволило выявить категорию образа, как инструмента воздействия на общественное мнение.
Также новизна диссертации состоит в том, что в ней исследуются принципы и приемы конструирования образа финнов и Финляндии, его смысловое наполнение и эволюция на материале правой и либеральной печати в период 1905 – февраль 1917 гг.
Определена специфика механизмов создания образа иной национальной культуры для собственной читательской аудитории.
В диссертации впервые описаны метафорические конструкты использовавшиеся правыми и либералами в печатной полемике по «финляндскому вопросу».
Выявлены основные жанры статей, которым отдавали предпочтения вовлечённые в полемику авторы.
Определены темы в большей мере эксплуатируемые правыми и либеральными авторами для создания положительного либо отрицательного образа финнов и Финляндии.
Установлена взаимосвязь частоты публикаций в правой и либеральной печати статей о финнах и Финляндии с обсуждением «финляндского вопроса» в Государственной думе.
В диссертации представлена систематизированная концепция, объясняющая зависимость отношения правых и либералов к «финляндскому вопросу» и в частности их образов финнов и Финляндии от общей политической конъектуры начала XX столетия.
Показано, как посредством печатных публикаций формировался необходимый для политических движений образ финнов и Финляндии, а также соответствующий ему общественный фон.
Наряду с этим в научный оборот вводятся материалы правой и либеральной печати за 1905 – февраль 1917 гг., посвящённые Финляндии, ранее не публиковавшиеся.
Практическая значимость работы. Научные результаты диссертации могут быть использованы при создании обобщающих трудов по истории русско-финских отношений, международных отношений в начале XX в. и истории правой и либеральной печати. Материалы диссертационной работы могут представлять интерес также при подготовке спецкурсов по истории отечественной историографии, русской журналистики и русского общественного мнения, развенчании клише, навязываемых печатными изданиями. Представленные материалы способствуют расширению исторических знаний о специфике формирования общественного мнения и взаимосвязи социально-политических и идеологических установок официальных партий с публикуемым в прессе материалом. Кроме того, выводы могут использоваться при подготовке к лекционным и семинарским занятиям, при чтении лекций по отечественной истории.
Методология исследования проблемы базируется на принципах историзма и объективизма. Принцип историзма применяется с целью «проникновения» в эпоху начала XX столетия, насыщенного событиями, влиявшими на взгляды представителей консервативного и либерального течений. Любое явление социальной действительности, формирующее образ нации и государства, представлено в развитии, во взаимосвязи с другими явлениями и процессами и с учетом конкретной исторической обстановки. Это означает, что восприятие образов финнов и Финляндии исследуется в тесной взаимосвязи с конкретными историческими условиями их возникновения. Принцип объективизма позволяет дать научное определение основных направлений, которых придерживались авторы, освещавшие вопросы, связанные с Великим княжеством Финляндским.
При анализе материалов периодической печати применяется системный метод: органы прессы рассматриваются как элементы единой системы информационного пространства, каждый из которых выполнял свою определенную функцию, ориентировался на определенную аудиторию и соответствующим образом выстраивал свою информационную политику. Кроме того, при сопоставлении текстов периодических изданий, различающихся по своей социально-политической направленности при сравнении высказываний о финнах и Финляндии, встречающихся в разных газетах и журналах, широко применяется традиционный для исторической науки историко-сравнительный метод.
Важнейшее методологическое значение для данного диссертационного исследования имеет междисциплинарное научное направление имагология81, в рамках которого исследуются механизмы формирования и функционирования в социуме образов «других», в первую очередь образов иных стран, этносов и культур. Зародившись в 1950-х гг. в недрах сравнительно-исторического литературоведения, имагология давно вышла за его рамки; ее методы нашли широкое применение в исторических исследованиях, а также в культурологии, социологии, политологии. В России в последние годы заметно усилился интерес к имагологической тематике, что отразилось в появлении целого ряда работ, посвященных проблемам взаимовосприятия народов и культур82. Предпринимаются попытки углубленного теоретического осмысления самого понятия образ «другого»/«чужого» как сложной историко-антропологической категории83.
В то же время проблема взаимовосприятия наций, народов – одна из актуальных сфер для потенциальных исследований и пристального внимания историков. В настоящий момент в исторической и социологической науках отсутствуют четко формализованные методики для выявления эволюции общественного мнения и массовых представлений народов, правительств, политических партий и социальных групп одних стран о других.
Особенностью данного диссертационного исследования является то, что впервые в отечественной историографии осуществляется анализ лексических и фразеологических средств создания образа «другого» в текстах правых и либеральных печатных изданий: автором выделяются метафоры и метафорические модели, в рамках которых описывался образ финнов и Финляндии. При выявлении метафорических моделей, использовавшихся в российской прессе для характеристики Финляндии, а также при рассмотрении стереотипов образов финнов, частоты их упоминания в российской прессе применяется традиционный и широко распространенный для социологических исследований средств массовой коммуникации метод контент-анализа, позволяющий через количественное выявление определенных характеристик текста делать выводы относительно намерений создателя этого текста или возможных реакций адресата84.
В диссертации нами представлена попытка выявить, систематизировать и проанализировать комментарии к внешнеполитической и внутриполитической ситуации в Великом княжестве Финляндском, а также освещение национального вопроса и окраинной политики; сюжеты, позволяющие дать оценку деятельности законодательных и правоохранительных органов и системы власти в целом, оценку экономики и финансов, поведения финнов в обыденной жизни и профессиональной сфере, отношение к развитию революционных настроений. Данная задача предопределила и отбор газетного материала: основное внимание мы уделяем статьям информационно-аналитического и публицистического характера (передовая статья, проблемно-аналитическая статья, комментарий), в которых превалирует функция идеологического воздействия на читательскую аудиторию, осуществляемого посредством комментирования и интерпретации событий.
Положения, выносимые на защиту:
Природа биполярного отношения правых и либералов к финнам и Финляндии была обусловлена различиями в идеологии, а также необходимости соответствия чаяниям потенциального электората в условиях становления парламентаризма в России в начале XX столетия.
Основными проблемными вопросами, затрагиваемыми в публикациях правых и либералов в рамках финляндского вопроса были: правой статус Великого княжества Финляндского, деятельность органов управления Княжества Финляндского, революционное движение в Финляндии, повседневная Финляндия.
Период наибольшей полемической активности по финляндскому вопросу приходится на 1908-1912 г. Обусловлен обсуждением ограничительного законодательства в отношении Княжества Финляндского.
Содержание публикаций правых и либералов в большей степени определялось сущностью обсуждаемых в Государственной думе законов в рамках финляндского вопроса.
Для кадетов Великое княжество Финляндское являлось неким образцом, в соответствии с которым они предполагали развивать всю остальную империю, для правых Княжество Финляндское было паразитом, сформировавшимся за счет метрополии, стремившимся к отделению.
В печатной полемике в рамках финляндского вопроса правые и либералы активно использовали такие публицистические жанры как: информационные (заметка, репортаж, интервью); аналитические (беседа, статья, корреспонденция, обзор, обозрение); художественно-публицистические (эссе, очерк, фельетон, памфлет).
Апробация исследования. Основные положения работы получили апробацию в семи публикациях85. Пять из них в изданиях, рекомендованных ВАК.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, разделённых на параграфы, заключения, списков источников (архивные источники, периодическая печать) и литературы на русском и финском языках, а также 1 приложения.
Глава 1. Великое княжество Финляндское на страницах правой и либеральной печати в преддверии «второго периода угнетения»
(1905 – 1907 гг.)
1.1.Национальный вопрос в программах правых партий, октябристов и кадетов
Правые партии, появившиеся в начале XX столетия, стали преемниками консервативной идеологии. Так, по свидетельству А.А. Дорошенко86, «консерватизм времен думской монархии отличается от консерватизма предшествующего периода. Но именно к нему он восходит своими истоками». В конце XIX – начале XX столетий в консервативной мысли России господствовали два основных направления: реакционеры (К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, В.П. Мещерский) и консерваторы-прогрессисты (Л.А. Тихомиров, С.Ф. Шарапов, Б.Н. Чичерин). Для первых было характерно неприятие всего, что связано с западной демократией − они не принимали идею прогресса в общественной жизни. К.Н. Леонтьев считал, что «спасение не в том, чтобы усиливать движение, а в том, чтобы приостановить его». Демократическая же форма правления, как считал К.П. Победоносцев, «повсюду была лишь преходящим явлением и нигде, за редким исключением, не держалась долго, уступая место другим формам».
Представители второго направления – консерваторы-прогрессисты полагали, что прогресс есть «развитие основ», как писал Л.А. Тихомиров. Среди консерваторов-прогрессистов отчетливо видны представители неославянофилов: С.Ф. Шарапов и Д.Н. Шипов. Они полагали, что власть в России принадлежит не царю, а бюрократии, и считали: «Иной, кроме царской и самодержавной, Верховной власти в России быть не может. Но под нее нужно подвести совсем иной фундамент. Этот фундамент – широкое земское самоуправление, которое должно всецело заместить бюрократию». Среди консерваторов-прогрессистов существовало также еще одно направление: либеральные консерваторы, стоявшие за учреждение в России узкосословных представительных органов и поэтапное превращение России в конституционную монархию»87. Основу государственного строя правые видели в сохранении самодержавной власти монарха, обосновывая свое убеждение утверждением о богоизбранности правящего лица и отеческом отношении к подданным. Указание на сохранение обозначенного варианта устройства правления содержится во всех программах правых партий, появившихся в начале XX столетия88.
Имевшиеся противоречия в идеологии приводили к разделению консервативного лагеря как по вопросу о существовании и полномочиях Думы, так и по отношению к пониманию сущности установившегося в результате издания манифеста 17 октября строя: одни считали его конституционным (консерваторы-конституционалисты), другие (консерваторы-охранители) полагали, что Манифест 17 октября не затрагивал основ самодержавного строя в стране89. Различия в оценках осуществившихся преобразований оформили три основные отличительные черты русского консерватизма времен думской монархии. Первая – это партийный характер консервативной идеологии. Вторая состояла в том, что тезис об отличии пути России отходит на второй план и уступает место тезису о наличии мирового заговора, на пути которого стоит русское самодержавие. Третья черта – ярко выраженный внутриимперский национализм90.
Последняя черта была характерна для всего правого лагеря, стоявшего на основе националистической парадигмы развития государства и понимавшего Россию как будущее национальное государство русских, стоявших во главе «национальной империи»91. Если внутри лагеря правых партий были расхождения по вопросам формы правления, то по вопросам национальной (окраинной) политики они противоречий практически не имели. Национализм был объединяющим стержнем для правого лагеря.
В XIX столетии одним из первых, обративших внимание на неравноправное положение жителей центральной России и окраин, был Ю.Ф. Самарин. Путешествуя по прибалтийским губерниям, он неоднократно сталкивался с фактами ущемления в правах выходцев из центральной России. В дальнейшем он издал ряд работ, в которых наглядно описал увиденное им положение дел. В своих трудах Самарин суть проблемы представлял в том, что имперская организация власти стала давать сбой на окраинах России потому, что она изменила земскому принципу и стала ориентироваться на национальный признак при нулевом национальном сознании русского человека. То есть некоторые окраинные народы стали получать привилегии. В то время как в России традиционно на каждое сословие возлагались обязанности перед государством. Тяготы оставались русским, привилегии инородцам. А это создавало возможности существования в России псевдонаций, или народов-призраков. Что в свою очередь уже в XIX веке поставило Российскую империю перед выбором: или полная денационализация империи, или Россия – для русских. Всякие промежуточные варианты будут губительны потому, что они при нулевом национальном сознании русских создадут нерусские квазинации, децентрируют власть и она перестанет служить защищающим панцирем для русского народа, который должен будет либо умереть, либо стать материалом для какого-то иного народа. За свои рассуждения Ю.Ф. Самарин прослыл одним из первых националистов и даже был вынужден за них пребывать под следствием.92
Во второй половине XIX века в печати идеи национализма активно продвигал М.Н. Катков. Начиная свою публицистическую карьеру как либерал, позднее он переменил свои воззрения и стал ярым консерватором. На страницах «Московских Ведомостей» он рисовал картину пренебрежительного отношения инородцев ко всему русскому. Напоминал о благих начинаниях, осуществляемых империей на окраинах. Призывал к открытому противодействию, даже с применением силы93.
Национализм в консервативной идеологии имел широкое фундаментальное обоснование. Правые в начале XX столетия делали ставку на него как на основную опору будущего существования империи. Д.А. Коцюбинский приходит к выводу, что идеологической первоосновой своей доктрины русские националисты называли национал-либеральную традицию общественной мысли, оформившуюся в Европе в конце XVIII – начале XIXв. С точки зрения П.Н. Ардашева, национализм развивался в Европе под влиянием Великой Французской революции: «Великая революция действительно отмечает собою конец века космополитизма и начало того века национализма, в апогей которого вступила Западная Европа на глазах нашего поколения».94 По мнению безымянного автора брошюры, изданной Московским отделом ВНС, возникновение теории национализма в Европе произошло «около 1814 года» «под политическим влиянием на почве воодушевления западных народов, освобождавшихся от порабощения и угнетения их Наполеоном»; в дальнейшем под непосредственным воздействием этой теории «совершились многие исторические перевороты: освободилась Греция и славянские народы, объединилась Италия и Германия, отделилась Норвегия от Швеции». Таким образом, идея национализма в своем аутентичном значении рассматривалась идеологами ВНС не просто как концептуализированная идея этнического предпочтения, но как идея «национального пробуждения» и «освобождения»95. Повседневная жизнь с имевшимися фактами ущемления в правовом отношении положения русских на окраинах империи приводила к возмущению представителей правого лагеря96. Они в этом видели угрозу как дальнейшему существованию этноса, так и государства. Кроме того, видя в России страну покорительницу – собирательницу земель, они настаивали на том, что «общий закон таков: покоренная страна – для завоевателей, а покоренные народы пользуются лишь теми правами, которые, смотря по обстоятельствам, благоразумно могут им дать завоеватели, но равноправия быть не может, пока население завоеванной страны не ассимилировалось и не слилось с завоевателями»97. Правые акцентировали внимание на праве сильного − диктовать свою волю побежденному98. Но, к сожалению правых, ничего подобного на окраинах империи не происходило. Они утверждали, что окраины не могут считать себя обиженными по сравнению с коренными областями, инородцы отнюдь не обделены по сравнению с русским народом. Совершенно наоборот: «окраины цветут и богатеют в то время, когда центр хиреет: инородцы живут, бесспорно, сытнее, чем русский народ»99. В рассуждениях о праве сильного, опираясь на патриотические заявления о ратных подвигах предков, правые тем не менее все больше склонялись к открытому национализму, прорывавшемуся и в ряде публикаций.
Националистическая парадигма будущего строительства государства стала основой для части программ правых партий, касающихся национального (инородческого) вопроса100. Общее отношение представителей правого лагеря по основным моментам национального вопроса выражено в постановлении IV Всероссийского съезда объединенного русского народа в Москве. Его основные положения следующие:
«Россия едина и неделима, никакие «автономии» недопустимы…; При определении прав отдельных народностей необходимо сообразоваться с готовностью … служить России и Русскому народу…; Во главе управления окраинами … должны стоять православные Русские по духу люди…; Государственным языком должен быть на окраинах один только Русский язык….; …суд должен быть русским…; Закон, войско, полиция и монетная система должны быть для окраин общими с Россией…; Православная Церковь, как господствующая в Российской империи, должна иметь на окраинах соответственное внешнее выражение…»101.
Данные положения являются теоретическим оформлением идеи о первенствующем положении русского народа среди «разношерстной» массы инородцев. Фактически это план русификаторской окраинной политики, по мнению правых, единственно верной. С думских трибун, с кафедр научных обществ, в печати – правые неуклонно проводили линию необходимости принятия вышеперечисленных мер102. Согласно разрабатываемой ими концепции, русский национализм в начале XX века достаточно «созрел», чтобы стать движущей силой для дальнейшего развития государства. Но они выдвигали одно существенное условие: для успешного применения потенциала, накопившегося в недрах русского этноса, русские должны получить ряд существенных преференций, в чем-то ставивших их выше представителей других национальностей, входивших в состав империи. По утверждению корреспондентов «Московских Ведомостей» «Россия для процветания своих учреждений, жизни, науки – должна быть русскою»103. «Русское собрание» в своем обращении к избирателям в ноябре 1905 г. заявляло: «Чуждое стеснений местной жизни, управление окраинами должно ставить на первое место общегосударственные интересы и поддержку законных интересов русских людей»104. Обращаясь к читателем со страниц партийного издания газеты «Русское Знамя», вторили им представители «Союза Русского Народа», «Россия – для русских» − в этом девизе объединяются все незыблемые основы и все заветные помыслы русского народа… Всё в России должно быть приноровлено для сознательной, здоровой в нравственном и крепкой в материальном отношении жизни русского народа»105. Правые, раскрывая смысл заявления, утверждают, что «Россией, в ее целом, нисколько не интересуются инородцы, и единственным цементом, связующим всю Россию с ее различными областями и народами, служит русский патриотизм»106.
Русский народ в представлении правых, является гарантом стабильности и благополучия государства, защитником от внешних врагов. Правые утверждали, что русский народ должен быть старшим братом в большой семье различных народностей, по «справедливости распределяющий общее благо»107. Русский народ, согласно представлению правых, составляет не только ядро, но и сущность России, ее дух и мощь, ее силу, которой «создалось, которой дышит и держится государство»108. Инородцев к подобным делам они считали неспособными как задумывающихся исключительно о собственном благе, не радеющих о благополучии государства в целом. Они настаивали на том, что в Государственной Думе инородцы будут лишь «проводить при помощи подкупленных ими других участников Думы законы, выгодные для них, обязательные для всей России и вредные для русских»109. Чтобы подобное не произошло, в качестве предупреждающей меры правые предлагали разработку избирательного закона, который «должен быть соображен с основными политическими потребностями России, чтобы обеспечивать сильное преобладание за русским народом»110. Прочие же народности, имевшие свои территории, в этих вопросах должны были, по их мнению, пользоваться лишь правом совещательного голоса. Право участия решающим голосом инородцам должно было представляться лишь в тех случаях, если законопроект касался вопросов, имеющих отношение только к их народности и их территории, не распространяющихся на всю империю111. Помимо Думы, преобладание русского народа, по мнению правых, также должно было быть обеспечено и в губерниях, «хотя бы русское население составляло меньшинство»112, и на окраинах113. Подобный подход, согласно их воззрениям, исключал появление зловредных замыслов, негативно могущих сказаться на развитии государства. Инородцы в силу своего происхождения, по концепции правых, уже являлись потенциальными носителями подобных идей.
Соответствие статусу народа – управленца должно было обеспечиваться, по мнению правых, изначальным «воспитанием русского народа как народа властелина и господина, который умеет разумно и ответственно с чувством чести и долга управлять великой страной; который умеет быть справедливым с верноподданными, но умеет также грозно смирять дерзких и непокорных»114.



