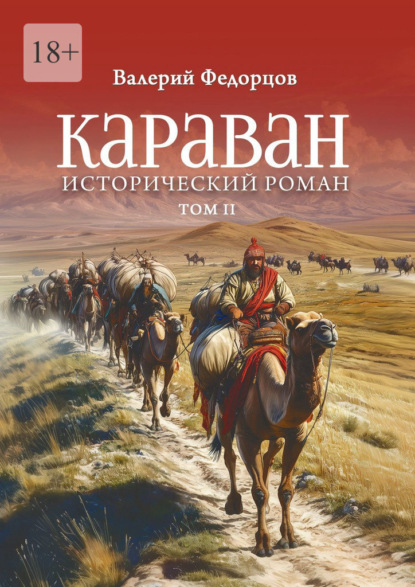
Полная версия:
Караван. Исторический роман. Том II
– Странные они люди, эти яргушники? – добавил к сказанному Салимбег, – Говоришь им правду, не верят. Начинаешь врать, верят беспрекословно. Пойми их попробуй! Теперь, после того случая, нас все горожане шпионами кличут, и сами же высмеивают за это. А что такие люди служат у самого ордынского царя*, так слава Всевышнему, что их у Тохтамыша, пока, надеемся, только двое. Было бы больше, совсем бы худо пришлось ордынскому царю*!
– Очухайся*, – перебил его Семён, – Я в первый день после бани говорил с одним из их эмиров*. Так он мне в тайне поведал, что таких как наши постояльцы, у Тохтамыша уже ровно половина. Поэтому, как он выразился, ордынский царь* сейчас, «балансирует на грани». А если, таких как эти, в его окружении станет большинство, тогда не то, что ихнему царю*, всей Орде будет хана*. А вот лучше от этого бардака станет, или ещё хуже, так это, как в народе говорится, «бабушка надвое сказала».
– Кстати! – сказал купцу с назиром* Камол ад-Дин, – У Тохтамыша в Орде*, пока ещё нет настоящих яргу*. Он, ещё только, замышляет создать у себя целый кул* этих страшных людей, как сделал это у себя мой Амир-ал-умар. Если бы Балтабай и Хула действительно были настоящими яргу*, или как вы их зовёте – яргушники, вам бы, вместе с этим Глебом, из темницы не выбраться. А эти ваши постояльцы, они всего лишь царские кешиктены*. Это, что-то наподобие московских старшах дружинников Адама Москвалика*, или личной охраны того же ордынского царя*. Но хрен редьки, как здесь говорят, не слащек!
– Однако, чужеземец, мой тебе совет, – сказал Семён, – Не связывайся ты больше с этими, нашими постояльцами. Не дразни ихнее самолюбие и слабоумие. А завтра, дуй* через переправу, пока они ещё спать будут. А Салим с вечера, их попоит, чем следует. Иначе, они с тебя ещё и бакшиш* приличный затребуют.
– Я и так собирался отбыть пораньше, – ответил Камол ад-Дин, – А за предложение, задержать этих юлэров*, рахмат*. Я сделаю так, как вы мне советуете. А теперь, расскажите мне о движении чужеземных караванов через перевоз, я, собственно, за этим сюда и приехал. И за это же, от меня деньги получите, а также, каким образом будет налажена между нами связь.
– И тут бакшиш*, только в отличие от них, мы не платить, а получать будем, – засмеялся Семён, – Ну а насчёт переправы и караванов, так это тебе пусть Салим поведает, он всеми делами занимался, а я вас пока оставлю.
– Ну почему сразу бакшиш*? – хитровато улыбнулся посланец*, – У нас в Самарканде, это помягче, и как-то поприличнее называется – хабар*. Значит, платить я вам тоже буду – хабар* за хабар*.
Семён отошёл по своим домашним делам, оставив Камол ад-Дина со своим назиром* Салимбегом наедине. Салимбег рассказал посланцу о примерном ежесуточном движении караванов через Самарский перевоз*, какие примерно товары перевозятся этими караванами, и в каких они направлениях, а также, в каком количестве направляются дальше по различным ордынским сакмам*. Какой размер ежедневной тамги* собирается с этих караванов и как производится её сбор. Кем и как осуществляется охрана этой переправы, и какие, на взгляд Салимбега, как бывшего аскера*, допускаются просчёты в её организации. Как и кем охраняются проходящие через перевоз караваны. Какие и сколько судов, ежедневно проплывает по реке Итиль* мимо переправы, что известно о перевозимом на них грузе, и как организована охрана этих судов. Здесь посланец*, возможно к своему собственному удивлению узнал, что проходящие по реке Итиль* мимо Самарского перевоза суда, ни для контроля, ни для перевалки грузов, ни для сбора тамги*, не останавливаются, а наоборот, стараются пройти мимо переправы как можно скорее.
– В этом есть свой смысл, – пояснил Камол ад-Дину Салимбег, – Здесь нет столпотворения из судов, что улучшает пропускную способность переправы для всех сухопутных караванов. Движение, как паромов, так и кораблей, здесь приходится регулировать, чтобы избежать столкновений между ними. Для этого существуют алдакчи*, которые постоянно двигаются на своих лодках вдоль движения паромов и в случае приближения к ним судов, смотрят, кого лучше пропустить первым, а кого остановить, чтобы переждал. Так же происходит и на Туратурской переправе*, что возле Тортанллы*. А перевалка грузов с кораблей, их разгрузка, а также сбор с них тамги*, и всё остальное, что связано с плаванием судов по Итиль*, Саре* и Тану*, в Орде* осуществляется на специально построенных для этого, многочисленных причалах ордынских городов, таких как: Казан*, Симбер*, Арбухим*, Укек*, Бельджамен*, Сарай-Калмук*, Сарай ал-Джедид*, Хаджи-Тархан*, Кок-Тан*, Саркел* и Азак*. Охрана Самарского перевоза* осуществляется и днём, и ночью. Но ночью, когда луна маленькая, или её на небе нет, и когда пасмурно, если лодка или судно плывёт вдоль реки по течению, то с берегов его вообще заметить невозможно. Поэтому-то, ушкуйники* и проплывали мимо основных охраняемых переправ, незамечеными. Ордынцы пытались устраивать ночные караулы на лодках. Но джете* словно знали, когда те были на воде, и пережидали ночи поблизости у берегов, используя всякого рода заросли и прочие маста, где можно укрыться. Утром же, когда начинало рассветать, караульные уплывали, чтобы поспать. Утром ведь всем известно, как спать хочется! Вот тут-то, джете*, уже засветло и плыли спокойно мимо переправы туда, куда считали нужным.
После завершения беседы, Камол ад-Дин оплатил Салимбегу, заработанный тем улуф*. К собеседникам подошёл Семён. Камол ад-Дин, распрощавшись с обоими, отправился в свой караван-сарай*, чтобы приготовиться к дороге и выспаться перед ней.
– Ты ему про московский поход Тохтамыша и наш голубиный ям*ничего не рассказывал? – cпросил у Салимбега Семён.
– Это его не должно касается, – ответил назир*, – Да он об этом и не спрашивал. Хотя если бы и спросил, не его ума это дело. Пусть идёт, как любят говорить здещние казмаки*, «на хутор бабочек ловить».
– Правильно сделал, – одобрил сказанное купец, – Чем меньше будет знать, тем крепче будет спать.
Проснулся Камол ад-Дин, когда только-что начало светать. Миссионеры перекусили наскоро приготовленным завтраком и отправились в дорогу. Когда переправлялись на левый берег, ордынских кешиктенов* на переправе не было. Значит, Салимбег сдержал своё слово, подумал посланец*. По дороге в Булгар*, он обдумывал произошедшее. На переправе Камол ад-Дин получил ещё один для себя урок. Он впервые попал в ситуацию, когда ниже его по положению «аскары»*, не выполнили его требования, да ещё и обозвали самыми непристойными словами, «ни за что, ни про что», чего в войске его Амир-ал-умара* представить было немыслимо. Но ведь таким образом, эти «хамы» и секретов ему никаких не выдали, хотя если бы поступили так, как требуют законы куча*, эти сведения в обязательном порядке оказались бы у него, айгокчи* душмана*. Вот тебе и законы бардака*, как у них тут говорят! Из этого, Камол ад-Дин даже сделал вывод. Если этими самыми законами бардака* научиться управлять, то это будет управляемый бардак*, к которому даже самый подготовленный и обученый во всех отношениях душман*, окажется не готов и проиграет. Его ведь самого, достаточно хорошо научили работать в самых экстремальных и безвыходных ситуациях, а вот в бардаке*, нет. Ну что же, будем учиться и этому, решил для себя посланец*, поглядев вдаль.
Глава 4: В Москве получили тревожные известия
До Москвы, Буга добрался без каких либо осложнений. Город продолжал жить своей размеренной жизнью не подозревая, что где-то, в далёкой отсюда Орде*, для него уже уготована беда. Безмолвная весть об этой беде, теперь находилась у Буги, но он не торопился с ней расставаться, так как то, что здесь довольно скоро случиться, для него сейчас не имело никакого значения. Для этого города, он всегда был чужеземцем, как и город для него. Буга любил относительный комфорт, который, как он считал, обеспечен ему одинаково в любом городе, и в любой стране. Если он и включался в какое-то дело, то исключительно ради получения материальной выгоды. Где платят, там и Буга. И какая ему была разница, быть ли на стороне ордынцев*, чагатайцев*, или снова урусов*. Прошлая служба Орде* оставила его хоть и не совсем уж безнадёжном положении, но всё-таки, калекой. Однако. основным его «куском хлеба», всегда оставались мозги. Слишком богатым он никогда не был, но и не бедствовал. Так себе, тихий середнячок. Обрадовался, когда, наконец, фортуна и к нему повернулась лицом. Это, когда Буга устроился к чагатайцам*, на казалось бы, самое подходящее для него место. Думал, что это уже навсегда. Но на тебе! Чагатайская миссия оказалась подложной. Она, как оказалось, только прикрывается торговыми делами, а на самом деле шпионит за своим же союзником в лице Орды*. Буге не совсем было понятно, как мог Тимур, посадив Тохтамыша на ордынский трон*, чтобы эта страна была ему преданным и благодарным союзником, одновременно, этому же союзнику, продолжать пакостить. Кроме этого, Буга никак не мог понять и то, раскусили ли его как человека эти чагатайцы*, кому он теперь служит? Дейстительно ли ему, так безоговорочно верят? Ведь он ихнему послу, этому, пока ещё «зеленоватому» и до конца не понимающему жизни Камолу, не скрывая намекал, что служит лишь ради денег, не более того. Он не может быть предан их делу также беззаветно, как сам этот посланник, или посланец*, как у них его там зовут. Тем более, как его заступник*, бесстрашный Бури, этот бесшабашный рубака-парень. Но одно дело, когда тебя иногда используют «на подхвате», при выполнении чисто технической разовой работы, а совсем другое, когда поручают особо ответственные дела, наподобие того, что ему поручего теперь, собирать тайные сведения об этих, будь они неладные, туфангах*. Ведь при малейшех же неувязках и подозрениях, ему эти урусы* голову снесут. Он даже охнуть не успеет. И ради чего всё это? Во имя блага его будущих поколений, которых у Буги нет, и вероятно никогда не будет? Тогда зачем? Нет, что-то тут не то! А тогда что? Может этот Камол прислал его специально для того, чтобы отвлечь внимание урусов* от своего настоящего лазутчика, и использует как «болвана»*? В этом, пожалуй, есть здравый смысл, подумал Буга. Отсюда и те разногласия, что возникают между Камолом и Бури. Буге теперь уже точно известно, что «дуют они, не в одну дуду», этот хитрооркий* Камол, и слишком уж прямой, и несколько твердолобый Бури. Нет уважаемые, хазаретянина ещё никто не перехитрил! Вот только что можно предпринять, для того чтобы, как сказали бы наши уважаемые иудеи, «и рыбку съесть, и ещё кое-что сделать»? А сделать нужно, пожалуй вот что! Пока отнести урусам* это послание и постараться у них же спрятаться за спинами. Необходимо пересидеть эту «первобытную трудность» и хорошенько осмотреться. А дальше, время покажет, что потом делать. Не зря же предки хазары говорили, что «всё гениальное, просто». Вот и пойду по самому простому пути. А с урусами*, за это послание посоветуюсь, как тем же чагатайцам*, на счёт туфангов*, если понадобится, потом «по ушам ездить»*. Кстати, за донесение, с урусов* можно ещё и мзду слупить.
Обдумав, казалось бы, всё до мелочей, Буга направился в белокаменную московскую цитадель*, где обратился к страже с просьбой, чтобы его непременно представили кому-то из здешних нойонов* с именами Адам. Прожив до этого достаточно долго в Москве, он прекрасно знал и настоящие имена этих людей, но решил не называть их на русский манер, а назвал так, как тех звали ордынцы*.
– Передайте, что уменя для них важная весть из Сарая*, – сказал он дружинникам, – Говорить буду только с теми, кого назвал. С другими не стану. А ещё у меня с собой важное донесение. Отдам дёшево, всего два рубля* серебром. Если же просьбу мою не выполните, то пожалеете. Но, особенно пожалеют те, кого я назвал. Меня же, в этом случае, больше не найдёте и не увидете, хотя искать будете долго, упорно и бесполезно.
Но дружинники московского князя, своё дело знали не хуже Буги. Они тут же схватили его, скрутили и поместили в темницу. При этом, дружинники не забыли обыскать этого незнакомца и найти при нём конверт с каким-то письмом на непонятном шрифте.
Препроводив Бугу в острог Ризоположенской стрельницы* и поблагодарив за бдительность своих дружинников, боярин Иван Собакин, ведавший стражей кремля, отпустил их восвояси. Сам же он, направился к Боровицкому холму в Княжеский двор*, где проживал и вёл государственные дела Великий князь Московский Дмитрий Иванович, которого теперь звали Донским. Перед тем, как направиться к князю, Собакин ещё раз вынул письмо из конверта, но из той писанины на иноземном языке, также ничего понять не мог. Боярин решил немедля поставить в известность Великого князя. Вдруг в этом послании и на самом деле окажется что-то ценное, хотя и принёс его человек, с виду больше походивший на юродивого. На счастье Собакина, Великий князь Дмитрий Иванович, вместе с мужем его сестры Дмитрием Михайловичем, находились в княжеских палатах, где обсуждали какие-то важные государственные дела. Личный стражник Московского князя, тут же доложил ему о прибытии боярина, и того сразу же пропустили в палаты. Войдя, Собакин низко поклонился князю.
– Здорово боярин! – поприветствовал его князь, – С какой вестью пожаловал, доброй, али худой?
– Пока и сам не знаю, Великий князь, – ответил Собакин, – Не смог разобрать, письмо написано поиноземному. Но одно ясно, что оно может быть ценным для всех нас. Написано письмо на каком-то, неведомом нам пергаменте*, и печать на нём иноземная. А принёс его человек, с виду похожий на юродивого, но имеющий наглость просить за него, целых два рубля* серебром. Он упоминал твоё и Дмитрия Михайловича имена на бусурманский* лад. Сказал, что больше ни с кем, кроме вас двоих, разговаривать не будет. Ну, я его взял за шиворот, да и поместил в острог, а сам бегом сюда, прямо к вам.
– Где это письмо? – cпросил Дмитрий Михайлович.
– Вот оно, – ответил боярин, и протянул воеводе письмо.
Боброк взял, посмотрел на написанное внимательно, и также ничего не поняв, передал письмо князю.
– Тут действительно написано на иноземщине, да ещё непонятно на какой? – сказал он, обращаясь к Дмитрию Ивановичу.
– Мне что-то такая писанина откуда-то знакома, – ответил Дмитрий Донской, – Похожими знаками в Сарае* пишутся ярлыки*, которые нам сюда присылают. У нас же есть толмач*, который те ярлыки* переводит. Сегодня он должен быть здесь. Эй, слуга, пойди-ка сюда!
Вошёл княжеский слуга и поклонился до пояса князю.
– Калистратыч, голубчик, – обратился Дмитрий Иванович к слуге, – Пойди. Пригласи толмача*, что переводит ярляки* с уйгурского. Пусть посмотрит, может это письмо тоже написано на том же языке? Или, каком ином, но из тех, что он знает?
Слуга покинул палаты, занявшись поиском нужного человека. Через некоторое время он вернулся обратно, приведя с собой переводчика.
– Махмудин! – обратился Донской к толмачу*, – Посмотри, не знаком ли тебе язык, на котором написано это письмицо?
Толмач* взял письмо и внимательно его осмотрел.
– Написано понашему, по уйгурски, но некоторые слова, не из нашего языка. Мне бы над ним посидеть, да «поколдовать» немного. Я бы вам перевод на вашем, на славянском принёс.
– Тогда, поди ка голубчик, позанимайся им, сколько нужно, – сказал князь Дмитрий толмачу*, – Нам не к спеху. Мы тебя здесь подождём.
Толмач вышел, но следом за ним из палат вышел и Дмитрий Боброк-Волынский. Через некоторое время они вернулись совместно. Письмо, вместе с листом из бересты*, на котором был написан перевод на русский язык, находился в руках Боброка. Его глаза выражали явное удивление и недоумение. Он обратился к Дмитрию Ивановичу.
– Нам надо сначала обсудить вдвоём. Тут такое!!!
– Благолдарю за службу, – произнёс Донской в адрес Собакина и толмача-уйгура, – Вы пока, можите быть свободными. Но далеко не уходите, можете ещё нам понадобиться.
Боярин и толмач* ушли, а воевода передал перевод письма князю. Там было написано следующее:
Достопочтенному Щиту Ислама,
мирзо Умару-Шейху, особо-секретно.
Лазутчик «Доброхот».
Принял Племенной Бык.
Донесение №…При встрече, тайный осведомитель сообщил, что в ближайший месяц ожидается военный набег ордынского царя Тохтамыша на земли русских, в частности, на их непокорное и мятежное Московское княжество. Этот набег, Тохтамыш хочет провести, как кару, за позор, постигший его страну, после поражения от русского войска в битве с Мамаем на Куликовом поле, отказ от уплаты Московским князем Дмитрием, дани его стране, и для возвращения, стреляющего огнём оружия, которое, как считает ордынский царь, русские воины московского войска, украли у ордынского войска, в ходе той самой битвы. Тохтамыш считает, что русские будут не готовы оказать ему серьёзного сопротивления, так как много своих воинов, они потеряли в той самой битве с Мамаем на Куликовом поле.
В данный момент по всей Орде ведётся сбор войска для набега. Состав войска Тохтамыша, его вооружение, количество скота и провианта, а также другие важные сведения, будут сообщены дополнительно.
«Доброхот»Задание: Выявить точную дату выступления в поход ордынского войска, а также, в каком месте и как, оно будет переправляться через Итиль (Волгу). Сообщить имена воевод и князей, участвующих в походе.
«Доброхот»– Что всё это может значить? – спросил у своего шурина Дмитрий Иванович, – Ты, что об этом думаешь?
– А что тут думать? – ответил Дмитрий Боброк, – Тут, пожалуй, всё яснее ясного. Это же, ни что иное, как тайное донесение одного из лазутчиков Аксак-Тимура*, внедрённого в ставку ордынского царя* Тохтамыша, своему правителю. В нём сообщается о том, что Орда* собирает своё войско и намерена пойти на нас войной. А это уже, не какие нибудь противоречивые голубиные «воркованья», которые мы успели получить пару дней назад! Это куда серьезнее! Тимуровский лазутчик не станет понапрасну вводить в заблуждение своего правителя! Тот ему за ложное донесение, в один момент голову с плечь снимет. Он даже охнуть не успеет. А самому Тимуру будет недосуг, так это сделают его люди. У них руки очень длинные, достанут хоть из под земли, хоть с небес.
– Но оно ведь предназначено кому-то другому? Причём здесь Тимур? – спросил князь, – И причём здесь доброхоты всякие, или племенные быки? Да и зачем Тимуру вести, о нашей с Ордой* войне? У него ведь своих хлопот хватает!
– Умар-Шейх, это сын Аксак-Тимура*, – начал пояснять Дмитрий Михайлович, – Поэтому, наверное, именно он у этого правителя занят всякими шпионскими делами. Не может же сам Тимур успевать, и вести в походы войско, и собирать «сплетни» от лазутчиков! Быки и доброхоты, это же прозвища лазутчиков всяких мастей; и тех, кто добывает сведения, и тех, кто их собирает и передаёт дальше. А донесение о нашей с Ордой* войне, Тимуру, наверное, нужны потому, что его давно интересуют наши пушки и тюфяки*. Он даже лазутчиков своих сюда присылал год назад. Ты же помнишь?
– А напомни ка мне воевода! – спросил Дмитрий Иванович, – Что там с нашими голубями получается?
– До сего дня, голуби принесли противоречивые вести, – ответил Боброк, – Из Самара, что Тохтамыш должен подойти к перевозу и переправившись, идти на нас, на Москву. Из Мохши*, что их тьма* Урусчука, выступила к Симберу*, для переправы в Арбухим* и участия в войне с какими-то южными соседями. Из Тортанллы*, что Хозтороканцы*, также перешли на левый берег для участия в войне на юге Орды*. Пока что, всё. Но донесение, что лежит перед нами, говорит о большей важности сведений из Самара*. Оно же, указывает нам на то, что пора менять методы службы наших лазутчиков. Их должно быть больше в ставках наших недругов. Мы же их навтыкали в основном на дорогах, переправах и городских базарах*. Если будем делать как этот Аксак-Тимур*, то у нас не будет тех противоречивых донесений, таких, как мы теперь получаем через голубей. Хотя и от старых методов, тоже отказываться не следует. В войнах, говорят, все средства хороши.
– Тут ещё вот что интересно, – задумчиво произнёс князь, – Как это донесение попало к нашему юродивому арестанту?
– Так это мы у него, теперь и спросим! – ответил воевода, – Калистратыч, позови Ивана, – крикнул он слуге.
– Звали? – войдя, спросил Собакин.
– Вот что, Иван, – обратился к нему князь, – Возьми пару дружинников, да приведи ка сюда этого юродивого, как ты его назвал.
Собакин ушёл и через какое-то время привёл в палаты Бугу.
– Как тебя зовут, мил человек, – обратился к нему Дмитрий Михайлович, – Кто ты, где живёшь и зачем сюда пожаловал.
– Зовут меня Бугой. Я бродник*, но последнее время проживал в Сарае*. Сюда привёз донесение, которое мне для вас передал один хороший человек, и которое теперь, вот у него, – Буга показал на Собакина.
– Послушай, мил человек, – продолжил допрос Боброк, – Или ты нам расскажешь всю правду, и ничего, кроме правды, или нам придётся отрубить тебе голову. Так что, выбор у тебя невелик. Мы хотим знать следующее. Что тебе известно о том донесении, которое ты привёз сюда, где ты его взял, и почему решил нам его именно продать, а не просто взять, и известить нас о том, что здесь написано. Говори коротко, но ясно. Нам пустые рассуждения хвилософа не нужны.
– Мне нет смысла утаивать от вас что-либо, – начал пояснять Буга дрожащим голосом, так как сказанное Дмитрием Михайловичем, его не на шутку напугало,
– Донесение это, писал ваш бывший дружинник. Зовут его Игнат Тюфяков, или Тюфянов, который сейчас в плену. Ухаживает он там, за живыми волками. Писал он его под диктовку другого человека, который и велел его доставить сюда вам. Этот человек тайно служит правителю по имени Тимур. Он и пленил того дружинника в Москве. Написано там должно быть о том, что Тохтамыш намерен пойти на вас войной. Откуда он это знает, тот человек мне не сказал. Сказал лишь, что Орда* является врагом, как вашей страны, так и его. О том, чтобы продать вам это послание, тот человек мне не велел. Это сделать, я решил сам, так как нуждаюсь в деньгах и мне не на что жить. Вот пожалуй и всё. Сказать мне вам больше нечего.
– А ты читал само это послание? – cпросил у Буги князь.
– Нет, я хотел его прочитать, но конверт был так опечатан, что вскрыть его, не порвав при этом, было невозможно, – пояснил Буга.
Неожиданно, в палаты, словно влетев, вошёл Василий Непряда. Он что-то хотел было срочное сказать князю, но увидев Бугу, осёкся.
– Какими судьбами! – спросил он, глядя на Бугу, – Ты что здесь делаешь? Давненько же мы не виделись?
– Ты что, его знаешь? – с удивлением спросил Боброк.
– А кто его в Москве не знает, – ответил Василий, – это бродник* Буга. Раньше он жил в Москве, был проводником и водил отсюда караваны в разные ордынские города. Знает обычаи многих народов Орды*, служил в ордынской коннице, знает многие языки. Год назад отсюда исчез. По рассказам торговцев, его иногда видели в Сарае*. Я его в последний раз видел тоже в Москве. Он отсюда увёл тот самый самаркандский караван и больше не появлялся.
– Вот это уже другое дело, – заулыбался Дмитрий Михайлович, – А ты, оказывается, не такой и простой, как нам здесь прикидывался? Что ты теперь скажешь? Есть, ещё чего важного добавить?
– Добавить к сказанному мне больше нечего, – ответил Буга, – Всё, что мог, я уже сказал.
– И это последнее, что ты можешь сказать?
– Совершенно верно! – ответил, стараясь держаться стойко, Буга.
– И ты нам рассказал всю правду и ничего не утаил?
– Клянусь господом! – сказал Буга и перекрестился, – Вот вам крест.
– Скажите мне люди праведные, – обратился Боброк к Собакину и Непряде, – Вы хорошо знали Игната Тюфягина?
– Как самих себя, – в один голос ответили оба.
– Калистратыч! – крикнул Боброк слуге, – Кликни-ка сюда Махмуда!
Через какое-то мгновение, в помещение вошёл толмач* Махмудин.
– Что вы можете сказать? – обратился Дмитрий Михайлович ко всем присутствующим, – Тюфягин может изъясняться на уйгурском языке?
Непряда, Собакин и Махмудин отрицательно закивали головами.
– А теперь все четверо подойдите к столу, – вновь обратился воевода к присутствующим, – Тебя, это особо касается! – показал он рукой на Бугу.
Все присутвствовавшие подошли к столу и склонились над написанным по уйгурски письмом. Пододвинулся поближе к нему и князь.
– Это писал дружинник Тюфягин? – задал вопрос Боброк.
– Нет! – первым ответил Непряда, – Это не его рука. Я его руку знаю. Да и написано оно не понашенски.
– Игнашка? Да ну-у-у! – повеселел Собакин, – Он на нашем-то пишет как маракуша*! Его каракули я бы узнал точно, хоть на каком!
– Так, по уйгурски может написать лишь уйгур, и то не каждый, – сказал своё слово Махмудин.
Один только Буга стоял молча. Он не знал, что сказать. Буга и сам не мог понять, что могло произойти. Он точно знал о том, что пленник Игнат писал под диктовку заступника* самаркандского посланца*, это донесение специально для московского князя и его главного воеводы. Но как могло у них оказаться это письмо на совершенно другом языке, и знать бы, что в нём написано? А между тем, все присутствующие повернулись и молча, уставились на Бугу, вероятно ожидая, что скажет он. Единственным, здравым смыслом, что мог сейчас витать в голове Буги, являлось то, что Бури мог в спешке перепутать конверты. Здесь Буга был прав. На самом деле всё так и было, но об этой путанице ещё никто не знал, в том числе и сам Бури. Но Буга не мог знать и полном замысле самаркандца. Поэтому, у него оставался без ответа и другой вопрос – зачем Бури вёз с собой в этот шевырляйский лес тот пакет, что теперь лежит на столе, перед князем и его воеводой? О содержании данного письма Буге также не было известно. Ему оставалось теперь только одно, продолжать играть с этими урусами* «в тёмную», то есть ссылаться на перепутанный тем «доброхотом» пакет, а там «куда кривая вывезет». Если в этом же письме окажутся те же сведения о готовящейся войне, которые Бури просил Бугу передать урусам*, но с другим донесением, написанным рукой этого неудачника Игната, то можно считать, что Буге, на этот раз, невероятно повезло. Урусы*, по крайней мере, оставят его в живых.



