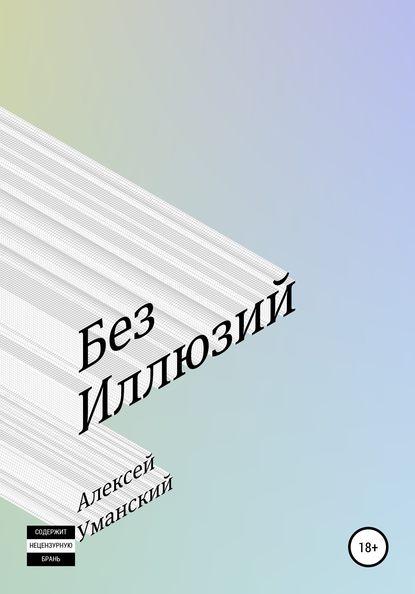 Полная версия
Полная версияБез иллюзий
Все, о чем говорил Саша, сидя рядом с Юлей, Витей и Михаилом на мостике катамарана, укладывалось в одну часть мозга, тогда как другая жадно, как новое, вбирала в себя привычные картины водных просторов, зеленых островов, проливов, ведущих в соседние плесы. Витя, в отличие от Саши, был в большей степени зачарован чудесами природы, будь то вода, леса или горы. Когда он ходил со своим другом Левой Юдиным на Памир, они побывали при прохождении туристского маршрута (не в ходе специального восхождения!) на двух его семитысячниках: на пиках Ленина и Евгении Корженевской. Витя оказался способным преодолевать себя и разные невзгоды ради того, чтобы перед ним распахнулось невиданное. Немалой решимости требовали и водные маршруты. В них Юля была ему надежной опорой. Она и в горный поход по Тянь-Шаню пошла вместе с мужем. Правда, тогда в их группе произошла неприятность. В числе их спутников находился и Миша Берлинский, сотрудник Вити в отделе Феодосьева, который потом работал у Венина. – Так вот, Миша в этом походе настолько обморозил ноги, что ему пришлось после возвращения ампутировать несколько пальцев. Берлинский допустил серьезную оплошность – не менял на ночь отсыревшие носки на запасные сухие, рассчитывая, видимо, что в спальнике на себе он их просушит. Витя не интересовался состоянием Мишиных ног, хотя какие-то поводы для этого, по-видимому, все же были. Считать Витю физическим виновником Мишиного несчастья оснований, конечно, не было, тем более, что и Миша отнюдь не являлся новичком, но некая моральная ответственность за случившееся на Вите как на руководителе все-таки оставалась.
Ночные температуры на леднике, да и собственные ощущения могли бы просигналить о необходимости выяснить, у всех ли все в порядке. Но Витя был поглощен собой и ни о чем не спрашивал. Ему было достаточно того, что с ним самим, возможно – еще и с Юлей – все в порядке.
Было ли это выражением обычного эгоцентризма, свойственного многим, или чем-то похуже – вроде полного безразличия ко всем и вся, если в них нет никакой заинтересованности, Михаил себе голову не ломал. Ему вполне хватало того, что Витя сам исправно приятельствовал с Феодосьевым, когда после первого разгрома («реорганизации» – по-Плешаковски) отдела Горского попал в отдел Феодосьева. Он действительно старался соблюдать нейтралитет в столкновениях Горского и Феодосьева, но когда обстоятельства требовали сделать выбор в пользу одного или другого, он неизменно принимал сторону Феодосьева, даже когда даже не по совести, а по уму точно понимал, что прав Горский, а не Феодосьев – так ему было проще жить. Ум у Вити был своеобразный. За долгую жизнь – а он был всего на четыре года моложе Михаила – он не потерял тяги к новому и готовности к учебе. Предметом его особого интереса были иностранные языки. Он старался проникнуть в основы санскрита, японского, тюркского, шведского и Бог знает каких языков еще. Возможно, в нем погиб слишком поздно проснувшийся специалист по сравнительному языкознанию, которым он в силу этого обстоятельства стал заниматься только как хобби, а не профессионально.
Еще его притягивала к себе теория паруса и корабля. Здесь в нем мог бы показать себя уже не лингвист, а физик, но Михаил не раз убеждался, что образованность в области физики, в частности – механики, не обеспечивала ему самостоятельное раскрытие довольно простых вопросов, которые занимали его. Но все равно – Витины потуги к познанию выглядели гораздо более праведными и благородными устремлениями, чем постоянная тяга Бориспольского к одному – всегда находиться на острие интеллектуальной моды в кругу себе подобных, конечно же, включая сюда и политику с ее штампами и контрштампами, набившими оскомину еще в советские времена, но вовсе не отправленными в утиль в постсоветскую эпоху. Кстати, верность Бориспольского своим предпочтениям легко было опровергнуть доказательством от противного. Михаил сразу приступил к испытанию.
– Саша, хотите посмотреть? – спросил он, протягивая стопочку бумаг.
– А это что?
– Это краткое изложение моей философии.
– Вот как? – слегка удивился Саша и прочел вслух: «Очерк философского осмысления бытия». Ну что ж, посмотрю.
Это было сказано без особого энтузиазма, но и без снисходительности в голосе. Бориспольский отложил в сторону книгу, с которой сидел в шезлонге и начал читать очерк. Михаил предвидел, что Саше его работа обязательно не понравится, однако не мог сказать определенно, по каким именно мотивам. Сашина реакция на достаточно любопытный и не скучно написанный труд оказалась крайне лаконичной, если не скупой. «Судя по дате, это написано четыре года назад». Однако за внешней неадекватностью ответа – в нем не было как будто никакой оценки по существу – Михаил увидел полную определенность. Она заключалась в следующем. Сашу сильно поразила, задела и проняла логика рассуждений Михаила. Это должно было бы вылиться в признание достоинств работы Михаила, но таких выводов Саша не мог себе позволить – это было бы равносильно возведению Михаила в ранг корифеев, а таковым Бориспольский его никогда не считал и потому признавать не собирался. Он был настолько внутренне оскорблен тем, что это было продумано и написано не им и не кем-то из тех, от кого он мог бы это ожидать, а Горским, чей «потолок» был давно уже известен всезнающему Бориспольскому, что его возмущенный ум искал хоть какой-нибудь способ принизить зарвавшегося автора, не имеющего права быть таким прозорливым, каким он себя показал. Прямых оснований для принижения оценки он не находил. Поэтому Саша использовал единственное явное место, которое могло принизить Михаила хотя бы слегка и стать чем-то вроде легкого щелчка по слишком высоко задранному носу Горского – дать ему понять, что может быть, четыре года назад он и имел основания чувствовать себя умным человеком, но четыре года спустя он подобного права уже не имеет.
Логика Борспольского развеселила Михаила. Поэтому он решил при случае дать ему новый урок, а если понадобится – то и уроки, чтобы заставить Сашу аккуратней выражаться о своем бывшем шефе, пусть тот и думать не мог подняться на такой же директорский уровень, какого уже достиг Бориспольский.
Случай вскоре представился, по радио и телевидению все еще говорили о причинах гибели гигантской российской подводной лодки «Курск», причем окончательный официальный вывод гласил: причиной гибели корабля был самопроизвольный взрыв торпеды внутри его корпуса. Это была вопиющая ложь, которую опровергали даже известные детали официальных сообщений.
– До чего надоело слышать эту лажу насчет торпед «Гранит», – сказал Михаил.
– Почему лажу? – встрепенулся Саша, и Витя тоже повторил, только не возмущенно, а заинтересованно: «Почему?»
– Хотите знать? Тогда слушайте. Мой анализ опирается исключительно на сведения, в разное время публиковавшиеся от имени официальных лиц и инстанций, в чьем ведении был корабль, а затем и следствие. В этом множестве разноречивых фактов и суждений мне удалось выстроить логическую цепь и устранить кажущиеся противоречия. Если логика моей интерпретации вам не понравится, попробуйте опровергнуть.
Итак, что было известно с самого начала об этой истории? Довольно многое. Первые океанские боевые учения Северного флота после развала СССР широко освещались в прессе. В частности, было заявлено, что проведение столь дорогостоящего мероприятия было особо согласовано с Минфином и другими правительственными органами, и на него были выделены крупные денежные и материальные ресурсы. Из этих сообщений прямо-таки выпирало слово «океанские» учения, под которыми понимаются действия флота вдали от родных берегов, где-то там – за дальними горизонтами. А где реально проходили учения? Где, на какой глубине затонул «Курск»? На континентальном шельфе к северу от нашего Кольского побережья и побережья Норвегии, то есть рядом с берегами. Глубина в месте гибели лодки называлась всегда одна и та же – 108 метров. Это вам не открытый океан и не дальний поход с маневрами. Что касается «океана» – это первая ложь, вступающая в противоречие с заранее обнародованной истиной – Северному флоту государство выделило очень крупные средства на океанские учения. А что следует из этого противоречия? То, что командование Северного флота под газетную трескотню провело обманную операцию – вместо дальнего похода – ближний. Разница в стоимости того и другого огромная: это десятки тысяч тонн топлива, это сотни вагонов с провиантом, и нет никакой сложности в том, чтобы эту «сэкономленную» разницу между запланированными и израсходованными материальными ресурсами втихаря продать на свободном рынке, а выручку распихать по карманам форменных штанов с широкими лампасами. Вот почему гигантская подводная лодка водоизмещением 24000 тонн проводила «учебно-боевые действия» в акватории с глубинами порядка 100 метров. Это все равно, что купать слона в квартирной ванне – неэффективно (для этого предназначены и существуют другие корабли, в том числе и гораздо меньшие подводные лодки) и опасно, что и подтверждено печальной судьбой «Курска». Такой гигант сделан для операций в океанических глубинах, где он практически не заметен, где можно идти с высокой скоростью, не опасаясь, что внезапно, при небольшом смещении с заданного горизонта воткнешься в морское дно. А так «Курск» полз себе со средней или малой скоростью, вряд ли превышающей 15-20 узлов, скорей всего на перископной глубине и при этом под днищем лодки оставалось не более 50 метров. Что было сообщено постфактум, то есть после гибели лодки, о том, что этому предшествовало? А было сообщено, что последним сообщением с лодки была радиограмма командира лодки Лячина командованию флота с просьбой разрешить торпедную атаку. По логике учебно-боевых действий лодка уже выполняла свою автономную задачу, и если она должна была по плану провести торпедную атаку, то зачем дополнительно спрашивать на нее разрешение, демаскируя себя? Ведь ей для этого требуется посылать акустические сообщения находящимся поблизости надводным кораблям, а те уже могут ретранслировать их по радиоканалам. Источник же акустического излучения под водой легко пеленгуется. Если иностранные подводные лодки находились в районе наших маневров (а они там безусловно были, о чем также сообщалось в прессе) они легко могли определить текущее место и курс нашего «Курска», что, несомненно, и было ими сделано. Но вернемся к запросу Лячина на разрешение кого-то атаковать торпедами. Во-первых, как я уже говорил, в данном случае разрешение могло потребоваться либо потому, что в задании на этот день и час торпедная атака вообще не планировалась; либо, если планировалась, ее целью был другой объект, а не тот, который предусматривался уже выполняемым заданием. Инициатива по изменению планового сценария исходила от командира подлодки. Что он мог захотеть атаковать с разрешения штаба флота? Я считаю, что целью могла быть только иностранная подводная лодка, обнаруженная «Курском», а конкретнее – американская или английская атомная субмарина.
– Вы что, считаете, что он просил штаб разрешить ему утопить американскую или английскую лодку? Но ведь это война! – не выдержал Саша. – Нет, это совершенно невозможно!
Вы ошибаетесь, возразил Михаил, – и сейчас я объясню, почему. Военным маневрам любого флота, в том числе и нашего, всегда предшествует сообщение соответствующего МИД»а о районе их проведения с просьбой судам и самолетам всех морских держав в такой-то период не посещать акваторию и воздушное пространство над ней, ограниченное такими – то и такими-то координатами. Для чего это делается? Для того, чтобы не подвергать чужие корабли и самолеты опасности гибели – ведь там флот будет проводить боевые стрельбы, и если кто-то сунется туда на свой страх и риск, ему мало не покажется. Конечно, противостоящие друг другу флоты не слушаются предупреждений – и мы посылаем свои корабли, подводные лодки и самолеты в район чужих учений, и это все ради того, чтобы узнать возможно больше о чужих кораблях, их оружии и тактике в процессе практических действий. Таким образом, если бы Лячин утопил иностранную подводную лодку, Россия не понесла бы за это никакой ответственности – ведь мы просили туда не соваться и не рисковать.
– И вы считаете, что Лячину разрешили торпедировать иностранную лодку? – всерьез напрягшись для спора, спросил Саша.
– Именно так.
– Но это невозможно себе даже представить! Это просто преступление и даже нонсенс с точки зрения теперешних отношений с Западом!
– Что это по существу преступление – не спорю. А с точки зрения отношений между Россией и Западом, победившим в холодной воде, вовсе не нонсенс, особенно с точки зрения военных. Они долгие годы рассматривали друг друга только через прицелы, и из их сознания образ врага отнюдь не исчез.
– Но теперь-то это противостояние в позе готовности к броску прекратилось!
– Кое-что действительно прекратилось – скажем, отменены рейды стратегических бомбардировщиков над океаном на позиции атаки вражеских территорий, а кое-что – нет.
– А что именно?
– Военные с обеих сторон по прежнему стремятся нанести максимальный ущерб военной мощи даже бывшего противника. Чаще это, конечно, делается дипломатическими средствами – путем заключения договоров об уничтожении таких-то и таких-то средств нападения и обороны, но если только они усматривают возможность нанести противнику-партнеру еще больший ущерб, чем это следует из договоров, да еще и безнаказанно – будьте уверены – они это сделают. – Так что же, по-вашему, решили в нашем штабе? – Решили одобрить инициативу Лячина. Я даже догадываюсь, в каких именно выражениях они первоначально мотивировали свое согласие на торпедную атаку. – Спрашиваете, в каких же? Узнав, что «Курск» обнаружил на подходящем расстоянии для атаки чужие лодки, они высказали одновременно протест против наглого вторжения и согласие с Лячиным в самой убедительной форме: «А не хуя им тут делать!» Уверен, что эта фраза вырвалась сразу вместе из нескольких ртов. Затем они ответили Лячину, что разрешают сделать то, о чем он просит. Не упустите, кстати, из рассмотрения еще одну немаловажную деталь – Лячин был уверен, что за уничтожение чужой атомной субмарины он непременно удостоится звания Героя России, и это несомненно подогревало его боевой энтузиазм, если вообще не было первопричиной его инициативного предложения. Забегая вперед, можно отметить, что лично насчет себя он не ошибся. Ему действительно присвоили звание Героя России, правда, посмертно, к тому же, вопреки уже всякой логике – за бездарную гибель его же корабля.
– Почему вы так считаете?
– Потому что чужую лодку он не уничтожил, как собирался. Потому, что он понятия не имел о том, что с точки зрения обеспечения безопасности нашего государства – а это в истории с «Курском» самое печальное и даже самое страшное – что американцы не испытывали никаких затруднений с прочтением шифровок Лячина и штаб флота. Беру на себя смелость утверждать, что это и стало главной причиной нашей трагедии. Смотрите сами. Главнокомандующий всем военно-морским флотом России адмирал Комоедов – а вслед за ним то же мнение высказал и вице-премьер правительства Илья Клебанов – заявил, что «Курск» был протаранен иностранной подводной лодкой в носовой части, что подтверждалось фотографией пробоины, у которой кромки загнуты внутрь корпуса. Впоследствии это честное объяснение было официально отвергнуто (но не опровергнуто), адмиралу Комоедову приказали замолчать, но своего первоначального мнения он все равно не изменил, хотя по логике правительственной солидарности от него этого обязательно должны были требовать. Итак, еще один важный факт – все мы видели по телевидению снимок этой пробоины – действительно, с кромками, вогнутыми вовнутрь. Это подкрепляет мою гипотезу о знании американцами Лячинского плана атаки, и я скажу, почему командир американской лодки понял, что его корабль находится в смертельной опасности практически в тот же момент, когда Лячин прочел разрешение из штаба флота. Что он мог предпринять в качестве меры защиты? Удрать – нереально, торпеда догонит, пустить в дело свои торпеды, чтобы утопить «Курск» до того, как он уничтожит его субмарину? Но тогда это уже настоящий казус белли, агрессия, вооруженная агрессия и пролог большой термоядерной войны – ведь это американская подлодка находится там, где ее просили не быть ради ее же безопасности, и вдруг она «ни с того, ни с сего» нападает на нашу лодку и становится несомненным агрессором по всем статьям международного права. Что тогда американцу остается делать? Только таранить (При этом штатное оружие не будет пускаться в ход, а таран можно будет выдавать за ненамеренное столкновение, каких в морской практике случается сколько угодно). После того, как созрело его решение таранить «Курск» во спасение собственного корабля, надо было решить куда, в какие места наносить удар. Не дай Бог было повредить атомные реакторы – этого бы не простили даже союзники по НАТО. Не стоило, исходя из профессиональной морской солидарности подводников всех стран, и губить в ходе тарана больше людей, чем требовалось для срыва атаки – без каких-то жертв все равно не обойтись. Это желание вкупе с мыслью о том, что оружие, подготовленное на «Курске» для атаки, находится в его носовом отсеке, предопределило выбор американца. Народу там всего ничего из целого экипажа – лишь несколько торпедистов – таранить «Курск» надо в носовую часть. Этот маневр был выполнен американской лодкой столь точно, что саму эту точность можно было считать свидетельством того, что американцы с помощью своей аппаратуры практически видели (звуковидением, что ли) весь корпус «Курска» и потому так удачно нанесли удар. Надо думать, перед этим командир американской лодки приказал своим людям покинуть новой отсек, который у него наверняка серьезно пострадал – ведь наши поисковые корабли обнаружили их лодку на грунте, где она приходила в себя до тех пор, пока в сопровождении наших самолетов не доплелась до Норвежского Бергена, где ее поставили в док на ремонт. Вот кто был достоин самой высокой награды – так это американский командир. Спас и лодку и экипаж, а наш умник Лячин погубил свой «Курск» со всеми людьми и себя в том числе. Ну, об этом потом.
А после тарана картина на «Курске» была такая. Я думаю, в первый миг никто ничего не понял, а если даже и понял, предпринять ничего не успел. Потому что в пробоину площадью больше квадратного метра в корпус «Курска» мгновенно хлынуло несколько сотен тонн воды – это как минимум, а то и несколько тысяч. Лодка тут же клюнула носом вниз и пошла дальше с этим дифферентом с прежней скоростью наклонно ко дну, а оно – то рядом в пятидесяти метрах по вертикали максимум. Я тут сделал приблизительный расчет, сколько времени прошло до столкновения «Курска» с дном, исходя из предположения, что дифферент был 100, а скорость 20 узлов. Получилось, что через десять секунд после тарана. Экипаж за это время ничего не успел бы предпринять – горизонтальщик не смог бы выровнять лодку, даже если бы старался изо всех сил, механик не успел бы дать максимальный задний ход, чтобы уменьшить скорость, потому что масса «Курска» – 24000 тонн, а чтобы лучше это представить – масса четырех тяжеловесных поездов из ста железнодорожных вагонов по 60 тонн каждый. Кто такой поезд заставит замереть на месте, если он идет на скорости около сорока километров в час? Никто. А лодка в четыре раза массивней. И вот тут-то произошла окончательная катастрофа. «Курск» врезался в грунт, подготовленные к атаке торпеды от прямого удара взорвались и разнесли в пух и прах первые два отсека – носовой торпедный и второй – командный. Это было ясно сразу. Во втором отсеке живых никого не осталось. Командир и другие офицеры погибли. Некому и нечем было обеспечить срочную продувку балластных цистерн, чтобы начать аварийное всплытие, если оно вообще было возможно после внутренних разрушений. Ни с какого другого поста в середине или на корме подлодки этого нельзя было сделать. Те, кто пока еще был жив, оказались беспомощны в глухой западне. Средства индивидуального и группового спасения в затонувшей лодке имелись только в разрушенном втором командном отсеке. Это уже был неустранимый дефект конструкции лодки, заложенный еще в ее проект – какая бы авария ни произошла лишь в одном только командном отсеке, весь экипаж был обречен на смерть. Кстати, мой примерный расчет времени столкновения «Курска» со дном оказался почти совершенно точным. У нас по радио и телевидению сообщали, что Норвежская сейсмостанция зафиксировала два взрыва один за другим, причем первый – слабый, отделяло от второго – очень сильного – всего двенадцать секунд. За эти двенадцать секунд американская лодка типа «Огайо» водоизмещением в 6500 тонн успела отскочить от «Курска» на некоторое расстояние, где она смогла перенести гидравлический удар после взрыва торпед, подготовленных к выстрелам из аппаратов «Курска», хотя, надо думать, ее тряхнуло очень сильно, так что часть экипажа наверняка получила там всякие травмы от падений и ударов о разные предметы.
А в «Курске» медленной страшной смертью в это время умирало больше тридцати людей, уцелевших после взрыва, из реакторных и кормового отсеков. Наши спасатели не сумели пристыковаться к кормовому люку, если, конечно, правдой было то, будто кто-то пытался пристыковаться. Воспользоваться кормовыми торпедными аппаратами для того, чтобы с серьезным риском для жизни попытаться спастись по одному, никто тоже не смог – возможно, потому, что, в частично затопленном отсеке торпедные аппараты оказались глубоко под уровнем холодной воды внутри корпуса. А на поверхности над «Курском» царила растерянность и неразбериха. Как уже давно повелось на всех наших флотах после перестройки, все спасательные суда зарабатывали деньги в иностранных водах. На случай серьезных катастроф у себя дома никого не оказывалось. Об этом в газетах писали уже давно. Начальство трепетало в ожидании расследования и наказаний. Было ясно, что уже никого не спасти. Но Путин принял решение до конца следствия о причинах катастрофы никого с должностей не снимать и сосредоточил усилия на дипломатических переговорах. Наши предъявили американцам обвинение в том, что они угробили нашу лодку, хотя их просили в этой акватории даже не появляться, американцы отвечали, что виноваты русские, которые собирались торпедировать их субмарину – и в доказательство предъявили перехваченные шифровки. Наши отказывались признавать расшифрованные бумаги доказательными документами, американцы отказывались признавать свою вину за таран, хотя отрицать сам его факт было бессмысленно. Словом, шел упорный циничный торг, который завершился компромиссной договоренностью. Американцы обязались втихаря возместить стоимость «Курска», включая расходы на подъем корабля с морского дна. Русские обязались отказаться от публичных обвинений в адрес американской лодки в преднамеренном таране. Американцы потребовали, чтобы для обеспечения сокрытия факта тарана носовой отсек «Курска» должен быть отрезан от всего корпуса еще под водой и там взорван и оставлен в виде мелких фрагментов. России предоставлялась возможность придумать любое объяснение причин катастрофы, не задевающее американский флот. За это компания по производству глубоководных работ, находящаяся под контролем вице-президента Соединенных Штатов Ричарда Чейни «Хали Бертон» обязалась обеспечить подводное отрезание носового отсека «Курска» и подъем на поверхность всего остального корпуса и доставку его в Российский плавучий док в Кольском заливе с помощью специальной разъемной баржи, заказ на которую они разместят и оплатят на верфи Северного завода в Северодвинске. Это была беспрецедентная работа по подъему корабля такого водоизменения с такой глубины, хотя в интересах нефтедобытчиков с морских месторождений водолазам Запада случалось работать и на больших глубинах. Смешно и печально вспоминать на фоне нашей беспомощности и несостоятельности, что именно в Советском Союзе был поставлен мировой рекорд водолазного погружения в море и последним Героем Советского Союза перед его распадом стал именно автор этого мирового рекорда. Впрочем, в интернациональную бригаду водолазов «Хали Бертон» включили и российских водолазов – глубоководников, квалификация которых никак не уступала членам основной команды. Очевидно, наши водолазы получили задание присматривать за западными коллегами, чтобы они не стырили что-нибудь секретное, а кроме того, обучились тонкостям подводных технологий, которыми мы еще не владели. И в итоге все глубоководные работы были сделаны в срок, лодку без первого отсека оторвали от грунта и подняли внутрь баржи в ее донный колодец, выполненный по форме рубки корпуса лодки, закрепили останки на барже и отвели в Российский плавдок в Кольском заливе. Вы сами видели, как это происходило. А затем начался заключительный акт трагического фарса – следствие о причине катастрофы. Главой следственной комиссии Путин назначил генерального прокурора Устинова. Следственная бригада в его присутствии начала расследование с раскуроченного и перекореженного взрывом второго отсека. По нему было крайне трудно прокладывать путь. Грузный Устинов не нашел ничего лучшего, чем рассказать миру в своей книге о собственном мужестве на этом этапе расследования. Он сам объявил, что крайне опасно было проводить следственные действия, поскольку то там, то тут обнаруживались фрагменты головных частей запасных торпед «Гранит», не сдетонировавших при взрыве в момент катастрофы. Этот умник даже не понял, что данным свидетельством фактически аннулирует итоги всей следственной работы, в результате которой причиной гибели «Курска» была якобы дефектная конструкция торпед, служивших до того времени верой и правдой на вооружении флота уже ряд лет. Вдумайтесь сами – если вам говорят, что торпеды якобы взорвались сами по себе, в то время, как находящиеся рядом с торпедными аппаратами на стеллажах запасные торпеды при страшном взрыве были сами разрушены, но не взорвались и в виде пригодной для использования взрывчатки разметаны по всему отсеку, то как хватало ума, неграмотности или наглости (не знаю, чего больше), чтобы обвинять конструкцию такой торпеды, которая не сдетонировала даже в аду?



