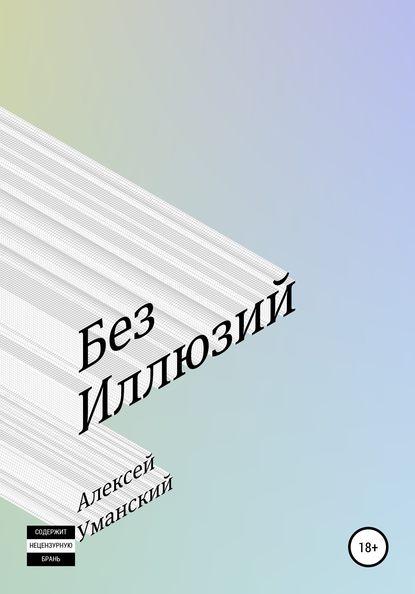 Полная версия
Полная версияБез иллюзий
Он прямо светился радостью, настолько его поразила откровенность Михаила. Наконец, он перешел к делу: «А с чем же вы, собственно, не согласны? Есть недостатки?» – «Есть», – «Какие?» – «Пожалуй, самый главный проявляется в том, что когда моей работе нет нужного разворота, я как-то расхолаживаюсь. Динамика, я имею в виду положительную динамику, держит в напряжении, и благодаря этому интерес к делу сохраняется, не спадая. К сожалению, я со своими сотрудницами занимаюсь информационно-поисковыми языками в условиях, когда эта тематика не выглядит самой важной и актуальной. Я, упаси Бог, никого в этом не обвиняю, но большинству людей везде и всегда постоянно кажется, что без такого-то и такого-то программного обеспечения жить дальше невозможно, а без языка такого-то и такого-то типа и раньше как-то обходились, и в дальнейшем это тоже возможному, раз не хватает ресурсов – машинных, и денежных – чтобы развивать одновременно все направления одинаково интенсивно. Понять это я могу, но согласиться трудно. Чувствуешь себя человеком, от работы которого другие коллеги не видят пользы. Вот это и влияет на рабочее настроение. Недостаток это? Несомненно. И он у меня есть».
Михаил не кривил душой. Коллеги из числа программистов во главе с Вениным, а потом и Гольдбергом считали, что содержание группы Горского в отделе Мусина обеспечивается за их счет, что пользы от работы этой группы не видно. То, что она создала «Справочник МКИ», а тем более – тезаурусы по трем разделам МКИ, им казалось делом нестоящим. И без этих изысков система выдает ответы на запросы, а что улучшится при использовании тезаурусов, никто еще доказал. Михаил не мог сказать, честен ли, например, Венин, когда решает про себя вопрос, надо ли в интересах дела держать дальше группу Горского, есть ли смысл терпеть ее существование ради повышения эффективности системы информации, для которой он разрабатывает свои великолепные программы? Михаил был почти уверен, что мысль такого рода Венин сразу гнал вон из своей головы еще до того, как он мог всерьез оценить пользу или бесполезность работ группы Горского, потому что в его представлении величина квартальной премии, которая была бы у него выше, если бы Горского и иже с ним в отделе и духу не было, заранее предопределял его выбор. Еще Румишиский в свое время заметил, что Венин будет яростно бороться за лишние три рубля, в то время как он, Румшиский, предпочел бы просто отдать Генину эти три рубля из своего кармана, только ради того, чтобы прекратить базар. Эти образные «три рубля» безусловно были дороже Генину любых доводов в пользу интересов системы. Раз он работает ради денег, то будьте добры – избавьте его зарплату от паразитных расходов, а до остального дела нет – его-то программы действительно работают.
Михаила вовсе не удивляла позиция такого рода – он не раз слышал подобные рассуждения и прежде. Его занимал и удивлял, пожалуй, только сам Венин, безусловно, способный человек. Но уровень его собственной творческой самооценки, как видно, далеко превосходил по высоте уровень его реальных достижений. Он видел себя в мечтах великим человеком. Он и старался стать таким. Еще в студенческие времена он в составе спортивных туристских групп ходил в очень тяжелые маршруты, требовавшие предельного напряжения. Таковы были, например, походы по Верхней Ципе до озера Баунт, а далее по Нижней Ципе и Витиму, а также по рекам плато Путорана между Таймырской тундрой и Нижней Тунгуской. Оба маршрута, особенно первый, были сопряжены со сложными и долгими подходами к точке начала сплава, когда байдарки надо было тащить на себе, а не идти на них, либо имели очень опасные и сложные участки, хотя и разного рода, причем ни на том, ни на другом пути почти не было никаких населенных пунктов, где можно было бы с уверенностью рассчитывать пополнить свои продуктовые запасы. Справиться с такими трудностями на лоне природы мог, как казалось Михаилу, только человек большой силы воли, к тому же стремящийся сделать для спутников не меньше, чем для себя. Волевым и настойчивым человеком Венин все-таки был – в этом сомнений не имелось – а вот был ли он и в молодые годы романтиком, сомнения не проходили. Тем более, что, повзрослев, он перестал ходить в походы, чего человек с душевными устремлениями к поиску смысла Бытия просто так делать бы не стал. Его амбициозность несмотря на успешную, казалось бы карьеру – как-никак кандидат наук, заведующий лабораторией, успешный программист, и все сам, без каких-либо поблажек – все равно никак этим не удовлетворялась. А на что – то принципиально большее он, вопреки своим мечтам и расчетам оказывался неспособен. Что остается тогда человеку, ощущающему себя выше других? Правильно – показать этим другим, что они его ниже – и тогда спасительная дифференциация будет ласкать душу, успокаивать разгулявшуюся амбицию, поможет восстановить самоощущение человека, вполне преуспевшего в жизни, как он и мечтал.
Мусин был гораздо умеренней в своих требованиях к жизни и, возможно, он именно поэтому в первую очередь преуспевал в карьере больше, чем Венин. Он стал заместителем директора в момент крайней неустойчивости деловой жизни и в стране, и в институте. Переход от «развитого социализма» к начальному капитализму был не менее сложен и драматичен, чем переход от феодализма к капитализму в его первородном состоянии. России едва-едва удалось обойтись без всеохватных голодных бунтов и очередной гражданской войны. Эту заслугу команды Ельцина – Гайдара народ оставил без положительной оценки, хотя на проклятия им отнюдь не поскупился. Жизнь подтверждала, что для капиталистической экономики в той же самой стране не требовалось так много наемных работников, как экономике государственно-планового социализма. Только за счет сокращения штатов можно было увеличивать зарплату остающимся. Нехватку денег и идей старались компенсировать ловкостью, бессовестностью и обманом. Но и это приводило к успеху далеко не всех, готовых использовать для этого любые средства. Григорий же Самуилович Мусин как честный человек чурался методов, противных своей природе. Обеспечивать полную занятость людей, подчиненных ему, да еще и способствовать повышению их заработка в заметных размерах он не мог, а потому в скором времени покинул свой пост и ушел руководить в какой-то компактный коллектив, который мог целиком вписаться в одну из ниш, открывшихся в фасаде нового экономического строя.
Через какое-то время институт покинул и Сергей Яковлевич Великовский. Он, впрочем, не перегрызал пуповину, связывающую его с прежней его работой, хотя то, чем он начал заниматься на стороне как руководитель маленькой фирмы (он взял с собой еще трех человек из числа прежних сотрудников), осталось для Михаила неизвестным. Бывший отдел Мусина соединили с отделом его бывшего конкурента Сипапина (который тоже уже ушел). Главой объединенного отдела сделалась Людмила Семеновна Алдошина, бывший, причем последний, секретарь партийной организации института. Людмила Семеновна была женщиной ясного трезвого ума и спокойного темперамента. Она никогда не старалась делать для торжества светлого будущего – коммунизма – больше, чем того требовали власть и обстоятельства. Вместе с тем в ней выработались навыки руководства людьми без диктата и демагогии. Оказавшись ближе к ней, беспартийный Михаил с интересом разглядывал Людмилу Семеновну. Она была явно очень хороша, пока не позволила себе слишком растолстеть, хотя и не настолько, чтобы красота и женские прелести перестали быть заметны. В новых условиях она ухитрялась сохранять отдел от всяких потрясений, не будучи ни большим специалистом по автоматизированным информационным системам, ни тираном, у которого хватает ума лишь на то, чтобы выжимать из способных людей то, что ей требуется, угрозами увольнения. Алдошина не задавалась и не вредничала, работать не мешала, дисциплиной не донимала, а результаты такого подхода были на лицо. Даже суперсамолюбивый Венин, попавший в подчинение «бабе», понимавшей в деле, по его мнению, лишь чуть-чуть, вынужден был признать про себя, что жить с таким начальством можно, и ограничивался для доказательства своего превосходства над кем-либо тем, что по своему обыкновению ставил под сомнения или опровергал (неважно – корректно или некорректно) все, что излагал любой другой докладчик на НТС. Он был записным оратором и действовал одинаково на всех заседаниях, страшно напоминая этим фигуру другого записного оратора из головного информационного института страны и тоже математика Юлия Анатольевича Шрейдера. Тот так же исправно витийствовал на всех заседаниях ученого Совета, о чем бы там ни шла речь. Михаилу казалось, что тот плохо себя чувствует до тех пор, пока не проявится своей речью на людях. Возможно, он и католичество принял именно для того, чтобы лишний раз заставить поговорить о себе, как и о том, что ему дал аудиенцию сам римский папа Иоанн-Павел II.
Юлий Анатольевич приходился зятем гораздо более интересной личности, чем он сам, это была профессор-математик Елена Сергеевна Вентцель, известная в мире интеллектуалов как весьма даровитый писатель, автор серьезных романов, выступавший под псевдонимом И. Грекова, что следовало читать как Игрекова. На ее фоне фигура зятя выглядела особенно карикатурно. В связи с «католичеством» Шрейдера Михаилу вспомнился еще один случай принятия христианской веры атеистом, ученым атеистом, математиком и теплофизиком. Новообращенным был достойнейший человек, советский немец Борис Викторович Раушенбах. Репрессированный еще в молодости как и большинство российских этнических немцев – кто за «шпионаж», кто вообще ни за что после начала войны с Германией, он все равно остался патриотом своей действительной родины, в которой с ним обошлись гнусно и по-хамски. Ему выпало войти в самый высший круг ведущих разработчиков советских военных и космических ракет, несмотря на свое национальное происхождение. Там он сделался ведущим теоретиком газовой динамики, академиком, а затем и философом. Борис Викторович осознал именно умом Божественное происхождение всего материального бытия со всеми его реальными процессами и сущностями, которые он рассматривал прежде всего как физик и математик. А когда вера в Бога прочнейшим образом проявилась из его точных научных представлений, он задумался, к какой религиозной конфцессии мог бы со своим новым сознанием принадлежать. Он сам писал об этом. И остановил свой выбор на православии самым естественным для благородного служителя науки образом. Раз уж он уроженец и патриот своей не очень ласковой к нему, но все же признавший его достоинства родины, то и веровать ему будет удобней именно так, как в ней веруют в большинстве случаев жители страны, принадлежащие православию. Если Шрейдер изо всех сил стремился «выпендриться», то Борис Викторович Раушенбах, напротив, старался не отличаться от основной массы верующих, потому что главное – это верить в Бога – Творца и Вседержателя наших судеб, а не в то, посредством каких ритуалов каждая конфессия служит Ему.
Венин не был таким позером, как Шрейдер. Его поза была внутри него, а извне она оставалась не так уж сильно заметной. Но это не очень изменяло суть явления – самолюбивая заносчивость управляла его характером в той же степени, как и у Шрейдера. Понятное дело – любому хорошо образованному специалисту хочется самому резко обогатить свою фундаментальную науку, только это удается далеко не всем, тогда как честолюбие из души никуда не испаряется. Вот оно и гложет и гложет человека изнутри, побуждая к ярким, по их мнению, внешним демонстрациям своей интеллектуальной состоятельности. Смирение, оказывается, дается действительно состоявшимся творцам зачастую гораздо легче и проще, чем тем, кто не сумел создать ничего особенно оригинального – отсюда и их стремление «из себя показывать» – как говаривала соседка Михаила по коммунальной квартире ткачиха с дореволюционным стажем тетя Мотя, Матрена Семеновна Иванова, которая сама никогда никого из себя не строила.
Подвижки в институте происходили и на самом верху. Сначала взамен директора Бориса Сергеевича Розова, при котором Михаил поступил на работу, и который добровольно сложил с себя полномочия, не желая по новой моде баллотироваться на свой пост, был выбран один директор. Он был недолго. Потом назначили второго. Он продержался более продолжительное время, и успел улучшить положение информационных отделов в ущерб научным. Его сменил бывший начальник отдела, которым теперь командовала Алдошина, но и он вскоре ушел, видимо, на более выгодную работу. Вслед за ним директором назначили начальника вычислительного центра, одновременно и главного инженера, и после этого в институт сразу вернулся Сергей Яковлевич Великовский вместе с одним сотрудником из тех троих, кого он увел за собой. С директором Самойловичем у него явно был полный контакт, и по ряду признаков чувствовалось, что они вместе делают параллельные дела, не подлежащие огласке, и, стало быть, приносящие какие-то «левые» деньги. Михаил изредка беседовал с бывшим шефом. Чувствовалось, что того занимают новые перспективы, открывшиеся в рыночной экономике. Каковы они были, Сергей Яковлевич уже не говорил. Из сотрудниц Михаила первой ушла из института Ламара. Вайсфельд устроил ее в частную фирму, возглавляемую его приятелем, которая, как казалось, всегда будет обречена на успех. Сам Саша сотрудничал, не уходя из института, еще с какой-то фирмой, во главе которой стоял еще один его приятель – туда он определил бывшую сотрудницу лаборатории Венина Риту Широкову. Однако процветание этих обоих предприятий оказалось недолгим. Ламара потеряла работу, но Саша один вполне тянул за двоих. Потом уволилась из группы Михаила Эмилия – ее устроил в свою фирму муж на очень хорошую зарплату, и она без промедления позвала за собой последнюю сотрудницу Михаила – Наташу Седову, и та было тоже решила туда уйти, как вдруг передумала. Причина оказалась для Мили до обидного банальной. Бывшая приятельница, равная ей по чину коллега, как выяснилось, всю жизнь мечтала быть начальницей и хозяйкой, с которой положено соответствующим образом обращаться. Наташу такая перемена отношений с Милей не устраивала. Она отказалась от Милиного предложения, но та продолжала попытки добиться своего, потому что объяснить для себя обидный Наташин отказ можно только одним – тем, что Горский пообещал ей какие-то новые блага на старом месте. Ничего подобного Михаил, разумеется, не обещал – в институте для повышений окладов сотрудникам не было никаких ресурсов. Но Миле и в голову не приходило, что Наташу может не удовлетворять уготовленная ей роль человека на посылках, с которым «за хорошие деньги» будут обращаться подчеркнуто по-хозяйски, дабы удовлетворить свой комплекс мечты по начальствованию над людьми.
Информационное дело уже отнюдь не процветало. И люди, и организации экономили на чем угодно, лишь бы выжить. Чувствовалось, что и последним занятиям в области информационно-поисковых языков вот-вот настанет конец. Где-то примерно через год попала под сокращение Наташа. Михаил остался на работе только потому, что он еще лично участвовал в одном институтском проекте, который предстояло вскоре сдавать. Но и это отложило его увольнение не слишком надолго. Вернувшись из очередного отпуска, Михаил узнал о своем сокращении. Людмила Семеновна очень извинялась, что вынуждена принять такое решение. Алдошина и впрямь симпатизировала ему, нередко указывая сотрудникам на его ум и воспитанность, но перед ней стоял выбор – уволить Горского, которому уже шел шестьдесят второй год – или программиста Гену, гораздо более молодого человека с громадным рыхлым телом и контрастирующим с ним детского вида лицом: «Вы сами понимаете, Михаил Николаевич, его же нигде больше не возьмут, а у вас все-таки уже есть пенсия». Это была правда, и переть против нее не было никакого смысла. Михаил уверил Людмилу Семеновну, что все понимает. Они дружески поцеловались, и Михаил в очередной раз подумал, что эту женщину не испортила роль партийного функционера, которую она отчасти по охоте, отчасти по необходимости отыграла на местной сцене до самой ликвидации партийной монополи в стране. Но неожиданно остро на уход из института отреагировал Сергей Яковлевич Великовский. Когда Михаил зашел к нему попрощаться, Сергей Яковлевич, узнав о сокращении своего бывшего подчиненного и отчасти конфидента (в прошлом бывшего кем-то вроде полудуховника), пришел в волнение и заявил, что немедленно отправится к директору Самойловичу, чтобы предупредить его этого не делать. Михаил совсем этого не жаждал. Он объяснил Великовскому, что да, его могут оставить, но какой в этом смысл, если дело, которым он занимался, все равно будет прекращено – в конце концов и ему самому небезразлично, за что его держат на работе – ради получения какой-нибудь пользы или «просто так».
Тем не менее Великовский поднялся, попросил Михаила подождать и минут через десять вернулся. Он сказал, что считает, что у Михаила есть все основания подать заявление в суд, чтобы восстановиться на работе, и суд, как он считает, примет сторону Горского. После разговора с Алдошиной втягиваться в судебное дело в свою пользу фактически не против института как такового, а против лично программиста Гены Михаил не собирался. Ему все еще казалась странной реакция Великовского – ведь жизнь уже и так раздвинула их по разным углам института – точнее продвинула бывшего начальника в центр, а бывшего подчиненного на периферию, и что бы сейчас они оба ни делали для отмены увольнения, Михаил все равно бы остался в категории институтских маргиналов. Удивляло еще и другое – прежней тяги к откровенности с Михаилом у Великовского больше не наблюдалось. В чем тогда была причина его участия? Интереса, как будто, не могло быть никакого. Тогда что? Сентементы? Да, Сергей Яковлевич был способен на них, хотя и не всегда позволял себе проявлять себе явную чувствительность. Горский действительно не был чужд ему по духу, хотя они и немало разнились. Ему не раз приходилось отстаивать Михаила от нападок Венина и Гольдберга. Но вряд ли он был готов постоянно защищать Горского в ущерб себе. Тогда, может быть угрызения совести? Но какие? Единственное, в чем Сергей Яковлевич мог считать себя виноватым перед Михаилом, было то, что задуманный ими обоими «Справочник МКИ» принес прибыль только Воложу, Самойловичу и Великовскому, а Михаил со своими сотрудниками остался ни при чем. Михаила это задело, но лишь слегка. Да, за счет разработчиков поживились и непричастные люди. Однако он отдавал себе отчет, что годы достаточно спокойного пребывания в хорошей обстановке на работе обеспечил и ему, и сотрудницам в первую очередь Сергей Яковлевич Великовский, проявляя при этом порой даже самоотверженность. Это дорогого стоило – в любом случае дороже, чем то, чего они не досчитались за свой труд по созданию «Справочника МКИ» – по крайней мере, Михаил так действительно считал, а были ли с ним согласны сотрудницы, он не знал. Но при нем они вслух не роптали. Это было единственным объяснением странного демонстративного заступничества Великовского в момент увольнения Михаила с работы. Ему дали понять, что если он поднимет волну и обратится в суд, Великовский ему, вероятно, поможет восстановиться – вариант который был бы не очень удобен и для заступника. Пожалуй, ему было бы проще вообще отвести сокращение от Михаила, но он этого не сделал, хотя вероятность того, что он об этом заранее вообще не знал, не превышала и пяти процентов из ста.
Короче говоря, в этой истории оставалось еще много неясного, когда Сергей Яковлевич на прощенье предложил Михаилу обращаться к нему, если понадобится, когда угодно. Напоследок Михаил еще раз зашел к Алдошиной. Они поговорили о ее дочери, поступившей после школы учиться в медицинское училище. Михаил пожелал начальнице удачи, она ему тоже. Это было нечастое для людей, сопряженных только общей работой, расставание двух человек, ничем не осложнивших и не омрачивших друг другу жизнь. Больше он не видел Людмилу Семеновну до самых похорон Саши Вайсфельда.
Глава 15
Нельзя сказать, что смерть достаточно молодого Вайсфельда произошла абсолютно внезапно. Во время одного из не очень частых телефонных разговоров с бывшей сотрудницей Юлей она сказала Михаилу, что Саша очень болен, уже давно находится в Боткинской больнице, где привязан к аппарату диализа крови, потому что свои почки у него не действуют. Прежде не было слышно ни о каких серьезных проблемах со здоровьем у этого энергичного и горячо влюбленного в Ламару человека. Недоумевая насчет причины случившегося, Михаил позвонил Ламаре и сказал, что только что узнал о Сашиной болезни. – «А от кого?» – спросила Ламара, и он ответил: «От Юли». По вопросу чувствовалось, что Ламаре не хотелось говорить на эту тему, но она понимала, что опровергать Юлино сообщение бессмысленно, поскольку Юлин муж Витя неоднократно бывал у Саши в больнице, а потому она вкратце сообщила о хронологии болезни и нынешнем Сашином состоянии, не касаясь, однако, причин обострения, да и самого заболевания в целом тоже. Михаил посочувствовал, спросил, кто еще принимает участие в Сашином состоянии и бывает у него. Ламара назвала Бориспольского и еще нескольких человек, в том числе Витю, добавив, что все они до Сашиной болезни были заняты одним бизнесом и даже в больницу зачастую приезжают консультироваться с ним. По тому, каким это было сказано тоном, можно было догадаться, что Ламаре не нравилась интеллектуальная эксплуатация ее больного мужа людьми, которые старались выглядеть его друзьями. – «Какие у него виды на поправку?» – спросил Михаил. – «Положение настолько серьезное, что врачи пока не дают никаких обнадеживающих прогнозов. Хорошо, что удалось достичь какой-то стабилизации в нынешнем состоянии. Саше повезло с лечащим врачом. Это очень добросовестная женщина, армянка. Она полагает, что у Саши есть шанс поправиться настолько, чтобы не нуждаться в ежедневном диализе крови. Но в любом случае один или два раза в неделю ему придется проводить диализ, так сказать, в амбулаторном режиме. Вам я могу сказать, Михаил Николаевич, что мне теперь все страшно, любой поворот событий. Единственное, что дает мне какую-то надежду, это то, как Саша сам хочет выздороветь и готов делать для этого все, что только можно, со своей стороны». – «Ну, это-то как раз очень важный фактор» – сказал Михаил. – «Да, и его врач тоже так считает». – «Ну так и не теряйте надежды, и пусть Саша сам в это верит. По-моему, вы – главное, для чего он так хочет жить» – «Спасибо, Михаил Николаевич, вы всегда все понимаете». – «Передайте Саше мои пожелания выздороветь скорей». – «Передам обязательно». Они попрощались. Михаил положил трубку. Ему вспомнилась последняя встреча с Сашей в институтском коридоре. Саша тогда быстрым шагом обогнал его, повернул голову, поздоровался и, не сбавляя хода, пошел дальше. Михаил понял, что Саше известно о сокращении, и теперь он стремится избежать разговора на эту тему. Все равно любая болтовня в пользу бедных ни к чему не приведет, а на возможную просьбу помочь устроиться куда-нибудь на новую работу у него нет никакого желания откликаться – отнюдь нет. Чтобы заставить Сашу ошибиться в своем прогнозе. Михаил окликнул его и спросил, собирается ли он в отпуск. Саша чуть сбавил обороты и повернув голову слегка назад, ответил, что нет, пока не собирается, сейчас много работы – и тут же вновь ускорил шаг. Должно быть, он все еще опасался, что за первым нейтральным вопросом последует какой-то другой, на который отвечать ему уже никак не хотелось. – «Ну что ж, дело хозяйское, подумал Михаил. Видимо теперь, Саша разделял мнение Венина насчет Горского и его пребывания в институте. Гулкие удаляющиеся Сашины шаги в пустом коридоре слышались сейчас Михаилу столь же отчетливо, как в день их последней встречи. Надежды врача на улучшение здоровья Вайсфельда через какое-то время действительно оправдывались. Ему уже светила перспектива выйти из больницы и продолжать лечиться, лишь регулярно посещая ее. Поэтому смерть по причине сердечной недостаточности, которой в общем-то не боялись, действительно стала неожиданным ударом.
На похороны пришли многие сотрудники Саши по двум институтам и кое-кто из однокурсников. Был также прежний муж Ламары, от которого она ушла с сыном – старшеклассником к Вайсфельду. Этот сын присутствовал тоже. Михаил насчитал трех прежних начальников отдела, в которых работал Саша: Мусина, Алдошину и себя. Пришел и Михаил Петрович Данилов, чью изящно и математически точно сформулированную задачу построения классификации индуктивным путем для избирательного распространения информации Вайсфельд решил приближенным способом в своей диссертации. Пожалуй, среди видных коллег не было только Великовского. Отпевали Сашу по православному обряду, похоронили практически в ту же могилу, что и его отца, полковника Михаила Яковлевича, на старом, к тому же старообрядческом кладбище. Смерть Вайсфельда – сына была во многих смыслах взывающей в анализу его жизни и поиску связей между причинами и следствиями во всем том, что имело место в его земном бытии, и предопределивших его неожиданно раннюю кончину. По дороге от морга Боткинской больницы к кладбищу Михаил, сидя в машине близкого приятеля Вайсфельда Саши Штольберга – основного программиста в отделе Феодосьева (которого кстати, на похоронах тоже не было) Михаил попытался выяснить, отчего столь внезапно обрушилось здоровье покойного. – Штольберг должен был знать причину, и Михаил удостоверился, что тот действительно знал, но излагал ее так неопределенно, подолгу обдумывая почти каждое слово, что Михаилу пришлось самому по крупицам воссоздать мозаику из осколков. Картина получилась следующая. Вайсфельд, энергичный мужчина средних лет, которому удалось полностью завладеть любимой женщиной – Ламарой – после долгого периода, в течение которого он был только ее любовником, хотя все его любящее существо с самого начала связи жаждало ее целиком, внезапно ощутил спад своей сексуальной потенции, чего несомненно, учитывая его богатый и разнообразный опыт, никак от себя не ожидал (это была собственная преамбула Горского к дальнейшим рассуждениям – Штольберг своей информацией лишь заронил искру, от которой пошел луч поиска причин именно в сексуальном направлении). А дальнейшее – и это уже прямо следовало из объяснений Штольберга – заключалось в следующем. Саша обратился к знакомому врачу, и тот посоветовал ему прибегнуть к медикаментозным средствам. Была ли это именно «Виагра» или что-то в том же роде, Штольберг не говорил, но уже прием первой таблетки из выписанного курса привел к резкому обострению болезни почек, которая у Вайсфельда действительно уже была, но не вызывала особой тревоги. Тем не менее, он принял еще одну таблетку и обвалил работу своих почек окончательно. Все, чем ему можно было помочь это срочно подключить его к аппарату искусственной почки, к которому он оказался привязан до самой смерти.



