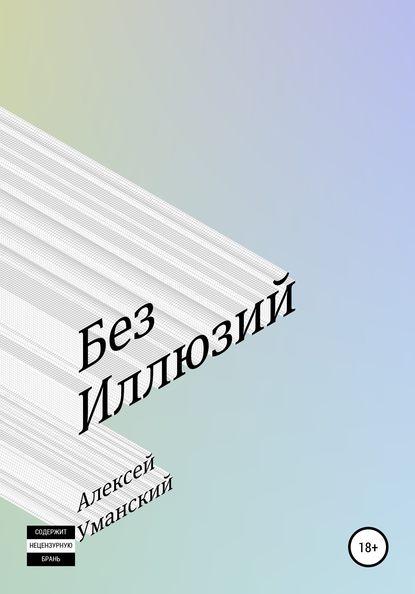 Полная версия
Полная версияБез иллюзий
Все выглядело и диковинно, и страшно: и причина обвала здоровья, и сама гибель, которая, собственно говоря, была точно такая же, как и у разумно ненавидимого Сашей председателя КГБ СССР, а затем и генерального секретаря ЦК КПСС Андропова. И тому и другому было воздано одинаковым концом, хотя грехи у них, конечно, были разные. И у обоих их земной путь был оборван именно тогда, когда им удалось, наконец, достичь главной цели жизни, реализовать свою главную мечту. Над этим следовало поразмыслить поглубже, но в другой обстановке Пока же ритуальная процедура была еще далека от завершения. В церкви вокруг гроба собрались провожающие покойного. Среди них Михаил узнал бывшую жену Вайсфельда Аллу, которую видел на одном из отдельских сборищ. Тогда она запомнилась ему главным образом тем, что называла Бориспольского просто Полем – как оказалось, так было принято в их узком кругу. Эта дама выглядела несколько взвинчено – то ли из-за присутствия Ламары в изголовье гроба, то ли из-за непогаснувших чувств к бывшему мужу. Кто она и чем занимается, Михаил не знал. Ему было ясно только одно – что эта женщина душу Саше не перевернула.
Кроме Аллы в число провожающих влились и еще какие-то другие, уже совсем незнакомые люди. Под речитатив батюшки и пение двух певчих покойник приобщался к миру иному по крайней мере душой. Всякий раз, когда ему случалось присутствовать при заупокойных службах, Михаил ловил себя на том, что совершенно не может настроиться на Божественное присутствие в храме в большей степени, чем в любом другом месте – даже наоборот. Настоящим храмом Божьим для него была и оставалась только первозданная Природа – прямое Творение Создателя всего и вся. Когда отпевание кончилось, Михаил испытал облегчение. А потом осталось одно – проводить останки до могилы, бросить горсть земли, постоять с остальными, пока еще сущими на этом свете, наблюдая, как могильщики вершат могильный холм. Потом начался долгий путь домой к Ламаре, в квартиру, которую им с Сашей удалось поменять на две свои прежние. На правах ближайшего друга первое слово на поминках взял Саша Бориспольский. Право слово, о своей специальности он рассказывал интереснее, чем о близком человеке. И дело было не в волнении или переживаниях – ни то, ни другое в Сашиной речи не ощущалось, хотя ему о многом можно было бы вспомнить в данный момент. Было заметно, что Ламара думает об этом точно так же, как Михаил.
Сегодня она практически впервые не скрывала от публики, что Саша был ее мужем, а она его женой. Эта странность никогда и ни у кого не находила объяснения – и вот человек был признан мужем, когда его здесь больше не было. Еще на кладбище выяснилось, что поминки состоятся раздельно в двух разных местах. Университетские товарищи, бывшая жена Алла, сестра Саши Вайсфельда отправились по другому адресу. Видимо, новый Сашин выбор «подруги жизни» пришелся по вкусу не всем – не только его отцу Михаилу Яковлевичу.
Михаил уже давно не виделся с Норой Кирьяновой, которую сам же назвал Норой Бернарой за актерское мастерство в обычной жизни. Еще когда пришедшие в Боткинскую больницу томились перед моргом, к двум разговаривающим Михаилам – Данилову и Горскому – подошла именно она. Михаил спросил, жива ли ее тетка Татьяна Кирилловна, принимавшая живое участие в устройстве его личной жизни. Последний разговор с ней по телефону имел место около года назад, Татьяна Кирилловна сообщила тогда, что недавно похоронила мужа и добавила, что вытащила бы его из болезни, если бы сама в это время не лежала в больнице. В это можно было хотя бы отчасти поверить, настолько энергично и настырно она умела заставлять медиков делать то, что они обязаны были делать, но делали далеко не всегда. Было жалко и овдовевшую добрую знакомую, и ее мужа, Олега Анатольевича, которого Михаил немного знал. Когда в стране, почти начисто лишенной алмазного сырья, вдруг открыли якутскую алмазоносную провинцию, встал вопрос об их промышленной обработке. Олег Анатольевич оказался среди тех, кому поручили организовать это дело. Специалистов по обработке алмазов, равно как и соответствующих предприятий, в СССР не было совершенно. Предстояло все начинать с нуля. Делегацию инженеров послали знакомиться с зарубежным опытом за границу, первым делом в Бельгию, которая отнюдь не горела желанием делиться секретными знаниями с советскими большевиками. Это касалось и правительства, и крупнейших воротил в алмазном бизнесе. Однако делегацию приняли и представили тем, кто владел секретами технологии. Все-таки с непредсказуемыми Советами как-то надо было считаться – иначе, глядишь, они по глупости или со зла обвалят весь алмазный рынок. Проведя начальные переговоры с делегацией из СССР, один из алмазных королей, Ашер, заявил, что будет разговаривать только с Олегом Анатольевичем. Он так расположился к нему, что лично посвятил советскому инженеру массу времени, чтобы передать все тонкости обработки самых твердых природных кристаллов на Земле. После обучения у Ашера Олег Анатольевич разработал весь технологический процесс для нескольких алмазных предприятий – прежде всего для крупнейшего в Смоленской области, которые успешно заработали как на валютный рынок, так и на жен и любовниц высшей номенклатуры страны.
Оказалось, Татьяна Кирилловна ненадолго пережила своего мужа. Сказав об этом, Нора упомянула: «Она очень ценила вас». Михаил кивнул. Ему это было известно. Нора продолжила: «Знаете, когда она в чем-то сомневалась или чего-то не могла понять, она говорила: «Надо позвонить Мише, Как он скажет, так все и будет». Это было больше обычных оценок. Горский даже поймал на себе после таких Нориных слов удивленный взгляд Данилова. Действительно, насколько помнилось, Михаил давал Татьяне Кирилловне именно те прогнозы изменения жизни, которые вскоре сбывались, не говоря уж о практических советах по многим делам, с которыми она к нему обращалась. Но на этом основании убежденно заявлять, что «как он скажет, так и будет» все-таки не следовало, хоть и звучало это очень даже лестно. Михаил предпочитал помнить, от Кого реально зависит будущее, и внутрь себя слишком уж лестной оценки так никогда и не принимал.
Потом Нора отошла к другим знакомым. Ожидание церемонии затягивалось – видно Саша был не единственным больным, которому здесь, кроме последних почестей, ничего не требовалось. Михаил Петрович оглянулся на окружающих и неожиданно произнес. – «Пусть по мне ничего подобного не устраивают. Ждать уже, наверно, не долго. Надо будет сказать своим». Михаил Петрович Данилов сдержал слово. Примерно два года спустя, после того, как в морге Пятой Городской больницы, и затем в траурном зале крематория Донского монастыря с ним попрощались немногие – в сравнении с кругом его знакомств – друзья и коллеги, дочь усопшего Таня, которую Горский помнил еще девушкой – старшеклассницей, подошла к Михаилу. Теперь рядом с ней находился взрослый сын в более старшем возрасте, чем была его мать во время их давнего знакомства. Она, смущаясь, начала говорить, что папа велел не устраивать поминок. Михаил не дал ей договорить, сказав ей, что Михаил Петрович при нем принял такое решение, а в ответ Таня разрыдалась, и он как дочь прижал ее к своей груди. До этого момента Таня только часто курила, но не плакала. И вот… Когда она немного успокоилась, Михаил попрощался с ней и кое-с кем из окружающих и пошел из монастыря к метро. К нему присоединилась Ламара. Она тоже поцеловалась с Татьяной Даниловой (давно уже не Даниловой – поправил себя Михаил), сказав, что очень хорошо ее понимает. По дороге к станции «Шаболовка» Ламара рассказывала о том, что после смерти Саши Вайсфельда жила крайне скудно, очень нуждалась в работе, но ничего не могла найти. Александр Бориспольский, ставший к этому времени директором не очень большого, но и не больно маленького информационного института – душ эдак на пятьдесят (он, кстати, тоже пришел на похороны Михаила Петровича) – так и не позвал Ламару к себе на работу, на что она, несомненно, надеялась как на друга и партнера своего мужа, о котором Бориспольский на поминках говорил, что тот в походах дважды спасал ему жизнь. – «Я тоже считал, Ламара, – признался Михаил – что он предложит вам работу у себя. Это когда мне советовали поговорить с Бориспольским о своем трудоустройстве в его институте, я отвечал, что это возможно только, если он сам позовет меня, в чем я сильно сомневался. Бывшему начальнику никогда не следует питать особых иллюзий по поводу того, что бывший подчиненный ему многим обязан и испытывает что-то вроде чувства благодарности и помнит за собой обязанность помочь бывшему шефу в трудный период жизни. Не сомневаюсь, что какую-то пользу он мог получить от такого сотрудника, как я. Но он предпочел ее не получать, хотя мои обстоятельства ему были известны и, как я чувствовал, он ждал, что я его попрошу, но вот что бы он на это ответил, я так и не знаю. Думаю, правда, что скорей всего, он бы мне отказал. Но вот что он вас был просто обязан был взять, я не сомневался. Тем более, что и от вашего участия в его делах он тоже получал бы пользу. Можно подумать, что он набрал такой коллектив, где все сотрудники сплошь корифеи и вам там не место. И у него наверняка имелись такие участки, где, как он точно знал, вы бы прекрасно справлялись».
До сих пор Ламара слушала его, не перебивая, но тут она прервала молчание: «Я тоже этого ждала, считала, что он сам догадается, но не дождалась, а когда попросила его прямиком, знаете, что он сказал? – «Ламара, сейчас многим очень трудно. Спасаются торговлей. Там можно прилично зарабатывать…» Понимаете, Михаил Николаевич, это он мне предложил такое, зная, какая из меня может быть торговка. Да я увяну на такой работе еще быстрее, чем без любой другой!
Это была правда. У Ламары, как и у многих людей, хотя и далеко не у всех, стоял в голове барьер, который точно не следует преодолевать, если хочешь остаться самой собой. И дело не в унизительности ряда возможных занятий по прежнему представлениям о них, ибо нужда может быть еще унизительней и страшней, а сама работа – спасительной, просто помимо всех разумных и неразумных соображений есть уверенность, что из-за полного несоответствия рода работы всему сложившемуся внутреннему миру придет конец – он попросту распадется, и прежняя личность перестанет существовать. Даже если считать Ламару виновной в том, что она долгие годы изводила Сашу своей попыткой законспирировать их отношения даже после того, как они официально вступили в брак, а теперь предположить, что Саша Бориспольский хотел ей воздать за это, Михаил полагал, что тот в память о друге все равно был обязан поддержать ту, ради которой Вайсфельдг готов был жить даже с помощью еженедельных, если не чаще, визитов в больницу для проведения гемодиализа, ЛИШЬ БЫ Ламара не терпела нужды. Ведь Вайсфельд действительно дважды спас Бориспольского. Один раз в туркменской пустыне, где они были вдвоем, когда Бориспольского хватил тепловой удар. Другой раз – на Полярном Урале зимой, когда он мог запросто замерзнуть. «Как тут не похвалить себя, подумал Михаил, за то, что не доставил ему удовольствия своей просьбой о приеме на работу?»
Тем временем Ламара продолжала говорить:
– И ведь приходит ко мне на каждый Сашин день рождения вместе с Витей и Юлей, иногда еще кое – с кем, и каждый раз вспоминает, чем он обязан Саше и в походах, и в делах, а потом они все рассказывают и рассказывают о своих путешествиях в Европу то в Альпы, то в Доломиты, то в Пиренеи на горных лыжах – тут тебе и Франция и Австрия, и Италия, и Ангора и я не знаю, что еще. И это все выкладывается МНЕ, в моем состоянии! А, да что об этом говорить!…
Да. Такта, выходит дело, у Вайсфельдовского друга Бориспольского было маловато. Все-таки пословицу «Сытый голодного не разумеет» люди сочинили уже очень давно – и не только для бедных. Богатым тоже лучше было помнить о ней для их же блага, хотя бы ради того, чтобы контакты между ними и малоимущими были возможны без взрывов – на то людям и дана такая вещь, как такт.
Было ли ей действительно воздано Небом за то, что она не больно ласково обходилась на людях со своим Сашей (как и ему за тех женщин, кого он недолго жаловал своей близостью прежде), но Ламара выдержала долгую полосу упадка и несчастий с достоинством, которое ничем нельзя было умалить. Ей было в очень многих отношениях тяжело: мучило безденежье, вынужденное временное приостановление деятельности риэлтерской фирмы, в которой работал ее сын, некоторым образом поддерживавший до этого ее бюджет, проявились болезни, неправильно срослась и болела после перелома рука, после чего ее пришлось снова ломать и сращивать, правда во второй раз благополучно; тиранили мысли, рождаемые в обстановке полного одиночества и отсутствия хотя бы моральной поддержки со стороны тех, кого она прежде считала родными или близкими людьми. Ей настолько не было кому излить свою душу, что она облегчала ее лишь во время редких телефонных разговоров (всего три-четыре раза в год), когда ей с поздравлениями по праздникам звонил Михаил. Все свидетельствовало о том, что одиночество сомкнулось вокруг и против нее со всех сторон, но она сумела как-то превозмочь обстоятельства, не имея большой жизненной тренированности, будучи прежде скорее изнеженной ухаживаниями матери и мужчин, нежели крепко испытанной собственной заботой о них. У Михаила никогда не было сомнений, что Ламара очень высоко расценивает себя, о какой бы статье женской привилегированности ни зашла бы речь. Она умела во всем видеть себя первой. Но только теперь, когда рядом не было никого, с кем ей пришлось бы себя сравнивать, она заслуживала признания уже не от себя и кое-кого еще вроде Саши, а от любого, кто мог бы представить себя на ее месте, хотя лучше было бы вообще никак не оказаться на нем. Что же касается Вайсфельда, то ему вообще нельзя было дать никаких однозначных оценок. Он был полярно разбросан в хорошем и плохом. Учитывая его позднее служение любви в лице Ламары, хорошего в нем в итоге стало больше, чего раньше нельзя было бы сказать без риска ошибиться – уж больно много рафинированного эгоизма то тут, то там беззастенчиво сквозило в его взглядах и поведении. В «доламарином» прошлом он, как и она, тоже считал себя во всем comme il faut, хотя на больничной койке ему уже явно приходили на ум и другие мысли. Когда ощущаешь скорого вызова непосредственно к Господу Богу, и от этого холодеет душа, видишь себя не только так, как привык о себе думать – память словно обретает какое-то невероятное свойство прозрачности сквозь все периоды прошедшей жизни – от ранних годов мальчишеского возраста с грубым непослушанием и абсолютной уверенностью в своей естественной правоте, через детсадовский, школьный, студенческий и уже вполне сознательный возраст сформировавшейся индивидуальности, через ощущение успеха в делах, достигаемого то тут, то там и разнообразных, побед над женщинами по мере роста их числа – и обогащения своей психики цинизмом до возраста ожидания расплаты за свои художества на всех пройденных стадиях и легкой растерянности оттого, что в памяти о своих делах не удается найти столько добра, чтобы оно перевешивало то нехорошее и злое, что вольно или невольно, сознательно или бездумно выплескивалось из тебя, а ты при этом вовсе и не замечал в себе никакой скверны – наоборот – оправдывал ее, считая, что возможностей делать что-либо совершенно безгрешно попросту нет никаких, поскольку хорошее для одних тут же обращается в плохое для других – ведь ты весь связан – перевязан с другими людьми, в свою очередь тоже связанными – перевязанными в своем круге знакомств, и тут уж не ухитриться никого не задеть, никому не встать на ногу, не схватиться за что-то, вожделенное и для другого, или не избежать досады из-за того, что кто-то схватил и присвоил себе это вожделенное раньше тебя. И тут так просто вдруг увидеть себя самого внутри руин вместо роскошного интерьера в здании, которое ты вроде бы сознательно строил всю жизнь, и нет шансов со спокойною душой оставить этот мир в сознании того, что в нем останется нечто ПОСЛЕ тебя в целости и сохранности, потому что там может сохраниться, не разрушившись, только то, что ты должен был сделать по Воле Создателя, осознанной в результате поисков своего высшего призвания. А если этого не произошло, то есть, во – первых, если ты не нашел, не обнаружил своего призвания (или вообще не потрудился его искать), во-вторых, если поняв, к чему ты призван, ты не исполнил предназначения в достаточно полной мере, и, в-третьих, если ты скомпрометировал себя, свои способности при исполнении призвания тем, что сделал еще что-то ВОПРЕКИ ему, то ты точно окажешься среди руин или в пустыне хаоса, где ничего значимого в твою пользу попросту нет. Койка привязывает к подобным мыслям с абсолютной неотвратимостью. Хорошо, коли найдется еще какая-нибудь свежая и ценная идея, которую можно будет развивать мысленно или на бумаге, а не то все время без сна будет уходить на самосуд. Да кто знает – оставят ли тебя эти мысли и видения даже во сне? Ведь ты уже весь, со всеми потрохами, попал в плен предстоящему Суду Самой Высокой Инстанции, ты уже весь целиком с головой погружен в атмосферу самого главного отправного пункта, в который ты уже в прежнем виде точно никогда не вернешься, а пункт назначения остается неизвестен, как и вся дальнейшая судьба твоей трепещущей сути.
Воистину счастлив тот, кто умирает мгновенно, лишь по проблеску Воли Божьей, если Она избавляет тебя от долгой постельной муки тела и души и прямиком переправляет к иным брегам неведомого мира. Смерть при одинаковом диагнозе равняет не только математика – программиста с обер-полицмейстером тайной полиции и генсеком ЦК КПСС – она уравняет кого угодно с кем угодно. Просто кого-то из них становится жаль, а кого-то вовсе нет, даже если он по совместительству еще и поэт и любитель новаторского театра, каким представлял себя сам Андропов. Сашу Вайсфельда было действительно жаль. Его способности позволяли ему заниматься не только делами, доступными многим. Даже решение задачи Данилова приближенным методом – тем или другим – могло быть достигнуто не двумя и не тремя специалистами, а и большим их числом. А вот решать свои сверхзадачи у него рука так и не поднялась. То ли он их вообще не искал или старался не замечать, то ли пробовал, но не получалось сходу, то ли погряз в тине отвлекающих халтур ради заработков, то ли отчего-то еще. Михаил допускал, разумеется, что у Саши имелись способности не только к освоению гигантского, воистину необъятного математического аппарата, созданного многими поколениями математиков в течение веков, но и к решению других, еще не решенных, действительно фундаментальных проблем, позволяющих далеко выходить за пределы знаемого, но такого в его жизни как раз и не было. Ведь не так уж редко люди сами зарывают свой талант, полагая, что еще успеется, или всерьез испугавшись нищеты, угрожающей любому, кто посвятит себя служению великой цели, выбирая себе цели помельче, но повыгоднее. Последнее было допустимо и для объяснения творческой нереализованности Саши Вайсфельда. Михаил никогда не говорил об этом с Ламарой, а потому и не знал, что думает по данному поводу она, как не знал и того, интересовалась ли она чем-то занимающим Сашин ум кроме ее собственной персоны. Во всяком случае, он точно помнил, что ни разу не слышал от Ламары ничего насчет его математических устремлений, если не считать его занятий диссертацией. Единственное, о чем Михаил мог судить определенно, так это о том, что интеллектуально Вайсберг был сильнее, а по широте интересов богаче своих приятелей – во всяком случае тех, кого Михаил знал сам. Словно в насмешку над этим мнением Бориспольский стал доктором наук как раз к тому времени, когда Вайсфельд стал кандидатом. А конечно, тут и речи не могло быть о каком-то состязании – это были птицы разного возраста и полета – но поскольку оба они ступили на поприще социального процветания и именно на него перенесли центры своей тяжести, приходилось признать, что Бориспольский успел на нем больше, ибо действовал прямолинейней и беззастенчивой, да и был более везуч, нежели Саша Вайсфельд.
Ко времени свертывания деятельности крупных информационных учреждений стало появляться все больше куда более маленьких.
Работа шла в них и по государственным планам, и по заказам вне этих планов. Так было легче выживать и кормиться. В одном из таких небольших институтов директором стал доктор технических наук филолог Александр Борисович Бориспольский. Вот и сработала как надо высшая ученая степень в нужное время в нужном месте. Этим, кстати, институт Бориспольского отличался от аналогичных других в лучшую сторону. Докторов наук в информации по-прежнему не хватало, в большинстве заведений на постах директоров обходились кандидатами.
Михаил узнал об этом без удивления. Все, что могло и должно было приносить пользу, в конце концов приносило ее. Вот и докторская степень тоже. Самое смешное состояло в том, что эта степень, полученная Бориспольским в центре Антипова, сравняла его с бывшим грозным шефом, который в новые времена возглавлял примерно такой же маленький институт, какой получил под свое начало Бориспольский. Время уравняло и по статусу и по масштабу человека, именовавшего себя не иначе, как сильный личностью (потому, что именно так он думал о себе), с другим человеком, которому титул сильной личности вообще не подходил, даже номинально, но кого приближали к себе именно «сильные личности» прежде всего за то, что считали таких безвредными для себя.
Став директором, Саша не очень изменился. Он продолжал выезжать за границу на отдых в горнолыжные курорты. Разрешал старым сотрудникам обращаться к нему «на ты», нос не задирал, правда, несколько изменил круг общения. Впервые Михаил услышал даже не от Юли, а от Ламары, что на свой шестидесятилетний юбилей Бориспольский не пригласил ни Юлю, ни Витю. Казалось бы нерушимый альянс, возникший еще с тех пор, как Юля, сперва ставшая любовницей Саши, вышла замуж за Витю, и это привело к тому, что кое-кто отпускал о данном трио шутки в категориях закона, трактующего в качестве признака фактического брака, что в случае Саши, Вити и Юли речь идет о совместном ведении хозяйства. Так далеко в своих суждениях об этой троице Михаил никогда не заходил, но и резко отрицать гипотезу о совместном ведении хозяйства тоже не стал бы, потому что Юля всегда была настроена к Саше комплиментарно, а когда он сделался директором, она даже за глаза стала именовать его Александром Борисовичем, и тот, как убедился Михаил, уже не возражал против этого. Михаил же неизменно обращался к Саше только по имени и на «вы». В числе общих предметов владения тройственного яльянса совершенно точно был один – парусный катамаран на надувных поплавках, которым трио обзавелось в складчину. После того, как Михаил и Марина купили деревенский дом на берегу Моложского залива Рыбинского водохранилища, Юля и Витя проявили интерес к этим местам, и Михаил пригласил их заглянуть к ним с Мариной, если они на своем катамаране будут в их краях. Саша, будучи совладельцем судна, не так часто ходил на нем в походы, как Витя – главный энтузиаст парусных путешествий – и Юля, которая когда-то занималась яхтенным спортом и имела квалификацию яхтенного рулевого первого класса, хотя у них на семейном борту командовал все-таки Витя. Однажды Михаил получил письмо, в котором сообщалось время прибытия троицы в их деревню. Витя с Юлей шли на катамаране от Углича вниз по Волге, затем вверх по Мологе и в Весьегонске должны были принять на борт Бориспольского, который собирался прибыть туда поездом.
Михаил полагал, что все гости расположатся на участке по-походному, в палатке или палатках, но Саша сразу без обиняков заявил, что не хочет мешать супругам, а кроме того у него радикулит, и поэтому он собирается поселиться в доме. Ему выделили диван в горнице, но еще больше дивана он полюбил шезлонг, стоявший рядом. Им он завладел монопольно вообще без спроса. Михаил счел это проявлением директорской привычки в поведении гостя, но ничего не сказал, поскольку хозяева сами шезлонгом не пользовались, а двое других гостей на него и не думали покушаться. Витя в основном возился с катамараном, Юля то помогала ему в каком-либо ремонте, то вместе с Мариной готовила на всю компанию еду и исправно мыла всю посуду. Саша большую часть времени проводил в доме или перед ним (и там и там в шезлонге) с одной из книг, стоявших в доме на полке, хотя иногда и присоединялся к Вите, Юле и Михаилу, когда они отправлялись из своей живописной гавани походить под парусами. В этих случаях Саша в ответ на расспросы Михаила пространно объяснил, чем он теперь занимается, какие задачи решает его институт, кто из знакомых работает у него (Витя и Юля в их число не входили), кто где-то еще. Он, как обычно, знал, кто, где и чем занимается. Среди других интересовавших его имен Михаил как бы невзначай спросил, что слышно о Вольфе Абрамовиче Московиче, который давно выехал в Израиль, но до него как будто так и не доехал – и тут произошла удивительная вещь – Саша, имевший точные сведения о жизни всех остальных знакомых эмигрантов со слегка озабоченным видом сказал, что о Московиче не слышал ничего, хотя даже помимо Саши до Михаила доходили сведения, что Вольф Абрамович профессорствует в одной из Европейских стран. Молчание насчет Московича со стороны Саши могло означать только одно – он не простил умному и маститому еврею отказ поддержать его диссертацию. Вспомнились слова Московича в передаче Михаила Петровича Данилова: «Я прочел вашу диссертацию. Это сплошная халтура. Дать на нее положительный отзыв я не могу». Тем самым Вольф Абрамович вывел себя за пределы корпорации «хороших людей» для Александра Борисовича Бориспольского. Получалось, что к этой оценке можно было бы добавить и слова Маяковского из его поэмы для детей «Что такое хорошо и что такое плохо»: «Я такого не хочу даже вставить в книжку». Да – из книги своей жизни Саша выставил Московича вон вполне определенно. Отличился он в глазах Михаила еще одним поступком – взял к себе в институт Валентина Феодосьева. Видимо, этот директор – основатель собственной частной программистской фирмы с претенциозным названием «Лидер», потерпел безнес-фиаско на поприще, переполненном массой отечественных программистов, которые вдруг лишились работы в своих прежних отраслевых, институтских и заводских вычислительных центрах. В страну вместе с импортными персональными компьютерами хлынуло готовое хорошо отработанное программное обеспечение для решения большинства задач, которые стояли перед специалистами самого разного профиля, и тут обнаружилось, что сама по себе профессия программиста вовсе не является прямым свидетельством принадлежности к элитарному слою работников умственного труда, и что в большинстве случаев программисты являются скорее ремесленниками, чем мастерами, в деле, которое в основном раньше и лучше сделали за рубежом. Кем бы в своих собственных глазах ни был Феодосьев – человек чрезмерного самолюбия, причем особенно любившего себя в то время, когда он был заместителем директора большого всесоюзного института, он был вынужден принудительной силой обстоятельств попроситься на работу к Бориспольскому, и тот взял его к себе, хотя спустя какое-то время очень об этом пожалел. Как заведующий отделом с обостренным до уровня психоза самомнением, он довел дело до того, что от него стали уходить лучшие сотрудники. Это переполнило чашу терпения Бориспольского, и он снял Феодосьева с должности заведующего отделом. – «Я еще никого не увольнял, то ли пояснил, то ли похвастал Саша, – ограничиваюсь переводом в более низкую должность. Ну, Валентин, конечно, вспыхнул и сам ушел». – «А ты что, до сих пор не догадывался о том, что это за фрукт? – возразил про себя Михаил. – Думал, что это я виноват в учиняемых им безобразиях?» – однако вслух ничего не сказал. Удивляться особенно было нечему. Вон тот же Штольберг, нынешняя правая рука Бориспольского, зав. отделом программирования, долгие годы прекрасно уживался с Валентином, тогдашним своим приятелем – начальником, да еще и оправдывал его, заботясь исключительно о своих интересах – на остальное ему было плевать, лишь бы не мешал ему жить, как нравится.



