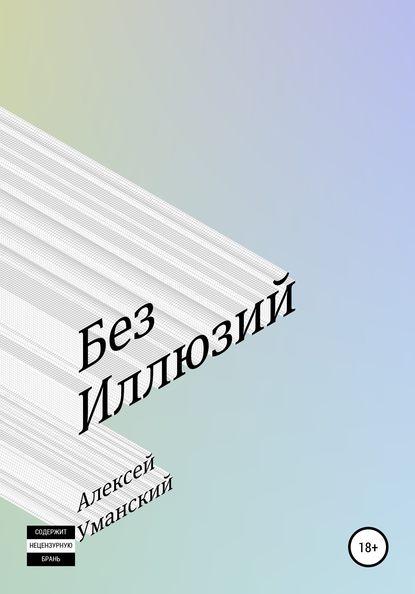 Полная версия
Полная версияБез иллюзий
Ложь от начала и до конца сопровождала катастрофу «Курска». Врали, что проводили океанские учения, а не прибрежные – как было на самом деле (врали, потому что многое хотели украсть). Врали, что флот пытался спасти экипаж, хотя ни на лодке не оказалось пригодных средств спасения, ни у флота не было нужных технических средств. Дезавуалировали правду о таране, высказанную адмиралом Комоедовым и вице-премьером Клебановым. Единственное, о чем благоразумно умолчали – это об инициативе командира подлодки «Курск» Лячина насчет торпедирования чужой подлодки и о поддержке ее командованием флота. После следственного разбирательства, хоть и насквозь фальшивого (напомню, что еще до подъема «Курска» со дна были физически изъяты, а затем уничтожены все улики, подтверждавшие факт американского тарана), заключительным аккордом которого стало незаслуженное обвинение торпед «Гранит», президент Путин снял с должностей весь высший командный состав Северного флота. Были ли возбуждены против кого-либо из этих адмиралов уголовные дела, неизвестно, хотя, «художеств» за ними было явно выше крыши.
Бывший командующий Северного флота адмирал Попов отделался от возможных обвинений по крайней мере в халатности при исполнении своих командных и контрольных функций очень легко. Сначала он стал чиновником областного масштаба, а вскоре даже сенатором, членом Совета Федерации, обладающим парламентской неприкосновенностью, то есть неподсудностью. Об остальных адмиралах пресса не упомянула ровным счетом ничего. Еще одним последствием разбирательства были возникавшие спонтанно то тут, то там (но не на официальном уровне) обвинения в адрес проектанта лодок типа «Курск» – ОКБ «Рубин» под руководством академика Игоря Спасского. Действительно, с точки зрения техники спасения людей в случае аварии или катастрофы на атомном корабле было предусмотрительно чрезвычайно мало – только в одном месте, в командном отсеке, стало быть, фактически лишь для старших офицеров корабля. Не было предусмотрено вообще ничего для управления всплытием лодки с другого поста, если погибнут люди в командном отсеке. Я старался представить себе как инженер, что можно было бы сделать чтобы люди в подводных лодках не превращались все как один в заложников аварии в каком-то одном ее отсеке – ведь их судьбе не позавидуешь. Мне представилось, что корпус лодки в принципе можно сконструировать по той же схеме, по какой строят многоступенчатые космические ракеты – то есть разъемные, когда одна часть корпуса может при использовании специальных пиротехнических средств отделяться от других и всплывать на поверхность автономно, хотя решать такую задачу для кораблей наверняка будет сложней, чем для ракет.
Можно было бы встраивать внутрь каждого отсека спасательную капсулу для всех людей данного отсека с запасом для людей, которые могут перейти сюда из аварийного отсека. Этот вариант, пожалуй, проще осуществить, хотя он тоже усложнит и удорожит конструкцию. Об индивидуальных средствах покидания лодки я не говорю – пока не будут созданы жесткие скафандры, способные выдерживать давление на рабочей глубине лодки с серьезным запасом по глубине погружения, об этом почти несерьезно рассуждать. А в конце все упирается в позицию адмиралов – заказчиков подводных лодок. Многие из них – славные и заслуженные люди, побывавшие в разных переделках даже без войны, но уцелевшие, что само по себе не так уж просто. По статистике во всех флотах мира каждая двадцать пятая лодка погибает даже в мирное время. И вот эти опытные люди, ранее рисковавшие жизнью наравне с другими подводниками – братьями по коробке, теперь перешли на другую орбиту. Они избавились от страха погибнуть под водой, но у них появились новые проблемы взамен этой. Теперь от них требовали заказывать подводные лодки числом поболее, ценою подешевле, чтобы ударная мощь флота была возможно выше, а ограничителем, как всегда, был бюджет. Что выбрать, вернее – между чем и чем – способностью нанести наибольший ущерб врагу или заботами по сохранению жизни своих людей с поврежденных подводных крейсеров? Во время войны потери неизбежны. И они тем больше, чем меньший ущерб наносится врагу. Адмиральская логика опирается именно на этот тезис. А в запасе у них есть еще и второй: если хотите сделать подводные лодки более безопасными для экипажа и менее уязвимыми для врага, стройте их такими, чтобы они были в состоянии работать на больших глубинах, развивали бы большую скорость, легче маневрировали и меньше шумели и излучали. Вот тогда людям на лодках будет действительно безопасней. А так – все эти капсулы и остальное прочее все равно, что мертвому припарки. Вспомните хотя бы гибель подлодки «Комсомолец» проекта «Тайфун» (он еще больше «Курска»), в котором имелась спасательная капсула, которая едва-едва всплыла на поверхность, а затем все равно затонула – из нее успел выбраться только один человек. Так что и адмиралам не скажешь, что они совсем не думают о своих подчиненных. Думают, еще как думают, только не как обычные нормальные люди, а как те, которые ради этих самых своих нормальных людей должны быть готовы уничтожить как можно больше чужих. Вот, собственно, и все, что я прояснил для себя из истории с «Курском».
Михаил посмотрел на обоих своих слушателей. И Саша, и Витя молчали. Вид у них был какой-то ошеломленный или пришибленный. – «Нет, не логикой доказательства, – подумал Михаил – а тем, что его предъявил им я, тогда как они, располагая теми же сведениями, ничего подобного прояснить для себя не могли. Надо полагать, что услышанное произвело особенное впечатление на директора и доктора Бориспольского. Это следовало из того, как в тот же день за обедом Саша отреагировал на шутливый рассказ Михаила о том, как он задумался о происхождении и смысле кондового русского выражения «Олух Царя Небесного», и что из этого получилось.
– Ну, и что? – заинтересованно откликнулся Саша.
– Первое, что пришло в голову, это то, что слово «Олух» – не нарицательное имя, а собственное – русские люди в устной речи очень часто преобразуют звук «ф» в разных словах в звук «х». Сразу стало видно, что это скандинавское имя Олуф. Кто на Руси мог иметь такое имя? Только варяг. Предводителя или князя с таким именем мне не известно, да и из самого выражения «Олух Царя Небесного» следовало, что Олуф при ком-то состоял из земных властителей – не при Господе же Боге, в самом деле, на особом положении находился этот варяг. И тут в моем воображении возникла такая картина: сидит варяжский князь на своем престоле и правит суд над своими подданными. Естественно, сам князь только выносит решения, а исполняют его другие. Так вот, когда князь изрекал свое решение по тому или иному поводу, он кивком головы в сторону своего доверенного лица и произнесением его имени давал понять, что передает дело для окончательного завершения в его руки. Этим лицом, неукоснительно выполнявшим приговоры князя, был Олуф, должно быть, фигура безжалостная, не рассуждающая и ни от чего не смягчающаяся, вызывавшая естественное чувство страха в народе.
– Насчет Олуфа при князе – понятно. – признал Саша, но тут же возразил:
– А при чем тут тогда Царь Небесный?
– Ну, это-то как раз просто, – усмехнулся Михаил. – Если у князя есть на все готовый исполнитель Олуф, то уж у Царя Небесного такой тип тем более должен был быть. – не самому же ему руки марать об грешников? Вот тогда-то собственное имя конкретного лица, исторического, хотя давно уже и позабытого персонажа перекочевало в нарицательное, функциональное и переместилось из статуса подручного князя в статус помощника Господа Бога.
– Я принимаю такое объяснение! – громко объявил Саша.
Оказывается, в нем сразу проявилось должностное лицо высокого ранга. Его изречение «принимаю!» следовало считать устным эквивалентом письменного клише на титуле работы, в данном случае проделанной Горским: «Утверждаю» директор А. Б. Бориспольский. Далее подпись и дата. Вот, оказывается, как надо заявлять о своем верховенстве несмотря на собственную несостоятельность! С этим Саша что-то явно перебирал. А уж когда Михаил услышал ответ на свой вопрос, где сейчас Лахути: «Он преподает в Московском Государственном Гуманитарном университете, заведует кафедрой. Я достал его из нафталина. Он не так давно защитил докторскую, правда, на старых материалах». – стало окончательно ясно, что директора Бориспольского уже совсем зашкалило. Михаил не знал, чего в нем после этого ответа появилось больше: смеха или негодования? Саша в мыслях позволял себе возноситься выше человека, который рядом с ним по всем параметрам выглядел восьмитысячником против среднерусского холма. Один из пионеров информатики как науки в нашей стране, человек величайшей научной любознательности, порядочности и искренности в уважении и интересе к любым чужим достижениям в подлинных знаниях, он всегда имел кристальную репутацию, которую никто не посмел чернить среди коллег, где зависть была самым обыкновенным и ожидаемым явлением. А этот директор и с позволения сказать доктор имел наглость заявлять, что он достал такого человека ИЗ НАФТАЛИНА и сумел проветрить настолько, что тот все-таки смог защитить докторскую диссертацию, хотя и состряпанную из старых, то есть насквозь пронафталиненных материалов, тогда как он, Бориспольский, стал доктором по новейшим представлениям о деле, по самым модным вопросам – и тем самым показал, кто идет в первых рядах творцов научно-технического прогресса – не Лахути же, такой старомодный и в мыслях и в морали – ведь он даже халтурить не умел. Вслух Михаил ничего не сказал. Нечто сродни отношения к глупости ребенка, вообразившего себя пупом Земли, оттеснило в нем негодование куда-то на задний план. Оказывается, добрый малый, каким Саша Бориспольский прежде выглядел в глазах знавших его людей, на самом деле был не таким уж добрым – добрым ему имело смысл быть, пока он еще не вышел в дамки. – Теперь он избавлялся от надоевшей маски, по крайней мере, уже выглядывал из нее, демонстрируя нечто новое, давно просившееся на волю сквозь то, что в нем ценили и за что его прощали многие окружающие, и от чего ему бы не стоило избавляться даже из соображений выгоды. Но вот ведь – начал избавляться потихоньку.
Михаил с сожалением оценивающе взглянул на него, но Саша ничего не заметил. Он любовался собой, как глухарь на току при исполнении последнего колена своей песни, когда он не способен ничего слышать, кроме музыки внутреннего ликования, распирающего грудь.
– Щелкай, щелкай! – подумал Михаил. – Неужели у тебя до такой степени отказали тормоза, что ты уже летишь выше крыши? А Лахути тебе не стоило бы трогать. Рядом с Делиром и не такие личности тускнели, а тут кто? – доктор Бориспольский, директор Бориспольский – и больше ничего!
Не зря же Саша вошел в кружок «избранных», воображающих о себе примерно то же, что и Бориспольский. В него входили: бывший директор Бориспольского «сильная личность» доктор технических наук математик Антипов, несомненно ощущающий себя главой кружка, Морис Семенович Волчинский и Александр Маркович Ланцман – все непременные члены оргкомитетов всех всесоюзных конференций по научно-технической информации последках двух десятков лет. Состав был, что надо: Антипов, очень неглупый, но настолько снедаемый честолюбием и завистью, что Господь купировал его таланты, и потому вынужденный довольствоваться только словесным наукообразным модничанием типа провозглашений «теории фреймов», «фазированных информационных пространств» и другой дребеденью в том же роде; Волчинский, раздутый от самомнения до невозможности, воспринимающий себя не иначе, как выдающимся корифеем, тогда как это был всего лишь воздушный шарик, которые никакого труда не стоило проткнуть; Ланцман – человек из всей этой компании казавшийся самым скромным, поскольку он довольствовался просто постоянным присутствием среди делающих себе громкое имя коллег и тем самым делавших имя и ему; и Александр Борисович Бориспольский – среди них самый новенький, самый передовой – как только что отчеканенный червончик – в своем собственном представлении – настоящее украшение кружка самопровозглашенных авгуров от информатики. Михаилу невольно вспомнилось любимое выражение Норы Бернары, взятое из семейной копилки (а там были и преинтересные особы, и в их числе знаменитая парижская актриса и куртизанка Жëдит, которой так восхищался корифей театрального искусства Константин Сергеевич Станиславский, а именно тем, как она с совершенно невинным видом нетронутого целомудрия исполняла совершенно матерные куплеты) – а это была фраза, произносимая по-русски с польским акцентом: «Общество было невелико, но бардзо пожëнно (весьма избранное или знатное): я, Ксендз и две проститутки». По словам Бориспольского, произнесенным, кстати сказать, с чувством глубокой гордости, это «бардзо пожженное общество» собиралось регулярно, там обменивались новостями профессионального плана, вели философско-информационные дискуссии, обсуждая, в частности, книгу Антипова, написанную на эту тему, где он действительно философствовал об информации, (правда Михаил не знал, как именно, и любопытства по этому поводу не испытывал, хотя само это стремление у Антипова одобрял – все-таки пробовал человек самостоятельно до чего-то докопаться). Однако веры в интеллектуальную мощь этого с позволения сказать «ареопага» не было никакой – априори. – «Ну что ж, – подумал Михаил о Бориспольском: Будь-будь в этом кругу, источай лесть в ответ на лесть – это наилучшее средство для подпитки и утоления жажды вознесения над плебсом».
Теперь Саша производил впечатление человека, достигшего своего естества, будучи, тем не менее, произведением собственных рук. Естество состояло в том, что он жил теперь, как мечтал, то есть – будучи человеком авторитетным и значимым в своей сфере, достаточно хорошо обеспеченным, чтобы можно было позволить себе приятный комфортный отдых либо в своей стране, либо за рубежом. Красоту мира можно было обнаружить в любом месте – была бы охота. Она не локализовалась только в широко известных местах, хотя там она тоже была безусловно. Кстати, Саша немало удивил Михаила, заявив в конце пребывания в их с Мариной доме: «Вот это был настоящий отдых!» И это, по всей вероятности, следовало считать высшей похвалой от такого человека, как он – видевшего всякое здесь и там, за бугром, знающего, что почем и что не обязательно все хорошо только потому, что за это заплачены большие деньги. Но поразмыслив над неожиданной Сашиной оценкой, Михаил согласился с ним. Он прожил неделю без всяких хлопот (если что и делалось силами гостей, то это касалось только Юли и Вити). Он делал исключительно то, к чему в данную минуту лежала его душа: хотел – читал, сидя в шезлонге, пока не уставали глаза или же тело не затекало; хотел – выходил на живописные плесы на катамаране, где обязанности капитана и матроса выполняли опять – таки Витя и Юля, а уж застольные разговоры, оживленные напитками, привезенными гостями с собой, и особенно вишневой наливкой, собственноручно изготовленной Михаилом, были просто на высшем уровне, какой можно было себе представить – все говорили на любые темы, высказывали любые взгляды, как свои, так и чужие, сшибались в разногласиях и остались при собственных убеждениях. Это была своего рода Валгалла, рай, только не для скандинавских героев, а для вооруженных интеллектуальным неубывающим оружием людей, которые ценили словесные стычки не меньше, чем скандинавы ценили райскую рубку мечами, за которой следовал искренний дружеский пир. Такое действительно не найдешь в любой выбранной по туристскому проспекту стране, если не заедешь в нее сразу общей компанией любителей подобного удовольствия, а такое возможно организовать далеко не всегда. Здесь у Саши даже перестала болеть спина. Он не чувствовал обделенности ни в чем, отдыхая даже от жены, оставшейся на подмосковной даче, где она и удовлетворяла свою тягу к возделыванию собственного огорода ради заготовки экологически чистых продуктов (такой вид отдыха его не интересовал, а раздражал). Правда, судя по его прошлому пристрастию к прекрасному полу, он мог здесь скучать без близости с одной из его представительниц, но как знать – был ли он здесь кратковременным лишенцем женской ласки, пусть и не внутри дома, а на пленере. – Не зря же Михаилу сразу почудилась фальшь в Сашиных словах насчет того, что ему неудобно ночевать в одной палатке с супругами Витей и Юлей. Так что все компоненты в высшей степени приятного отдыха имелись налицо: красота, расслабление, свежесть впечатлений, полная отстраненность от городских дел, любимые беседы, которыми можно было упиваться даже с большим наслаждением, чем хорошим вином, а потому его оценка была просто справедливой, хотя облачил он ее в форму, которая позволяла по его директорскому обыкновению обезличить похвалу от имен тех, кто доставил ему, вероятно, в стремлении проявить соответствующее естественное уважение; «вот этот настоящий отдых».
Когда настало время уезжать, Витя с Юлей разобрали катамаран, решив приехать сюда еще раз в будущем году. Михаил перевез их на своей полусамодельной байдарке (на нее пошли каркасные детали двух прежних – «Салюта» и дареного разбитого «Тайменя») через двухкилометровой ширины залив. В ней имелись места для четырех человек, и она была испытана Ладогой, Онежским озером и Белым морем. – На этой байдарке они дважды бывали с внучкой Светой и двумя своими колли даже там. Пожав руки мужчинам и поцеловавшись с Юлей, всегда готовой отправиться навстречу новым приключениям в новых местах, Михаил показал им дорогу через лес к городу. Они цепочкой, согнувшись под рюкзаками, поднялись по тропе на высокий мысовой яр, с которого открывался великолепный вид на плесы и острова в секторе трех четвертей окружности. Это вдруг щемящим образом напомнило выходы из альплагеря на восхождения в молодости. Он поймал себя на том, что уже много-много лет – и к счастью! – не ходит никуда цепочкой ни в составе группы, ни, тем более, отряда. Это давно ушло в глубину памяти, но, оказывается, не пропало. Михаил совсем не почувствовал тяги к тому, чтобы вернуться туда, в «Алибек» или в «Уллу-Тау» для хождения в вытянутой по тропе многолюдной колонне. Но горы по-прежнему привлекали, звали его к себе – и вот на тебе! – даже от вида небольшой цепочки людей под походным грузом у него защемило что-то внутри, странным образом напомнив о снежных горах на Среднерусской равнине, где, пожалуй, иногда лишь сверкающие стены облаков напоминали гигантские хребты и вершины Гималаев.
Перед расставанием он негромко сказал Юле, чтобы в следующий раз они с Витей взяли сюда Нину Миловзорову, которая дала им с Мариной приют для первых свиданий в своей квартире. За это они оба испытывали к Нине вечную благодарность. О Саше он ничего не сказал.
Глава 16
Благодаря двум походам больше четверти века назад Михаил и Марина сблизились с семьей Коли и Тани Кочергиных, да так и остались близкими людьми, несмотря на то, что потом вместе в походы не ходили. Мальчишкой с юношеской непосредственностью прибегал к ним на площадь Павелецкого вокзала от своего «дома на Набережной» сын Коли и Тани Илья, Илюшка, как они называли его между собой – иногда один, а чаще со своими воспитателем и опекуном – точь – в точь Пушкинским Савельичем, только в собачьем облике – небольшим и абсолютно преданным песиком Бобиком. Время шло и быстро превращало Илью в настоящего красавца – высоченного, со страстным огнем в глазах, пугавшего свою маму Таню не столько тем, что на сына так и будут вешаться бабы и он пойдет специализироваться только по этому делу, сколько его безразличием к получению какого-либо образования после того, как будущая профессия переставала ему нравиться. Перепробовав многое: химию (из-за родителей), геологию (из-за первой жены), китайский язык (по собственному любопытству), он ни в чем не нашел будущее счастье в труде, пока не попал, опять-таки по глубинному внутреннему влечению, на Алтай работать в заповеднике, и там специальность, профессия, любимое дело, призвание само схватило его железной хваткой и принудило целиком отдаться счастью и тяжким испытаниям изнурительной и окрыляющей литературной работы. Илья доказал, что красота Мира, как и прямое знание немилосердной силы Бытия, толкнувшие его к писательству, сделали из него не только адепта, поклоняющегося Божественному Творению, но и настоящего мастера проникновения в его духовную суть. За очень короткий период он вырос из восхищенного юноши, пишущего этюды на природе среди буквально завораживающих душу красот и волнений, в точного, лаконично расходующего слова на все, что он хочет передать на бумаге, буквально чудотворца, перемещающего читателя внутрь написанного им текста. Илья уже давным-давно перестал забегать к ним домой, чтобы поделиться впечатлениями, спросить совета насчет мест, где еще сам не бывал – они и виделись теперь только в дни рождения его отца, на которых уже много лет за столом не сидел сам Коля – он умер, чуть-чуть не дотянув до шестидесяти лет. Это был страшный удар прежде всего для Тани, хотя этой смертью были ошарашены и все его знакомые и друзья.
Никто не представлял, что человек, закаленный скуднейшим детством военного времени, снабженный своими родителями – крестьянами высочайшей жизнеспособностью и наследственным здоровьем, покинет этот мир в столь раннем для такого прочного существа возрасте. Коля был одарен редким свойством внушать к себе искреннюю симпатию. Его обаяние нельзя было определить одним словом, действующее начало этого свойства было интегральным.
Красавец? – вряд ли прямо скажешь. Ладен? – бесспорно. Азартен? – Да! Тверд в симпатиях и убеждениях? Да как редко кто! Взыскателен, авантюрен, отзывчив, мил? Да, да, да, да! А еще легок на подъем, душа компании, страстный поклонник всего, что только стоит любить в этом мире – и «конечно же, женскую красоту». Таня, надо сказать, обладала всем необходимым женщине, которой не жалко посвятить себя целиком несмотря на наличие вокруг других красавиц и даже на привычку откликаться на их зов. Природное чувство такта, так же как и врожденное благородство духа обязывали ее саму постоянно оставаться на уровне безупречно высокой морали по отношению к мужу, которого она страстно, но не безумно любила, по отношению к своему родному сыну Илье, которому она, несмотря на любовь к мужу, могла посвятить себя без остатка, по отношению к приемному сыну Вадиму, Димке – который остался с отцом после его разрыва с первой женой, эмигрировавшей в Америку. Димке Таня тоже смогла бы стать настоящей матерью, если бы он сам в полной степени этого захотел, но, видно, Бог не дал ему столь явного желания, вернее Димка сам не воспользовался всем, что Бог предоставил ему в лице Тани, и потому она просто делала для него все, что должна делать хорошая женщина по отношению к отпрыску ее любимого человека, зачатого им от другой. Что же поделаешь – насильно мил не будешь. Но уже вполне взрослый Вадим, отец школьницы, когда после смерти Коли и развода с первой женой уехал в Америку на постоянное жительство, он вдруг обнаружил, что приемная мать ему дороже и ближе родной, с которой он теперь мог видеться, сколько хотел. Он часто звонил ей по телефону из своей Америки и был несказанно счастлив, когда Таня по его приглашению приехала к нему в гости на целый отпуск. Между собой единокровные братья Илья и Дима были дружны.
Илья незаметно подошел к возрасту творческой зрелости, когда писатель перестает удовлетворяться жанром рассказа или повести не потому, что они – «не то» или плохо удаются (с этим у него, Слава Богу, все было в полном порядке), а потому что в душе уже бродит сок, который он обязан превратить в высококлассное вино, то есть в многогранный роман – многогранный и сложный, как сама Жизнь.
В таком состоянии человек бывает резко недоволен собой, поскольку он уже забеременел замыслом, который никак не хотел определяться и изливаться на бумагу, подобно женщине, которую подташнивает, когда до родов еще далеко. Михаил не сомневался, что вино у Ильи добродит, и из-под его пера выйдет замечательная вещь. При этом его совсем не обижало прекращение общения с Ильей, хотя, по всей вероятности, он мог понять его лучше, чем кто-либо другой. Теперь и Таня верила в это. После прочтения первого романа Михаила она нашла в нем самом так удивительно много неожиданного для себя, что прямо так и высказалась сначала Марине, а потом и ему, что прежде считала его обычным человеком своего культурного круга – ну вроде Ильи Гильденблата или Гени Борисова или Олега Ивановича, а он, оказывается… – дальше Михаилу было бы неловко повторять. После этого Михаил ощутил, что общением с ним Таня как-то компенсирует нехватку откровенности со стороны Ильи – другого писателя, которому первый, кстати сказать, уверенно предрек успех в литературном деле.
Илья показал ему свои первые рассказы. Михаил совсем не считал, будто он вывел Илью на писательскую орбиту, потому как точно знал – на нее может выйти только сам автор, причем не как личность, а лишь как сублимация его существа в виде созданных им произведений. Для большинства людей, любящих классику, Пушкин – это в первую голову не неуемный соблазнитель светских дам и постоянный посетитель борделей, сожитель обеих своих своячниц, живущих в его доме, – нет! – он создатель дивных и проникновенных, входящих в душу, как музыка, откровений Небес, стихов а, сверх того-еще и, прозаик, превзойти мастерство которого едва ли возможно. Как ничего плохого о Пушкине, читатели ничего плохого не желают знать и о Лермонтове – желчном, злом, некрасиво ведущем себя и со многими женщинами, и со многими друзьями, ибо он – автор поразительной лирики и философского осмысления жизни, с которой он не был согласен, автор космического «Демона» и несостоявшегося в своих лучших возможностях «героя нашего времени». Точно так же редко припоминают великому Льву Николаевичу Толстому, что он напропалую портил крестьянских девушек, смел предъявлять претензии к отдавшей ему и его детям всю свою жизнь жене Софье Андреевне, а в конце концов буквально по-свински сбежал от нее (за что тут же был покаран смертью Господом Богом), а все помнят и видят его творцом «Хаджи-Мурата» и «Кавказского пленника», «Войны и мира», «Анны Карениной», «Воскресенья» и «Отца Сергия». А что остается в памяти о таком человеке, как Генри Миллер, который САМ о себе рассказал все, что не под силу выдумывать даже самому непримиримому его врагу? А то, что он как раз и есть самый честный писатель – честней не бывает, что он велик в своем мастерстве привлекать к себе друзей и искренне привязывать их к себе, несмотря на его свинские поступки, хотя он и не реже умел проявлять благородство к любым людям, встречавшимся ему на жизненном пути, будь то жены, любовницы или проститутки, для которых он почти сразу переходил из клиентов в искренне любимого человека, которого они сами брались содержать, или мужчины, спасавшие его деньгами в критические минуты, знающие, что ему еще очень долго нечем будет отдавать, или неведомые остальному миру мыслители, с которыми он сам любил общаться и которые приходили от него и его мыслей в восторг со своей стороны. Это творчество Генри Миллера задало тон исповедальной честности лучшим образцам современной прозы, это он прочертил в небе орбиту, до которой прежде не смели подниматься другие его коллеги из писательской гильдии, это он столь блестяще владел мастерством, что первый убедил человечество, что откровенность в сексе не есть ни порнография как таковая – без идей, без чувств любого плана, кроме похоти, ни мерзость типа той, которую откровенно выдавал из самого грязного дна своей поганой души нарочитый унизитель своих объектов сексуально-извращенного влечения маркиз де Сад. Михаил полагал, что камертон, настроенный на частоту честности Генри Миллера, должен задавать эталонную волну в голове каждого писателя, заслуживающего этого звания, и он уже имел доказательства, что в голове Ильи Кочергина она действительно звучит. А потому Михаил желал Илюшке успеха, как родному ребенку, несмотря на то, что между ними не было никакого родства, кроме духовного, и в дополнение к этому у него было одно желание, совсем не обязательно осуществимое – дожить до того времени, когда Илья решит свою сверх-задачу и сделает ЭТО – напишет превосходный роман.



