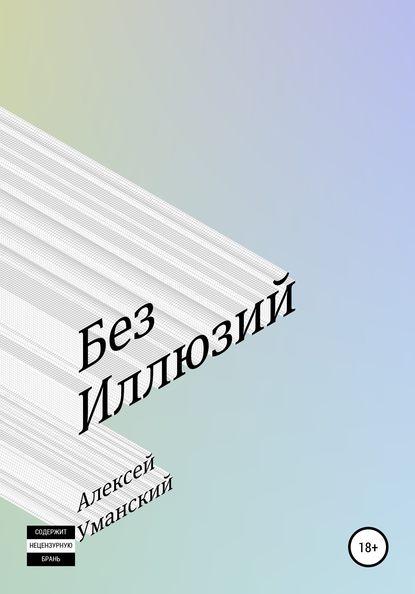 Полная версия
Полная версияБез иллюзий
Горбачев, выбранный Андроповым для совершения своего тайного замысла – обмануть историю и реанимировать социализм через капитализм, как это пытался сделать Ленин при помощи НЭПа – оказался неудачным кандидатом на эту роль. Вот уж кому еще больше, чем царю Александру I подходила Пушкинская оценка – «правитель слабый и лукавый»! Быть лукавым его обязывал сам замысел Андропова – обмануть весь мир (в первую очередь – свой народ), исполнить «финт ушами», а на эти уши еще навесить лапшу насчет временного отступления от плана построения коммунизма в мировом масштабе, чтобы потом, поправив истощенные телеса экономики социализма, вернуть себе в глазах мира алчное бескомпромиссное мурло большевистской власти, на сей раз настолько окрепшей, чтобы никто бы не смог остановить насквозь милитаризированный, насквозь пронизанный контролем тайной полиции коммунистический общественный строй, и не допустить препятствий его распространению по всей Земле. И чтобы нигде в мире не осталось никаких организованных сообществ – ни больших, ни малых – у которых были бы иные взгляды на то, как должны жить «свободные люди», чем у тех, кто бандитским террором хотел захватить себе вселенскую власть. В мозгу у Горбачева билась только эта андроповская мысль. Но насчет того, КАК осуществлять андроповский проект, он имел смутные, слабые представления и потому подавал их в весьма расплывчатой форме, которая вскоре выродилась в болтовню ни о чем, буквально лишь в долгие потоки слов, не несущих никакого смысла, чем тотчас же воспользовались эстрадные юмористы, мастерски повторяя горбачевообразные речи собственного сочинения, не менее, но и не более содержательные в сравнении с оригиналом.
Те, кто в первое время хотели верить, что Горбачев желает стране и народу добра, избавления от тотального духовного порабощения, от идеологического вранья, быстро оставили возникшие было у них иллюзии. За словесными декларациями угадывалось только одно: узкий кружок посредственностей, обалдевших от неограниченной власти и впавших в маразм еще и по возрасту, под названием политбюро ЦК КПСС, довел страну до такого состояния, что она уже практически не могла существовать по установкам, получаемым от него, а, следовательно, не могла обеспечить и сохранность своих властителей. Им вот-вот должен был перестать подчиняться из-за голода карательный и войсковой аппарат, с помощью которого они семьдесят лет только и поддерживали власть над разоруженным народом. Разуверившимся в коммунистических идеалах массам надо было показать новый путь, однако Горбачев и его компания указывали на старый, уже лет пятьдесят – сто назад (где как) пройденный ныне материально процветающими странами – на путь «свободного» предпринимательства, которое складывалось, формировалось силами и деньгами людей, сконцентрировавших основные национальные богатства в своих руках либо путем государственного и частного («классового») грабежа и разбоя, в том числе колониального, либо путем инициативного, так сказать, индивидуального воровства и бандитизма, дабы вступить в разворачивающийся капитализм с начальным капиталом, обеспечивающим их власть над теми, у кого капиталов нет. И бандитский капитализм, которому открыл ворота Горбачев, начал со страшной быстротой подминать под себя все, что было ценного в стране, а не только то, что в ней плохо лежало. В первых рядах новоявленных организаторов капиталистического рая шли те, кому и надлежало там быть по плану Горбачева: партийно-государственный актив, то есть партийные и комсомольские секретари – вплоть до районного уровня, министры, начальники главков, директора предприятий и организаций – короче, доверенные лица партии, которым были розданы в управление государственные деньги, собственность и всевозможные активы «под отчет» с тем, чтобы они запустили в стране производство всяких благ по капиталистическому образцу, а приумноженные таким путем богатства по истечению периода «наращивания мускулов» вернуть родной партии, ее центральному комитету, чтобы затем все пошло по-старому – как пожелает политбюро или главный вождь – и чтобы КГБ и армия проследили за тем, чтобы воля партии неукоснительно выполнялась. Но неискренность и глупость – явно и то и другое сыграли с Горбачевым и его политбюро злую шутку. Если они врали не только своей стране, но и себе – по глупости, разумеется, что доверенные лица партии, сделавшиеся капиталистами по ее решению, вдруг по сигналу из центра принесут свои капиталы назад под опеку и власть партийных и государственных органов – то это означало полное забвение ими – уже по причине полного кретинизма – их же собственной идеологической марксистской установки «бытие определяет сознание». Как же можно было надеяться, тем более рассчитывать на то, что вжившийся в жизнь успешного капиталиста партийный функционер или государственный чиновник сохранит коммунистический партбилет в собственном кармане и вернет партийному руководству все, что было отдано «в рост» «под отчет» до копейки за исключением мелочи на бытовые капиталистические обзаведения? Если надеялись, значит, были непроходимо глупы. Но скорее они просто сознательно врали, прекрасно отдавая себе отчет в том, что собой представляет перестройка, зачем и кому она нужна. А цель ее была чрезвычайно проста и не имела ничего общего с интересами управляемого народа: раз ситуация зашла настолько далеко, что лучшие люди страны, к которым они причисляли исключительно себя, не смогут дальше управлять страной по коммунистической схеме и правилам, то пусть ОНИ же продолжат свой правеж по капиталистической схеме и правилам – и пусть таковыми, то есть властителями – капиталистами и останутся во веки веков со своими детьми, которые получат деньги и власть по наследству на законных капиталистических основаниях. Это тоже было не Бог знает как умно, но все же эгоистически не глупо. А потом они обнаружили, что все идет не так, как задумано и в большом, и в малом.
На сцену вышли не только облагодетельствованные партией представители, делегированные в частный бизнес, являющиеся ее исторической надеждой. В казалось бы в разрешенную, якобы общедоступную сферу инициативной хозяйственной деятельности ринулись не только те, кому это было действительно разрешено, но и чертова уйма всякого разночинного сброда. Здесь были и истолковавшиеся по свободной жизни интеллигенты, имеющие за душой не столько деньги, сколько ценные и реализуемые идеи, и засыхающие от невостребованности государством в лице его полномочных «структур» изобретатели и первооткрыватели, и люди без всяких творческих способностей, но шустрых в банальных видах труда – такие как повара, изготовители тапочек, деревянных ложек и игрушек, парикмахеры, торговцы, перевозчики на личном автотранспорте, портные, прежде шившие одежду скрытно от властей и так далее; а еще – и в страшном числе настоящие владельцы преступных предприятий – «цеховики» – нелегалы, вышедшие на свободу уголовники, мигом увидевшие для себя множество подходящих экологических ниш. Началась государственная борьба с этими лишними самозваными капиталистами. Их, частников, кооператоров беспощадно сажали пачками как людей, не имеющих официального допуска к новым капиталистическим кормушкам и даже отстреливали без особых разговоров. Но поток не иссякал, а объявленную было «свободу предпринимательства» еще никак нельзя было отменять, чтобы преждевременно не скомпрометировать андроповскую затею с горбачевским НЭПом. И «мелкобуржуазная стихия», которую так ненавидели коммунисты, начиная с Карла Маркса, уже захлестывала официальную власть и, самое страшное – уже перехлестывала, тем более, что доверенные лица партии вели себя совсем не так, как должны были бы вести себя достойные коммунисты. Первым пренеприятнейшим и получившим широчайшую огласку случаем было сообщение о том, что бизнесмен и коммунист Артем Тарасов, занимавшийся продажей в СССР персональных компьютеров, закупленных им за рубежом, заплатил в своей партийной организации положенные месячные членские взносы в размере трех процентов от месячного заработка в размере 90.000 рублей. Эта сумма просто оглушила всех в стране – и обывателей, легко подсчитавших, что Артем «заработал» всего за месяц немыслимо огромную сумму 3.000.000 рублей, и руководство партии, возмущенное тем, как неосознанно или сознательно (скорее именно сознательно) скомпрометировал конспиративную деятельность «родной коммунистической партии, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов трудящегося народа». Разразился грандиозный скандал. Массы были возмущены, что одному человеку позволяют получать столько же, сколько зарабатывают в месяц две тысячи честных средних советских тружеников. Партийные бонзы негодовали, что какой-то гад, предатель и сволочь нарушил нерушимые правила конспирации, которая верно служила делу коммунизма еще со времени образования «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Партия не нашла ничего лучшего, как попытаться погасить огонь скандала решением о реституции всех компьютеров, проданных Тарасовым. И тут тоже возникло «кино» – в СССР если и знали, что представляет собой созвучное слово «проституция», то о реституции люди не слыхали никогда. Если оно означало что-то обратное проституции (все-таки приставка «ре» означает именно обратное), то что же все-таки «обратное проституции» потребовали от Артема Тарасова (кстати, из этого логически следовал еще один вывод – что тот зарабатывал не чем-нибудь, а именно проституцией – не больно ли дорого брал?). Но хитрый Тарасов умело ушел от удара. У него же было в заначке достаточно средств, чтобы выполнить не только решение партии, но и свою собственную задачу – вылететь из партии, освободиться от обязательств, которыми его связали как «доверенное лицо партии» и спокойно и безоглядно действовать на диком и ненасыщенном товарами советском рынке уже вполне самостоятельным бизнесменом. Кстати, несколько лет спустя Михаил, просматривая по телевизору одну новостную программу, сам стал свидетелем комической забывчивости все того же самого одиозного Артема Тарасова, который клялся, что никогда в компартии не состоял. С такими деньгами, которыми он теперь владел, можно было вешать лапшу на уши людям, уже вроде как забывшим, что Артем именно потому получил всесоюзную известность, что заплатил со своих доходов именно ПАРТИЙНЫЕ взносы, поскольку он хотел вести себя как настоящий член КПСС в соответствии с ее уставом (за этим, кстати, пристально следили органы партийного контроля. За жульничество со взносами запросто можно было «положить билет на стол» и тем самым положить конец своей карьере – после этого взять провинившегося на работу могли разве что в дворники). Видимо, вступив в новую фазу своего существования в качестве респектабельного капиталиста, Артем Тарасов нашел для себя полезным отмежеваться от своего коммунистического членства, заставить забыть о нем. Однако прошлого так скоро не смоешь. Не надо было платить членских взносов, тогда, возможно, и кануло бы в лету то, что он работал главным инженером какой-то московской организации, а это была должность, которую без партбилета в то время немыслимо было получить. А ведь людям нерабочих профессий приходилось в очереди стоять, пока не будут в их организациях получены разнарядки из райкомов на прием новых членов. Неожиданная метаморфоза в обществе, оказавшемся не в состоянии «осчастливить» не только все человечество, но даже и собственных граждан, заставила очень многих стереть в своей памяти даже самые малозаметные следы тех удач, которых они так горячо и старательно добивались. А высший слой партократии забеспокоился всерьез. Власть уже перетекала к тем, кому было доверили, но кому доверять было нельзя. И наверху не нашли лучшего, чем из опасной, засасывающей топи стихийного капитализма попытаться вернуться обратно на кочку социализма, в чью твердость глупцы продолжали верить, хотя она тоже уходила в зыбь все глубже и глубже. С участием Горбачева политбюро вынесло решение свернуть перестройку, ушедшую «не туда», а заодно ликвидировать самого смелого и откровенного борца за радикальное контркоммунистическое обновление общества Бориса Николаевича Ельцина. Сам высокопоставленный партиец, кандидат в члены политбюро ЦК КПСС, Ельцин порвал со своими «коллегами», которые позволили себе не только заявить ему, что его общественная деятельность закончена, но и посмеяться над его безнадежной беспомощностью, как вдруг обнаружили, что Ельцин не только не сломлен, но и стал куда опасней и сильней. В первый раз члены политбюро узнали, что такое реальная поддержка масс человеку, которого они исключили из социальной жизни. В первый раз изгой из рядов партии ухитрился «умыть» их руками и голосами тех, кто прежде безропотно им подчинялся. И таких вдруг оказалось подавляющее большинство. Пять миллионов голосов против сорока трех тысяч – с таким счетом Ельцин выиграл первую официальную схватку с похоронившей его камарильей. Новые попытки сокрушить Ельцина давали откровенно карикатурные результаты. Оставалось одно – похоронить Ельцина не просто в гражданском смысле, а радикально, на самом деле. И с этой целью был запущен в ход план политбюро по организации путча под эгидой «верной ленинским принципам» части партийного руководства, которую следовало именовать впредь государственным комитетом чрезвычайного положения (ГКЧП). Договорившись обо всем с остальными заговорщиками, президент СССР и генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев уехал в Крым отдыхать, пока его коллеги не проведут всю возложенную на них черную работу. Как главарь банды, он считал, что имеет право лично не марать рук и репутацию в грязном деле и полагал, что вернется из отпуска в публичную политику сразу после победы заговорщиков и окончательного устранения Ельцина, за которое он, отпускник, естественно не мог нести никакой ответственности. Но заговорщики, оставшись без главаря, никогда не желавшего пачкаться и подставлявшего вместо себя других в качестве виноватых во всяких вооруженных подавлениях волнений, то там, то тут происходивших в стране, решили, что с них хватит такого верховного вождя, который сам ничего не хочет делать и боится за что-то отвечать, им это больше не с руки – терпенье кончилось. А потому вместо преподнесения ему переобновленной власти «на блюдечке с голубой каемочкой», соратники заключили его под домашний арест с тем, чтобы в дальнейшем полностью устранить его с политической арены. Изолированный, растерянный, едва державший себя в руках, но уже прозревший истину относительно своей дальнейшей участи Горбачев с насмерть перепуганной женой Раисой Максимовной, от страха потерявшей дар речи, с чувством избавления от гибели принял посланную ему Ельциным помощь во спасение, как чудо с Небес. К этому моменту Ельцин уже справился с заговорщиками. Но он не стал отправлять Горбачева вслед за его гекачепистами под арест. Он всего лишь поставил одно условие – Горбачев уходит с политической арены с миром, оставляет пост президента СССР, а сам СССР, который Горбачев не пожелал реформировать так, как хотели Россия, Казахстан и другие республики – в прежнем виде они себе оставлять не собирались.
Горбачев, но особенно его подручный Анатолий Лукьянов этого не понимали. Забравшись на «верх горы», они считали, что теперь все их замыслы будут автоматически выполняться, а их воля столь же автоматически станет законом. И сколько-нибудь сытая, без особой натуги сводящая концы с концами масса народонаселения, давным-давно обезоруженная своей вооруженной беспощадной коммунистической властью и во всем зависящая от нее, так бы и осталась послушна, но она жила уже на грани голода, а потому о надежде на прежнее послушание уже не могло быть речи. Люди стали нервными, их будоражил страх очень вероятной голодной смерти, с этим срочно надо было что-то делать, а Горбачев с компанией ничего такого не могли. Спустив за продовольствие на Запад весь золотой запас, перестав покупать за границей лекарства, необходимые для продолжения жизни множеству людей, оставив магазины без продовольственных товаров в буквальном смысле этого слова – в них было шаром покати – власть расписалась в своей неспособности и бессилии. Все, что у нее осталось – это ракетно-ядерные силы и возможность угрожать противникам из НАТО – если вы доведете нашу страну до вымирания, знайте – одни мы не умрем и не дадим вам исполнить канкан на наших костях. На Западе это очень хорошо осознали,
По обе стороны от «железного занавеса» никто не хотел умирать. И хотя желание уничтожить Россию как геополитического гиганта у западных правителей отнюдь не прошло, они были вынуждены подкармливать Россию «гуманитарной помощью», тем более, что это им недорого стоило при наличии огромных излишков продовольствия. Конечно, они старались получить за это огромные уступки, сокрушить колоссальную военную мощь – и они многого в этом действительно добились, хотя и далеко не всего, что хотели получить. В этом и была Главная Заслуга Ельцина и Гайдара. Проводя демократизацию в России по своей воле, именно по своей! – хотя и под контролем Запада, они невероятными усилиями и политической ловкостью, мало заметной со стороны, ухитрились увести страну от угрозы массового голода и продолжить жизнь уже на основе да бессовестного, да циничного и грабительского, но свободного капиталистического частного предпринимательства. Теоретически экономику страны, работавшую на 80 % на нужды милитаризма, можно было удержать от полного развала, если бы для этого были время, деньги на демилитаризацию промышленности и новые профессионально грамотные кадры. Но времени не было – голод не собирался ждать. Денег не было – все, что оставалось в казне, верхушка партии раздала своим «доверенным лицам». И руководящие кадры остались прежние – те же секретари верхних уровней партийной иерархии, те же министры, банкиры, директора. В новой экономической ситуации они не могли конструктивно мыслить, и единственное, к чему они теперь в высшей степени деятельно стремились – это стать персональными и легальными хозяевами отраслей промышленности, банков, предприятий, и им это повсеместно удавалось. Это было именно то, что замыслил еще Андропов, только делалось оно не в интересах будущего возрождения компартии в ее прошлой мощи, а исключительно для обогащения и удовлетворения бывших лиц партхозноменклатуры, ставших главными капиталистическими магнатами страны. Демократия своими институтами стала работать преимущественно на них? Прекрасно! Можно не корчить из себя скромников, всячески ловчить, выдавая себя за таких же идейных борцов за победу коммунизма, как и рядовые члены партии. Зачем было ездить на «Волгах», когда гораздо комфортнее было в «Мерседесах», «ВМВ», «Ауди», «Тойëтах», «Вольво», «Феррари», куда они и кинулись пересаживаться. Зачем было жить в одно-двухэтажных дачах, не видных за высокими заборами? Заборы, разумеется, надо было оставлять прежней высоты, но вот дома, увенчанные башенками, должны быть такими огромными и по площади, и по высоте, чтобы по ним можно было судить о реальном богатстве, реальной власти и могуществе их обладателей – и чтобы никакой забор не мешал это понимать. Кстати, такие дома и замки можно было строить не только на родине – их можно было возводить, а еще проще – прямо покупать за рубежом.
На Лазурном берегу Франции, на Канарах Испании, на Итальянской Сардинии было куда приятней отдыхать в кругу богатых людей из всех стран, чем в Сочи, Гагре, Пицунде или в Крыму по соседству с домами отдыха для трудящихся, опекаемыми ВЦСПС. Деток не надо было устраивать по блату в лучшие отечественные ВУЗы. Гораздо престижней стало определять их в самые известные заграничные университеты – лучше всего в Англию, но неплохо и в Америку, и во Францию, где тоже кое-где умели хорошо учить. А после этого и деткам будет в полном объеме открыта возможность припеваючи жить, даже не думая о возвращении обратно в родную страну, где еще неизвестно, когда закончатся благие преобразования, да и кончатся ли они когда-нибудь вообще и не сменятся ли там властители, не будут ли они снесены новым цунами народного психоза, возбужденного властолюбцами и корыстолюбцами, не преуспевшими раньше, во время Великой капиталистической революции, свергнувшей власть коммунистов. Запасной аэродром всегда должен находиться на Западе, и будет очень неплохо, если он станет и основным для всех членов новых династий. Урвать как можно больше и быть готовыми в любой момент смыться за границу стало главным поведенческим принципом подавляющего большинства постсоветских капиталистов – выходцев из партхозноменклатуры и примкнувших к ним уголовных элементов. Образовалась олигархия в двух разнящихся исполнениях. Одна группа олигархов всячески способствовала тому, чтобы все знали, кто они такие и что именно они вершат ходом жизни в стране. Они действительно были очень влиятельны и откровенно страшно богаты на фоне всеобщей скудости или нищеты. Другая группа олигархов совершенно не желала «засвечиваться» в качестве лиц, обладающих неконституционной властью. Их гораздо больше устраивала социальная конспирация и тайновластие как лучший способ ведения дел. Обладая легальной властью и привычкой к ней, они не могли допустить, чтобы кто-то в стране мог получать больше их. Чиновные олигархи без большого шума сделались сильней и богаче олигархов от бизнеса, который был и столь же криминален, насколько была коррумпируема подкупаемая им (но не купленная на 100 %!) официальная власть. Это они считали своим естественным или, выражая то же понятие языком феодальной Европы, своим ленным правом. В неменьшей степени естественно было и то, что на всех нижестоящих уровнях административной власти чиновники изо всех сил подражали высшим слоям и даже стремились их превзойти. Без взяток нельзя было добиться практически ничего ни бизнесменам от местных чиновников, вольных разрешать или запрещать, ни больным от врачей, вольных лечить или отказать в помощи по тысячам предлогов. Поступление в ВУЗ, причем на места с бесплатным обучением! – вылилось в конкурс кошельков родителей абитуриентов, а размеры взяток нескольких видов (от якобы репетиторства, «добровольных» взносов на поддержание ВУЗа, до сумм на зарубежный счет декана) зашкалило настолько, что коррумпированность высших учебных заведений превзошла заведомую продажность многих других сфер и вышла на второе – третье место в стране как по значимости для общества, так и по величине денежных сумм, поступающих в карманы мздоимцев.
Среди российских владельцев особняков в континентальной Испании и даже на Канарских островах появились якобы «нищие» профессора институтов и университетов. Это было действительно новое слово в экономике и в системе образования страны. Массовая коррупция поразила все чиновные этажи в вооруженных силах. Продавалось на сторону все – от солдатской тушенки и круп до стрелкового оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов. Заказчики новой техники требовали от ее проектировщиков и производителей откат в размере до 90 % от номинальной стоимости заказа. А ведь в соответствии с официальной самоидентификацией воинского сословия это были самые честные и надежные патриоты из всех граждан страны – это именно они, как пелось в заказанной ими песне, говорили о себе: «Мы никогда и нигде не посрамили честь солдата», хотя под словом «солдат» понимали в первую очередь офицера, генерала и маршала. Вывод войск из ГДР ознаменовался чудовищными распродажами советского добра, от доходов которой собственно возлюбленная Родина генералов не увидела от них ничего.
Люди, существующие на нижнем этаже общества, то есть трудящиеся, живущие на ничтожную в сравнении с взлетевшими до небес ценами зарплату, пытались как-то устроиться в новых условиях и в новых социальных ролях. Сокращенные с основной привычной работы, они вливались в ряды торговцев на рынках, которых нанимали выходцы из Айзербайджана и Чечни, в армии «челноков», снующих из России за рубеж и обратно с сумками, набитыми каким угодно товаром, осуществляя прежде запрещенный вид деятельности – спекуляцию. Выслужившие срок по призыву солдаты и уволенные из армии и спецслужб офицеры массами устраивались в частные охранные предприятии, ставшие одной из основных легальных форм, служащих прикрытием рэкету и бандитизму. Спортсмены, вышедшие в тираж, особенно те, кто занимался стрельбой, боксом и единоборствами, стали ядром специальных фирм, занятых вышибанием денег из должников и убийствами по заказу. Туда же шли и оказавшиеся невостребованными спецназовцы ГРУ, ФСБ и министерства внутренних дел. Волна неожиданных превращений людей «из одних в другие», подобно цунами захлестнула всю страну. В несколько сглаженном виде она дошла и до института патентной информации. Начались крупные кадровые перемены. Григорий Саулович Мусин сделался заместителем директора. Прежний ушел в частный бизнес в качестве директора фирмы «Дипчел», что в развертке акронима означало «Дикая пчела» – она арендовала помещения в здании института. Этот заместитель директора ничем особенным не запомнился сотрудникам, поскольку работал недолго. Но при нем прошла аттестация кадров, и Михаил нежданно-негаданно сумел обрадовать его как раз на заседании аттестационной комиссии, на котором рассматривалась, в частности, и его кандидатура. Григорий Саулович зачитал вслух характеристику аттестуемого Горского. Она прозвучала в ушах прямо-таки хвалебным гимном. Председательствующий, тот самый заместитель директора, обратился к Михаилу со стандартным вопросом, согласен ли он с данной ему характеристикой. – «По-моему, она чересчур лестна для меня», – ответил Михаил. – «Ну, наконец-то! – вскричал заместитель директора. – Все-таки нашелся один такой! А я уже думал, что такого и не услышу!»



