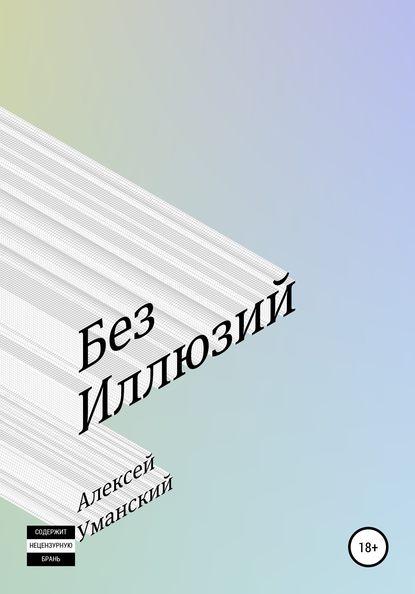 Полная версия
Полная версияБез иллюзий
Михаил заметил, что время он времени Таня звонила ему по телефону из соседней комнаты, чтобы узнать, где сейчас Сергей Яковлевич. Удостоверившись в отсутствии Великовского, она исчезала из института. Пару раз Михаилу случилось удостовериться, что она сразу отправлялась на свидание – у нее при этом был обо всем говорящий вид. Несмотря на свою заочную симпатию к пчеловоду – летчику (правильней, конечно, к вертолетчику-пчетоводу), Таня была симпатина Михаилу и этим. Милая и отзывчивая женщина безыскусственно вела ту жизнь, которая была ей по душе, и плохо от этого никому не было, разве только небольшой ущерб наносился работе, да и то лишь с точки зрения Великовского, а на деле, скорей всего, нет. Удовлетворенный человек, в том числе и женщина, больше и лучше сделают даже на работе, если испытают душевный подъем и радость после удачной интимной встречи. Вот этого-то Сергей Яковлевич как раз и не понимал, а, пожалуй, ему лучше было бы это делать, поскольку кроме Тани в его лаборатории работали еще несколько женщин, в том числе и довольно колоритные. Молодая и красивая незамужняя (уже незамужняя, как потом узнал от нее Михаил) Наталья Ивановна Смирнова могла бы казаться миниатюрной, если бы миниатюрности не была бы присуща такая прекрасная, чарующая объемность фигуры – кстати сказать, вполне стройной и ладной. Так называемые «точеные» узкие фигурки волновали гораздо меньше. У Ларисы Танковой тоже была завлекательная фигура, притом более гибкая, чем у Наташи, но Наташа выглядела пикантнее. Она была уверена в своем ударном сексуальном воздействии на мужчин и вела себя соответственно: ходила очень уверенной походкой, не глядя по сторонам и не строя глазки, чуть что, дабы привязать к себе мужчину – они привязывались к ней и без этого. После первого замужества, скорей всего, короткого, она больше не стремилась связать себя супружескими ограничениями. Полушутя – полусерьезно Михаил спросил ее: «Красавицы Кадикса замуж не хотят?» – и Наташа просто кивнула ему в ответ.
Свобода, которую она так ценила в своей любовной практике, не мешала ей ни верить в Бога, ни еженедельно посещать храм, где она навряд ли молилась о прощении за грехи – скорее просто искала общения со Всевышним, чтобы он даровал ей новые случаи и возможности для любви. У Наташи был хороший художественный вкус – природный или развитый ее тетей – скульптором – Михаил не знал, да это и не было важно. С ней можно было обсуждать и вполне серьезные темы, и тут она тоже оказывалась на высоте, не оправдывая ожиданий встретить в своем лице только поверхностную завоевательницу – кокетку. Короче, она могла заинтересовать собой буквально с любой стороны, но чаще ее удовлетворяло всего лишь одностороннее самопроявление. А зачем ей было бы больше? И так все срабатывало отлично. Пускаться во все тяжкие не было никакой необходимости. И все остальное, чем она могла прельстить к себе, оказывалось законсервированным в резерве, очевидно, на случай, когда ей захочется намертво приковать мужчину к себе, особенно если он сначала артачится. Чем она занималась на работе, Михаил не знал, да в этом и не было никакой необходимости. А так – она позволяла себе незло иронизировать над Сергеем Яковлевичем, над его якобы равнодушием к женщинам на работе и даже над его «упитанностью», на самом деле вовсе не чрезмерной (Великовский был просто «плотного» сложения, а гурманом не являлся определенно).
Татьяна Степановна Семенова-Таншанская являлась единственной, кого Михаил немного знал до поступления в институт патентной информации. Она была близкой приятельницей Люси Хомутовой. Люся и познакомила их. Татьяна Степановна действительно имела отношение к знаменитой семье великого географа, графа, одного из богатейших людей России, обладателя семнадцати имений в разных частях империи. Танин муж, геолог, приходился правнуком Петру Петровичу, заслужившему почетную прибавку к родовому имени от названия горной страны, открытой для Запада именно им. Таню делал заметной не только ее высокий рост, красивое телосложение, но и умное, с несколько замкнутым выражением лицо. Она и впрямь обладала умом, который выделял ее из других сотрудниц. Великовский полагался на нее больше, чем на многих других. Однако познакомиться с нею ближе Михаила не тянуло.
По-настоящему глубоко знала все относящиеся к информационному поиску и его языковому обеспечению из числа сотрудников отдела Мусина только Алина Андреевна Протасова. Михаил «усек» это сам еще до того, как выяснил, чем она действительно занималось. Но познакомиться поближе им довелось не скоро.
Зато с кем нельзя было не познакомиться в самые кратчайшие сроки, была Яна Долина, чуть излишне полноватая женщина, говорливая, памятливая и остроумная, она сильно напоминала Михаилу его бывшую сотрудницу Нору Кирьянову, которую весь отдел вслед за ним называл Норой Бернарой. Яна имела двух детей, причем старший сын уже окончил школу и увлекался не то джазовой, не то поп-музыкой. Так же, как и Нора, Яна была великолепной артисткой, способной голосом и мимикой серьезно или иронично воспроизводить любую ситуацию. Надо думать, она была мила и очаровательна всего несколько лет назад, но что-то в ее внешности было уже безвозвратно потеряно, а может быть, не только во внешности, но и внутри. Она вплотную подошла к порогу, за которым ее прошлая жизнь, посвященная в основном детям, грозила потерять смысл, тогда как другого смысла она пока не находила. А жаль. Она могла бы стать не только артистическим украшением на работе, но и кем-то еще, вот только необдуманно все это упустила, хотя работала еще с самим опальным Гельфандом, пусть и на малозначащих ролях.
В лаборатории Гольдберга, самой малочисленной в отделе, работали всего две женщины – Женя Лунц и Зина, фамилию которой Михаил так и не выяснил. Женя была той, кого называют интересной женщиной: живой, умной, активной и притом довольно красивой. Зина, постарше возрастом, казалась скромней и застенчивей. Редкие разговоры с ней как будто свидетельствовали о том, что Михаил нравится ей. Возможно, ей действительно хотелось пробудить в нем интерес к себе, но она не желала действовать с откровенностью, принятой среди нового поколения, к которому она уже не принадлежала. Но встречная симпатия была всем, что он мог дать ей в ответ. А Женя уже готовилась стать женой Бориса Гольдберга. Был ли это у нее первый брак, выглядело сомнительно. Такая женщина в силу переполняющей ее энергии старается узнать и получить от жизни все, что хочется, раньше других. Так оно и оказалось. Но все это тоже шло мимо Михаила. Знакомства с новыми женщинами носили для него характер приятного аккомпанемента во время длительного и в общем-то тягостного пребывания на работе. Основной его интерес был совсем в другом, хотя он достаточно интенсивно занимался тем, что они с Сергеем Яковлевичем назвали «Справочником МКИ» – базой данных всего массива лексических единиц и индексов этой классификации. Судя по всему, эта затея вызвала в институте интерес. В МКИ и прежде пытались «влезть» с различными новациями ради повышения эффективности работы с ней со стороны внешних пользователей, в том числе и за счет ввода ее состава в машинную память и обращения к ней через компьютер. Однако это никак не удавалось осуществить должным образом. Единственное, чего достигли прежние авторы затей, было машинное издание МКИ. Остальное зависло в воздухе. Поэтому на заседание секции научно-технического совета, где Михаил Горский выступал с докладом о путях совершенствования доступа к МКИ и о разработке тезаурусов по отраслевым разделам МКИ, пришло много народу не только из-за интереса к делу, но и просто для того, чтобы взглянуть, что за зверь этот Горский. Михаил чувствовал, что Мусин и Великовский предложили ему своего рода публичное испытание – как бы хорошо они к нему ни относились, но в деле-то они его еще ни разу не видели, довольствуясь только слухами, а им, конечно, следовало убедиться, что слухи не врут. С задачей подтвердить свое реноме, забежавшее в институт поперед его появления, Михаил справился. С ним даже начали здороваться при встречах в коридорах некоторые люди, которых он не знал. У Сергея Яковлевича явно отлегло на сердце. Дальнейший путь для работ был открыт.
Михаил и его сотрудницы Ламара, Наташа и Миля в ходе предварительных исследований установили, что в МКИ преобладают «атерминологические» рубрики (то есть рубрики, в которых описываются общеродовые свойства относимых к ним предметов) над «терминологическими», то есть теми, где относимые к ним предметы назывались по именам) в соотношении 57 % на 43 % в пользу первых. Это подкрепляло идею о необходимости или, по меньшей мере, целесообразности разработки тезаурусов по отраслевым разделам МКИ. Михаил не предполагал разработки сразу общего для всех разделов единого тезауруса, хотя это было бы еще более разумно, но для этого требовалось бы много больше сотрудников, да и времени тоже потребовалось бы больше.
Тогда же развернул свою работу и Борис Львович Румшиский, при котором тоже образовали группу сотрудников. Борис Львович поступил в институт примерно за квартал или чуть больше до появления Михаила. Они с Сергеем Яковлевичем уже были «на ты». Точного представления о том, чем собирался заниматься Румишиский, у Михаила пока что не было: тот прямо не говорил, а спрашивать было неудобно. Скорее всего это могло относиться или к автоматическому индексированию или к машинному переводу, в возможность обеспечения которого на должном уровне качества уже успел разувериться долго занимавшийся этой проблемой в институте известный прежде энтузиаст этого дела Леонид Григорьевич Кравец, в прошлом закордонный агент наших спецслужб – умный человек, хотя и с перенапряженным от нелегальной работы в опасных условиях нервным аппаратом, лечить который он, по слухам, давно пытался алкоголем. Михаил со своей стороны также не верил, что на нынешнем уровне знаний достичь приличных результатов в машинном переводе по универсальной тематике пока нереально – еще не было создано соответствующей и логически достаточной сводной лингвистической инфраструктуры, включающей как одноязычные и многоязычные машинные словари, так и синтаксические средства различных языков, обеспечивающие стыковку обрабатываемых и выходящих текстов.
Борис Львович Румишиский был далеко не новичком в этих делах. По его словам, он уже в третий раз должен был начать заниматься ими в своей жизни. – «Мало радости», отозвался на это признание Михаил. – «Мало!» подтвердил Борис Львович. Михаил представил себя на его месте, в тематическом смысле, конечно. Ранее не давали возможности доводить работу до конца, иногда останавливали непреодолимые проблемы из-за общей нехватки знаний – не только у него, но и у всего человечества. Модели автоиндексирования и перевода создавались довольно просто с завидной регулярностью то здесь, то там, то у нас, то у них за границей. А насыщать-то их оказывалось нечем, кроме элементарных словарей по узкой тематике, а с распознованием разнообразнейших средств для выражения одного и того же смысла нынешние алгоритмы и подкрепляющие их лингвистические материалы справиться всерьез не могли. То, что без напряжения отождествлял по смыслу ребенок с пятилетнего возраста, умные дяди и тети, напрягаясь изо всех сил, не могли научить делать машину. И это только в области письменной и отчасти устной речи. А что касается прямого вербального мыслеобмена, то тут не было ясно вообще ничего. Михаил полагал, что только с этой стороны мог быть совершен реальный прорыв в безбарьерном обмене информацией и знаниями в полном объеме, но одновременно чувствовал, что на прямой и тотальный мыслеобмен Небеса наложили веточеловечество не заслужило этого дара ни в прошлом (по крайней мере, в рамках нынешней цивилизации и культуры), ни в настоящем (а то, глядишь, его применение ограничилось бы только рамками спецслужб, желающих все знать о своих подданных, особенно их тайные мысли), велики были шансы на то, что и в будущем не успеет заслужить, потому что Всевышний Творец может окончательно прогневаться на так называемых «чад своих», которым он Высшей Милостью своею дал и разум, и свободу творчества, но которые куда чаще извлекали из этих милостей все новые и новые пакости и безобразия, и разом прихлопнуть весь неблагодарный род, всю породу, скомпрометировавшую и себя, и Его надежду насчет того, что и без постоянного Небесного контроля она сумеет удерживать себя на Промысленном Им благодатном пути.
Борис Львович был вполне достаточно умен и образован, чтобы понимать это не хуже Михаила. Кто-то в его присутствии обмолвился, что Румишиский – сын академика. Сам Борис Львович об этом никогда не говорил. Единственная допущенная им в присутствии Михаила оговорка в разговоре с Великовским была буквально следующей: «в институте отца». Что это был за институт, Михаил не представлял, как не знал и того, кем был Борис Львович – потомственным математиком или, если так можно выразиться, «самородным». Еще одна оговорка, правда, без прямого упоминания об отце, была произнесена, когда он отпрашивался у Великовского на чьи-то похороны. Видимо, покойный был очень значимой личностью, т. к. как бы в обоснование своей просьбы Румишиский сказал: «Поскольку я имею наглость считать себя его учеником…» Скорей всего, это был друг семьи, в основном отца, и тоже академик на сей раз уж точно математик, раз Борис Львович, «посмел» считать себя его учеником.
В распоряжение Румишиского были переданы три молодых специалиста, попавшие в институт по заявке и распределению. Все они окончили филологический факультет МГУ по кафедре структурной и прикладной лингвистики. Это был симпатичный молодой человек Миша Волович, и две еще более симпатичные девушки: Оля Сазонова и Алла Мордовина, которая, впрочем, уже была замужем. Борис Львович с видимым рвением взялся за подготовку ребят к не совсем знакомому им делу. Такая педагогика была ему явно по сердцу. Сам он объяснял это тем, что очень любит детей, хотя детьми их можно было считать с очень большой натяжкой. Алла была весьма пригожа лицом, ходила вместе с мужем в походы на построенном им самим каркасно-надувном каяке. Оля тоже была хороша, особенно фигурой. На ее ножки можно было смотреть без скуки. Ей случалось работать в дальних экспедициях геологов поварихой во время каникул не то ради денег, не то для любимого человека. Один полевой сезон она провела аж на Командорских островах, если точнее – на острове Беринга, а там со времен командора побывало не так много людей. Михаил и сам с удовольствием походил бы по столь отдаленным местам, как Камчатка, Чукотка, горная Якутия, но никогда не имел для этого необходимого времени и денег, а еще ему была противна мысль путешествовать с милицейского разрешения – без этого туда нечего было и думать попасть. Разрешения же могли получить либо посылаемые туда по работе, либо по туристской путевке на организованный маршрут, а Михаил давным-давно забыл о подобном участии в походах.
Миша Волович, мальчик из интеллигентной семьи, уже женатый «на Ленке» – такой же своей однокурснице, как и Алла с Олей, походами, похоже, не интересовался. Но он был развит именно так, как это дается только любимым детям из культурных семей – разностороннее знакомство с литературными, живописными, скульптурными, архитектурными и музыкальными ценностями, обладание или хотя бы только поверхностное знакомство с которыми позволяет легко взращиваться в мозгу почти любым другим ценностям из универсума современных знаний. Девушки ласково именовали его так же, как в университете – Мишасик. Сидя в одной комнате с Румшиским и его командой, Михаил Горский невольно слушал их разговоры. В них было много новых для него слов, характерных для сферы лингвистического анализа, каким он никогда не интересовался. Изредка слышал их от Бориспольского и некоторых его коллег, но и только. В разговорах и там и тут упоминались одни и те же фамилии признанных авторитетов, о чьих заслугах Михаил также ничего не знал, Но разговоры в комнате велись не только на узкопрофессиональные темы, особенно в отсутствие Великовского. Однажды обсуждались широко освещавшиеся в то время вопросы трансвестизма. По этому поводу Борис Львович заметил, что он и сам мог бы пойти на изменение своего мужского пола на женский – настолько он любит детей. Этот мотив, прозвучавший от него второй раз, заставил Михаила насторожиться. Что-то в облике Румишиского не вязалось с образом «друга детей», по крайне мере в том стандартном смысле, который вошел как клише в сознание миллионов людей. Михаил вообще не понимал, что мешает любить детей больше всего на свете даже мужчине, тем более – зачем ради своего потомства и полноты собственных чувств менять свой пол на женский, дабы рожать (если биологически это вообще будет возможно после противоестественной операции), испытывая все специфические муки детопроизводства, которые выпадают на долю женщин? Ему и так претило все противоестественное, будь то искусство якобы абстрактного (на деле профанаторского) типа или логический нонсенс, он полагал, что – «Незачем из Европы ехать с Мекку через Серверный полюс» или делать другие глупости в том же роде. Конечно, генетика способна выдавать нестандартные сочетания физиологического (или соматического) и сексуального начал, особенно когда, по сведениям из эзотерических источников, после ряда реинкарнаций одной души ее пол при новом воплощении может смениться на противоположный, но уже от Бога, а не после самодеятельных человеческих инициатив. Ребята – лингвисты, похоже, также не считали трансвестизм чем-то вполне оправданным. Борис Львович остался в одиночестве со своими представлениями об этом спорном деле, но, как оказалось, ненадолго. Вскоре он взял на работу недавно окончившую школу Катю, дочь своих знакомых – девочку серьезного вида, возможно, благодаря очкам, привлекательную и, наверное, милую, потому что Борис Львович ради нее развелся со второй женой, от которой у него был второй ребенок (первым был сын от первого брака, давно уже взрослый – он жил уже в Соединенных Штатах и был главой крупнейшей в этой стране фирмы, выпускающей стеклянные игрушки), Катя вышла за него замуж, забеременев уже третьим его ребенком. Вопрос о любви к детям без использования оперативных и гормональных средств для изменения пола разрешился сам собой, правда, где-то через два года. Михаил не почувствовал никакой перемены в себе в отношении Бориса Львовича. Ну, соблазнился молоденькой девочкой – разве это редкость? Ну, пошел на поводу у страсти, которая отбила у него мозги. А то и не отбила – просто девочка, возможно, вполне современная по образу своих мыслей, сама намеренно соблазнила его и вынудила жениться на себе? Ничто не было ново под Луной. За что же тогда осуждать в общем-то действительно доброго, хотя и немного странного человека, уставшего от интеллектуального однообразия на работе, от эмоциональной неполноты бытия, в котором не было живительной (или оживляющей) пикантности? Должно быть, у Кати имелись далеко идущие планы, когда она привязывала к себе немолодого человека. Ей хотелось выехать из страны навсегда, и Борис Львович для этого подходил. Шла перестройка. Выезд в Израиль (или как бы в Израиль), а на деле в Америку уже не считался государственной изменой, хотя изъяном в биографии все-таки был. Возможно Катя рассчитывала, что старший сын, от которого у Румишиского было уже двое внуков, удачливый бизнесмен, не оставит отца без помощи после переезда в Америку, где он, кстати сказать, уже побывал с реконосцировкой. Когда Михаил спросил его, собирается он в скором будущем еще раз съездить в гости к сыну, Борис Львович ответил, что в этом нет смысла – надо либо оставаться, либо уезжать туда с концами. Судя по его рассказам об Америке, Румишиский примерялся к делу, которым мог бы заняться, эмигрировав из России. Кое-что его устраивало, кое-что нет. Он бы мог там продолжать работу программистом, если б только захотел. Но вот охоты у него как раз и не было. Но выход нашелся. Через какую-то еврейскую организацию религиозного характера он вместе с Катей вошел в общину правоверных евреев, которая могла их содержать на скудном вспомоществовании в России, пока они не передут в общинное владение где-то в Штатах. Он рассорился с Мусиным (с Великовским еще до этого) и написал заявление об уходе, которое Григорий Саулович немедленно подписал и передал наверх, боясь упустить возможность избавиться от человека, не оправдавшего его надежд. Других мотивов у заведующего отделом не было. Времена уже действительно настолько изменились, что ему уже не угрожали партийные и административные разбирательства по поводу желания его подопечных уехать в Израиль. К этому моменту из лаборатории Венина уже уехали двое: Берлинский и Алла Шторм, а из лаборатории Гольдберга даже трое: он сам, его жена Женя и их сотрудница Зина. Мозговой центр отдела понес существенные потери, но в новых условиях жизни это уже не имело большого значения. Создание гигантских общесоюзных систем, которые государство тужилось построить без вливания достаточных ресурсов, окончательно застряло на месте и, если пока и требовало от разработчиков каких-то действий, то скорей по инерции.
Началась эпоха выживания, когда хозяйственным субъектам стало уже не до единых общегосударственных систем, требовалось только облегченное дешевое обеспечение перевода уже существующих информационных средств в более рациональный и экономичный режим. И это было все.
Единственным востребованным продуктом группы Горского оказался «Справочник МКИ» после того, как по подряду института стараниями Великовского частная фирма Аркадия Воложа реализовала его с помощью своих программ не на большой ЭВМ ЕС-1050, а на персональном компьютере. «Справочник МКИ» хорошо продавался. Прибыль от этого коммерчески выгодного проекта, как понял Михаил, делилась между Воложем, с одной стороны, и Самойловым, главным инженером института, и Великовским, с другой. Ни Горскому, ни его группе никакой прибавки от этих прибылей не последовало. Это тоже не стало неожиданностью. Государственные предприятия если не разорялись, то работали на пониженных оборотах, а предприимчивые люди, хотевшие зарабатывать больше, чем при социализме, выхватывали из этого социализма только то, что обещало выгоду при капитализме и настоящем хозрасчете. Главное состояло в том, что капитализму требовались капиталисты, а их, по крайней мере, в законном виде, до сих пор не было, как не было и начальных капиталов у тех, кто хотел ими крутить – вертеть. Им оставалось только грабить и присваивать то, что прежде якобы принадлежало всем или, если спуститься сверху на землю, всему родному трудовому коллективу. Многие шли на грабеж и присвоение без проволочек и сомнений – «Так надо!», – говорил кое-кто – испытывая угрызения совести, но думая практически то же самое: «иначе ничего не получится, так уж лучше мы, те, кто может чего-то достичь в новых условиях жизни и потянуть за собой часть сотрудников, немного приподнимая их над уровнем нищенских зарплат». В эту категорию привилегированных Михаил с его сотрудницами не попали. Можно было радоваться и тому, что их пока еще держат и не сокращают.
Венин обустроил лучшую жизнь себе, Вайсфельду и Ларисе Танковой (а больше у него никого и не осталось) за счет вышедшего повсеместно на большую дорогу экономического стереотипа почти нового явления – отката. От имени своего института (естественно, с согласия заинтересованного руководства) он заключал договора с академическими институтами на создание программного обеспечения для оставшихся актуальными задач, например, – для записи патентной информации, включая графику, на дисках, которые потом неплохо продавались. При этом не меньше половины денег, полагающихся подрядившемуся институту за выполнение заказа, возвращались в институт патентной информации, но уже конспиративно, в виде «налички», «отката» и не всем, а руководству и Венину с его лабораторией. Это давало Венину право смотреть на других «коллег» (всерьез их коллегами он уже не считал) сверху вниз. Этим синдромом заразился и Саша Вайсфельд. «Сытый голодного не разумиет» – это правило работало тут, как всегда. Водораздел между лучшим и худшим материальным состоянием становился с каждым днем, неделей и месяцем все заметнее и существенней: галопирующая инфляция заставляла вырабатывать новый социальный (новый, конечно, только для СССР) категорический императив в душе и голове каждого человека, желающего догнать или перегнать ее: «всем не выжить, и надо во что бы то ни стало оказаться среди тех, кто в состоянии обеспечить себя, пока страна и ее народонаселение все глубже погружается в нищету, за которой вот-вот может начаться массовый голод, безвластие и безграничный разбой, как в 1917 году после большевистского переворота».
Но все это произошло не вдруг. Какими бы резкими, стремительными и непривычными ни стали метаморфозы перестройки, для любого маневра, для каждой перемены ситуации требуется время, в течение которого, хочешь – не хочешь, приходится жить. Вот и растянулась перестройка как минимум на пятнадцать лет, а с учетом последствий ее отрицательных черт, гнусных намерений инициаторов и очень грубых ошибок менеджеров – еще на столько же.



