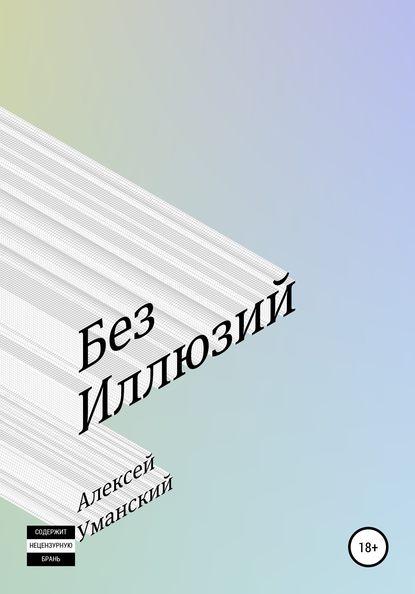 Полная версия
Полная версияБез иллюзий
Когда она явилась для работы в институт и Михаил увидел ее состав, стало ясно, что начальник технического управления Болденко ввел в нее людей, как он думал, вполне управляемых и даже лично испытывавших к Горскому определенную неприязнь. Болденко заблуждался только насчет двух членов комиссии: он не знал, что отношения с Евгением Мироновичем Фельдманом из главного вычислительного центра у Михаила были хорошими с самого момента его поступления молодым специалистом в отдел Горского и таковыми оставались и дальше, а с Леонидом Журавлевым молодым толковым программистом из того же вычислительного центра – они всегда находили общий язык, участвуя в международных совещаниях. Председателем комиссии являлся молодой человек – чиновник технического управления, попавший на приличную должность, скорей всего, благодаря каким-то личным связям. На него Болденко мог положиться вполне.
Фельдман прекрасно знал, что ни одна из четырех автоматизированных систем, сданных институтом в промышленную эксплуатацию, на самом деле не работает. И он, и Журавлев сами участвовали в приемке, знали, что в лучшем случае их еще надо основательно доводить до ума (что и было четырежды обещано теми же Пестеревыми и Феодосьевыми), чего до скандального разоблачения перед лицом съезда КПСС всерьез и не делали. Барахлило в основном программное обсечение, изготовленные лично Феодосьевым сразу для всех четырех систем. Еще за две недели до появления комиссии в институте доброжелатели доложили ему, что в системном отделе и вычислительном центре института отменены выходные для всех, кто как-то связан со всеми зависшими системами. Это была отчаянная попытка доказать комиссии неправоту Горского и «несоответствия заявленым фактам», которые «не подтвердились». Когда Михаила вызвали на заседание комиссии, он вполне спокойно отвечал на вежливые, но часто каверзные вопросы, которые не стали для него неожиданностью. Он понимал, что у комиссии не будет никаких оснований для опровержения его заявления, если он не ответит, что и как надо было бы делать правильно и эффективно с его точки зрения. И он называл факты, представлял копии своих докладных, указывал, в каком разделе институтского прогноза о развитии автоматизированных информационных систем излагалось его видение ближайших и среднесрочных перспектив и работ (последнее Пестерев и Феодосьев включили в прогноз без критики, поскольку сами ничего не выдумали, а сроки подготовки документа истекли – даже завзятый редактор стиля Бичерский не изменил в его разделе ни слова).
Но действительно острый интерес со стороны председателя комиссии был проявлен только к сообщению о том, что вне всяких планов, практически нелегально Пестерев организовал разработку мини-компьютера. Результатом стало то, что заведующий особым сектором инженер Мотылев уже на следующий день уволился из института по собственному желанию перепуганного директора. Михаил и раньше подозревал, что ликвидация его собственного отдела была затеяна в том числе и ради того, чтобы финансировать тайный замысел Пестерева, и Мотылев теперь пострадал именно по этой причине. Из госкомитета Надежда Васильевна сообщила, что за самодеятельность с незапланированным нецелевым расходом государственных средств Пестереву устроили жестокий нагоняй и, дабы пресечь дальнейшее предметное расследование, Мотылева без промедления выставили из института.
Михаил был изумлен, как много людей нелегально сообщали ему о всех действиях, которые планировалось предпринять против него. Среди них были и те, кого лично привел в институт сам Пестерев как своих добрых знакомых. Конечно, получаемая от них информация не могла изменить запланированный результат, но одно только желание посторонних действенно помогать ему дорогого стоили. И в конце концов даже после редактуры выводов комиссии со стороны Болденко был подтвержден факт липового ввода в промышленную эксплуатацию систем, правда не четырех (это было бы для госкомитета слишком!) а «только» двух. Зато разработку мини-компьютера на Мотылевких коленках подтвердить побоялись. Нет Мотылева – нет и факта. Тем более, что в самом заявлении его имя ни разу не упоминалось – оно всплыло только в процессе расследования.
Михаилу официально, правда, лишь в устной форме, сообщили, какой ответ будет отправлен из госкомитета в ЦК КПСС. Он не предпринял никакой попытки внести туда свои коррективы. Его заявление сделало свое дело – он выиграл у Пестерева – не иначе, как по Воле Небес – ровно столько времени, чтобы приспела возможность поступить на работу на новое место: во Всесоюзный научно-исследовательский институт патентной информации. Этому предшествовал случайный визит Саши Вайсфельда в институт – естественно, не к Михаилу, а к Ламаре.
Но все-таки Саша подсел к нему, и они немного поговорили.
Михаил в нескольких словах обрисовал свое положение, но о накале травли ничего не сказал. Однако Саша явно отреагировал именно на это умолчание. По его лицу было видно, что он порывается что-то произнести, но он почему-то осадил себя и промолчал. Михаил принял это за выражение сочувствия. Однако в Сашиных глазах промелькнула еще какая-то мысль, которую тот все же побоялся высказать в данный момент. Михаилу показалось, что Вайсфельд хотел предложить некий вариант выхода из кризиса своему бывшему шефу, реализация которого зависела в основном не от него, Михаил в свою очередь тоже предпочел не задавать никаких вопросов. Тем не менее он не ошибся. Саша Вайсфельд действительно сумел заинтересовать начальника своего отдела, а также его заместителя, которые и по своим каналам, оказывается, что-то знали или слышали о Горском. Их личное знакомство произвело на обе стороны позитивное впечатление. Михаилу действительно понравились и Григорий Саулович Мусин, и Сергей Яковлевич Великовский, а они в свою очередь пустили в ход механизм принятия Михаила на работу. Это было не очень просто, потому что для сохранения имеющего у него заработка им пришлось «выбивать» Михаилу персональную надбавку к окладу. Вышло так, что процедура оформления его на новую работу завершилась как раз в тот день, когда Пестерев и Картошкин закончили свою работу с членами научно-технического совета, на заседании которого кандидатура Горского, представленная на утверждение в должности заведующего сектора, была, как и планировалось, провалена с результатом 16 «против» и 6 «за». Для Михаила, правда, и такой результат явился в некотором смысле «приятной неожиданностью» – сам он был уверен только в двух голосах в свою пользу. Размышляя об остальных четырех, он, вызвав кое-что из своей памяти, смог с большой вероятностью назвать еще троих доброжелателей без кавычек, но последнего подателя голоса «за» идентифицировать не сумел. Зато он точно знал, что это не бывший майор Маргулис, хотя о нем Михаилу была сообщена любопытная подробность. После заседания НТС, где он дисциплинированно, а также из соображений самосохранения проголосовав против Горского, Маргулис, испытывая странный душевный дискомфорт, отправился не домой, а в гости к своей хорошей знакомой Елене Онуфриевне Турган, журналистке, работавшей в пресс-центре института. Елена Онуфриевна дружила с сотрудницей Михаила Люсей Хомутовой, а потому во всех подробностях представляла, как и почему его стараются выставить из института. Со своей стороны она через Люсю обещала ему устроить поддержку в прессе через знакомых журналистов, если он продолжит борьбу за свое пребывание в институте – как-никак началась перестройка. Развернув компанию в прессе, глядишь, можно будет и Пестерева скинуть с кресла. Но Михаил в это не верил – не верил, чтобы система, которая в административном смысле не только не рухнула, но даже в кадровом отношении ничуть не изменилась, не могла не защищать себя, то есть свои кадры. Он поблагодарил, опять-таки через Люсю, искреннюю и честную Елену Онуфриевну, столь непохожую на Болденко, который, как выяснилось, приходился ей двоюродным братом.
Маргулис в гостях у Турган никак не мог успокоиться в связи с изгнанием Горского, к которому только что сам обдуманно приложил руку. Ему совсем не хотелось проявлять нелояльность к директору – ведь в том, что Картошкин, обратившись за помощью в органы, которые и делегировали его в институт, поименно выявит всех проголосовавших в пользу Горского, он не сомневался. Однако что-то скребло изнутри его вполне привыкшую действовать по системным правилам душу. Он и вправду уважал Горского за небанальные мысли, за умение находить выход из нестандартных ситуаций, за книгу, наконец, из которой сам извлек для себя много ценного. И этот раздрай между долгом по службе и внутренней убежденностью, что прав именно Горский, а не хозяева института, вынудил его искать утешение ли, успокоение ли, прощение ли у Елены Онуфриевны, хотя по своему характеру она априори не была способна ни прощать, ни оправдывать поступки, подобные тем, который не далее, как пару часов назад совершил Маргулис. Михаилу казалось странным, чего же он теперь – то начал беспокоиться? Дело сделано. Сделать его иначе Маргулис органически не мог. И если совесть по свежим следам еще будоражила его, то это должно было скоро благополучно закончиться. Сам Маргулис обязан был это знать. Для этого только и требовалось, что оглянуться в прошлое свое и страны. А там можно было узреть только одно – и он, и остальные уцелевшие, всегда двигались так, как предписывал им стереотип, и на кой бы черт ему было действовать иначе? А любование или восхищение теми, кто вел себя иначе, но только тогда, когда тебе за твое любование ничто не грозит, похвально, но стоит не очень дорого. Впрочем, пример храбрецов, отважных безумцев или вовсе идеалистов-новичков, не ведающих, что творят, очень редко становился предметом для подражания во все времена. На массовые исключения из этого правила указал научным и общественным кругам сын великих поэтов Ахматовой и Гумилева гениальный философ – историк Лев Николаевич Гумилев. Только когда пассионарность овладевает каким-нибудь этносом, а он заражает ею другие народы, подвергшиеся его воздействию (чаще всего истребительно-завоевательному), некое страстное устремление к определенной цели преодолевает в людях их биологические, гражданские и социальные страхи, и тогда они становятся такими же смелыми, инициативными и раскрепощенными в своих основных жизненных проявлениях, как и их вожди, задавшие вектор устремлений и строжайшую дисциплину единомыслия – единодействия ради достижения прежде немыслимых амбициозных затей.
Но время пассионарности в СССР благодаря немолчной пропаганде и очевидному лицемерному ханжеству коммунистических правителей прошло – в огонь страсти социальной революции было брошено слишком много дров, которых и наломали-то больше среди своих, чем среди чужих. Костер любви к абстрактной идее торжества всеобщего равенства и благоденствия людей (в рамках марксовско-энгельсовско-ленинско-сталинских представлений, разумеется) стало нечем топить – причем в буквальном смысле, начиная с желудков граждан. Состояние разоренности, прогрессирующей год от года, несмотря на ядерно-космические успехи, давно уже не могло поддерживать пламя народной страсти, тем более, что с некоторых пор стало ясно, что всенародную пассионарность ничем, кроме трупов увлеченных или одураченных людей не удается сопроводить. И теперь героями становились редкие индивиды-рядовые или лейтенанты типа Алексея Очкина, а майорами, генерал-майорами, даже маршалами уже можно было становиться и без особой личной храбрости, да и без впечатляющего ума тоже, предлагая взамен них бессовестно неукоснительное подчинение любой воле начальства и интриганство по отношению ко всем остальным.
В каком настроении Маргулис ушел от Едены Онуфриевны, осталось неизвестным. Впрочем, Михаила заботили совсем другие дела. Предстояло начинать какую-то работу с нуля среди людей, из которых он знал, кроме Вайсфельда, только Мишу Берлинского, который прежде работал в отделе Феодосьева и показал себя хорошим специалистом, да и хорошим человеком тоже. Прежде чем уйти из института, Берлинский подал заявление на выезд в Израиль, в связи с этим подвергся обязательный унижающей процедуре осуждения в «родном коллективе», потом, однако, передумал (кажется, из-за родителей, не хотевших уезжать) и взял свое заявление обратно. Но с клеймом полуизменника Родине ему было трудно оставаться на прежнем месте, как, впрочем и устроиться на новом – ведь клеймо кочевало вместе с человеком, однако во ВНИИПИ его взяли как раз в отдел Мусина, где он мог чувствовать себя среди своих. Григорий Саулович собрал под своим крылом полдюжины действительно сильных разработчиков, способных самостоятельно и инициативно вести за собой остальных сотрудников отдела. Михаил Горский пришелся там ко двору не только как работник нужного плана – он еще и не портил по существу кровный состав элиты отдела, будучи евреем по матери, но русским по отцу и по паспорту – что было очень полезно для обороны от обвинений в том, что у Мусина собралась «целая синагога».
Сколько-нибудь заметным религиозным рвением в области иудаизма люди, образовавшие «синагогу», не отличались, зато работали очень эффективно, и основная тяжесть работ по созданию автоматизированных систем по обработке и подготовке к изданию патентной информации легла на их плечи, хотя в этом же институте имелся и более многолюдный отдел практически с теми же задачами, но там дело шло как-то туго, а в отделе Мусина куда более споро, а главное – успешно. Из этого обстоятельства Михаил сделал вывод, что Мусин не просто любит евреев потому, как сам еврей, несмотря на свою предельно русскую фамилию, а, что еще гораздо важней, умеет хорошо в них разбираться – кто из них с хорошими мозгами, а кто – нет, и последние его не интересовали, пусть они себе и будут евреями из евреев. Короче, таких «образчиков», как Лернер, Берлин и Фишер из отдела классификации технической документации, которые в ходе спешного набора кадров достались Михаилу в институте Беланова (с одним – единственным способным Фельдманом) у Мусина в подчинении, Слава Богу, не было. Конечно, все сотрудники Григория Сауловича по своим личностным качествам весьма сильно отличались друг от друга, но работали с пользой для дела абсолютно все.
Григорий Саулович был крупным мужчиной высокого роста, подвижным, с открытым лицом и светлыми волосами. По его высказываниям чувствовалось, что в деталях создаваемых систем он разбирался не всегда как ас, но он с живым интересом выспрашивал о тонкостях своих сотрудников и, если надо было, просил объяснить ему более просто – «по-монтерски» – как любил повторять он сам. В целом он имел в своей собственной голове достаточный запас представлений о деле, чтобы правильно определять, куда его вести. У него был достаточный запас искренней доброжелательности, чтобы большинство людей сами располагались к нему с уважением и симпатией.
Его главным советником во всех делах, действительным генератором идей и нововведений был его «заместитель по науке» Сергей Яковлевич Великовский. О том, что это человек со сложным и труднопереносимым характером, предупредил Михаила еще Саша Вайсфельд. По его словам, никто из интеллектуалов отдела не хотел сидеть с ним в одной комнате. Тем не менее, у Сергея Яковлевича было два рабочих места – одно в кабинете Мусина, другое – в его собственном, где уже находился не так давно поступивший на работу Борис Львович Румшиский, невысокий человек с лохматой шевелюрой и умным лицом. В эту же комнату попал и Михаил. Сергей Яковлевич, по всей вероятности, хотел поближе познакомиться с ним, чтобы составить собственное представление о новом сотруднике.
С этими двумя людьми – Великовским и Румшиским – Михаил и проводил большую часть своего времени на работе. Непосредственно с Мусиным он контактировал не очень часто. Зато Великовский, несмотря на то, что он делал множество разных дел, говорил с ним о деле – и не только – достаточно охотно и часто.
Сергей Яковлевич, видимо, был евреем только по отцу, заслуженному армейскому полковнику, и амбициозен он был совершенно иначе, чем Мусин. Тот хотел идти в ногу с прогрессом – и действительно шел, в то время как Верховский стремился возглавлять его. И если Мусин хотел преуспевать в делах для того, чтобы хорошо жила его семья и он сам, то Сергей Яковлевич Великовский вел себя так, будто главным в его жизни было служебное дело, потому как семейным человеком он по какой-то причине себя не представлял. Жил он вместе с родителями, мама, по его словам, сокрушалась, что он уже в приличных годах – где-то на пятом десятке – все еще не женат, и со своей стороны она старалась познакомить его с подходящими женщинами, а вот это всегда оборачивалось неудобными положениями и для него, и для маминой протеже. Чтобы Михаил правильно понимал, что дело не в банальной причине, по какой мужчинам свойственно избегать женщин, Сергей Яковлевич, не входя в подробности, сказал, что с этим-то у него все в порядке, но бросать якорь в единственной гавани его совершенно не тянуло, и вот как раз о причине этого Великовский ничего не говорил. Михаил со своей стороны не проявлял особого любопытства, хотя и не прочь был бы знать: странности стимулируют любознательность, а ситуация, в которой у мужчины, у кого «с этим все в порядке», как будто бы не обязывает его дистанцироваться от дам – ведь и внешне Сергей Яковлевич был человек хоть куда – крепкий, ладный, стремительный, с волевым выразительным лицом и внимательными обычно холодными глазами, а уже внутренним содержанием мог удовлетворить любого интеллектуала или интеллектуалку. Его живой ум изобиловал знаниями и алчно поглощал новые – дополнительные – из книг, из разговоров с коллегами, из телевизионных передач – словом из любых источников, к которым мог припасть либо специально, либо по случаю – просто проходя мимо чего-то, показавшегося любопытным. Но даже и это не выглядело главной страстью Великовского.
Его поглощало стремление быть вечно первым среди самых деятельных людей – по крайней мере, в институте. Надо было быть очень способным человеком, чтобы справляться с тем, что он брал на себя. Число работ прирастало год от года. Сергей Яковлевич брался за них и выполнял. Как организатор, как исполнитель, как внедритель, как лицо, сопровождающее систему в режиме эксплуатации. Его хватало на все, кроме как на собственную личную жизнь. Зачем ему было вести себя так, как вступившему в столь же явно закатную полосу жизни, в какой Михаил наблюдал заместителя главного инженера Мытищинского завода электросчетчиков Товстоногова, бывшего зам. министра, бывшего семьянина, искавшего себя в единении с производством, внутри которого дневал и ночевал? Великовский слишком рано заболел подобной болезнью. Но он не мог остановиться и постоянно работал на износ. Выдерживать такое год за годом было вряд ли возможно, и Сергей Яковлевич действительно доработался до того, что порой еле-еле удерживался от крика из-за боли в животе, а Михаил из уважения к его мужеству удерживал себя от выражения беспокойства по поводу его здоровья. Но Мусину он все-таки сказал, до какого состояния довел себя Великовский и попросил его что-то сделать, чтобы унять самоистребительный пыл, достойный все же лучшего применения, чем в сфере работы по найму. Михаил не мог себе представить, что, занимаясь важными, достойными и нужными, но всего лишь преходящими и текущими делами, человек способен удовлетворять свое стремление сделать нечто протягивающее цепочку его следов в вечность. В конце-то концов, считать, что есть, пить, размножаться и заниматься многими другими делами ради добывания пищи, питья и размножения и есть смысл жизни на этой Земле, ему тоже казалось в каком-то смысле просто диким. Суть Божественного Творения не могла сводиться только к примитиву и стереотипу. Все люди обязаны были искать подоплеку материального процесса бытия – причем каждый сам для себя в первую очередь, но если ты делаешь какие-то системы автоматизированной обработки информации, о которых перестанут вспоминать через пять – десять лет в связи с прогрессом, определяемым мыслительным трудом других людей, ты вряд ли ощутишь проникновение в вечность, даже легкое прикосновение к ней. А в таком человеке как Великовский было слишком много энергии и творческих способностей, чтобы не жалеть о том, что он посвящает их только тому, что он делает на работе, ибо след его пребывания на ней скоро сотрется сам по себе.
Сергей Яковлевич по образованию был филологом. Михаил даже удивился, узнав об этом. Он успешно занимался программированием и проявлял себя в высшей степени грамотным системотехником, а это было весьма нехарактерно для лиц с филологическим образованием. Более того, он защитил кандидатскую диссертацию, как выяснилось, на кафедре, которую основал для себя в МГУ доцент Валов с помощью провозглашенной им на семинаре у Влэдуца так называемый «информационной лингвистики». – Великовский оказался единственным человеком с этой кафедры из тех, кого знал Михаил, в чьих трудах не было даже следов халтуры. И это отличало его от других «питомцев» данной кафедры едва ли не больше всего остального. И хотя он был очень самолюбив, в нем не чувствовалось сверхмерного честолюбия, присущего многим халтурщикам, которые доказывают свою правоспособность состоять при науке в первую очередь за счет обладания учеными степенями и званиями. Сергею Яковлевичу было много важнее кем-то быть на самом деле, чем казаться. Видимо, процесс самоутверждения себя в собственных глазах еще со школьных времен проходил внутри него очень негладко. Дисциплинирующее воздействие отца – полковника могло быть очень жестким по духу. Скорей всего, обычные мальчишеские вольности сына полковник считал проявлениями слабости духа, а самолюбивый Сергей вынужден был доказывать, что прямолинейно мыслящий отец ошибается и что сила духа у него достаточная для чего угодно. Михаил не видел иных причин, по которым после школы Великовский пошел служить в пограничные войска, стал там высококлассным радистом, заслужившим на учениях благодарность министра обороны. Полковнику стало не в чем упрекать сына – сержанта. Лишь после этого Сергей Яковлевич пошел в науку, вероятно, она давалась ему легко – во всяком случае, легче, чем многим. Но то, что он умел делать лучше других, побуждало его не столько к росту самомнения в собственной душе, сколько к потребности постоянно доказывать это окружающим на практике.
В отличие от Мусина, Великовский не выглядел жизнерадостным человеком, да и не был им по существу. Григорий Саулович не хуже Сергея Яковлевича знал, в какой стране ему выпало родиться и жить, однако это не мешало ему с радостью, а порой и с восторгом стремиться к тому, что способно было сделать жизнь приемлемой, интересней, насыщенней с точки зрения жизнеутверждающего начала, заложенного в каждого человека помимо его воли. Он ценил друзей, и они у него были. Он любил женщин и знал счастье взаимности в этом высшем из чувств. В более молодые годы он ходил в спортивные походы, где научился переносить сверхмерную тяжесть рюкзака при прохождении безлюдных мест с диким рельефом ради их красоты. Он зарабатывал деньги и тратил их с толком, чтобы ему с семьей было комфортно жить. Безалаберного отношения к серьезным вещам Григорий Саулович никогда не терпел, но и скаредным не сделался. Деньги заслуживали уважения в его глазах, однако он не позволял им брать верх над куда более ценными вещами, особенно теми, какие не купишь за деньги – будь то здоровье, искренность, симпатия, верность, счастье, любовь. Словом, Мусин был во всех отношениях красиво нормален, поскольку он жил так, как большей части человечества хотелось бы жить.
Сергей Яковлевич был иным. Главный вектор движущих его сил лишь в малой степени уравновешивался гедонистскими устремлениями – такими как отдых на курорте, возможно – с необременительным романом, как постоянное использование такси, лишь бы не ездить в перегруженном метро (это удовольствие стоило ему весьма значительной части зарплаты). А так – что он видел в жизни кроме кипящей суеты на работе, быстро испаряющегося удовлетворения от сданных в эксплуатацию программ и систем? Такие вещи вряд ли стоили той степени посвящения, которую вынужденно или добровольно отводил им Великовский – как ни странно, весьма критично настроенный к себе человек. Это выяснилось не сразу, а потом – когда Сергей Яковлевич стал рассказывать Михаилу разные случаи из своей жизни, явно желая узнать, что думает коллега по поводу его нравственного и мыслительного выбора. Все свидетельствовало о симпатии и необычном доверии, которое появилось у него к Михаилу, хотя это тоже явно не входило в его нормальный житейский обиход. И в самом деле, кроме Мусина, Великовскому некому было доверять, но и Григорий Саулович не был ему совсем уж душевно близок. Горский оказался более подходящим конфидентом, почти духовником. Как такое стало возможным, Михаил и сам до конца не понимал.
Действительно, остальные члены интеллектуальной элиты отдела подчеркнуто дистанцировались от Великовского. Это было особенно заметно по поведению Венина, заведующего второй лабораторией в отделе Мусина. Арнольд Семенович Венин был не менее самолюбив, чем Великовский, но по честолюбию явно превосходил последнего. Венин был настолько переполнен сознанием собственного превосходства над всеми коллегами, что оно не помещалось внутри него и вылезало наружу. Да, он был вполне компетентен и по образованию – как математик, и по роду работы – как программист. Ему тоже было присуще стремление к лидерству, но, судя по поведению, в его сознании была размыта грань между двумя принципиально различными способами самоутверждения в первенстве: один из этих двух способов заключался в том, чтобы все делать для захвата лидирующих позиций самому, без оглядки на действия конкурентов, другой предусматривал еще и превентивное умаление заслуг противника, некую как будто бы объективную компрометацию, используя для этого даже самые слабые доказательства и мельчайшие формальные основания.



