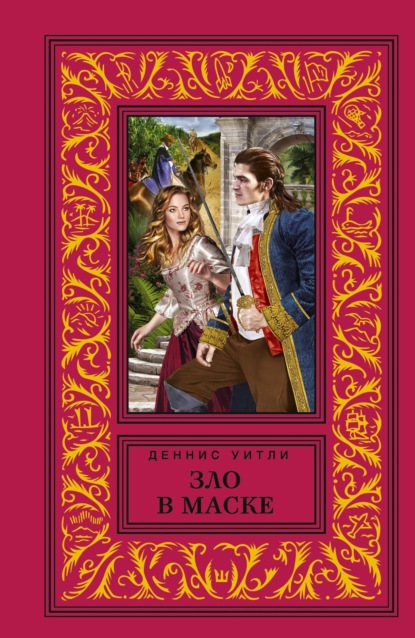
Полная версия:
Зло в маске
К осени 1802 года он стал таким могущественным, что даже Наполеон его побаивался, и поэтому он снял его с должности и разделил его министерство на два. Но к лету 1804 года император неохотно начал понимать, что, когда он уезжает в свои военные походы, Фуше единственный мог бы предотвратить беспорядки во Франции, и поэтому он восстановил прежнее министерство полиции и предоставил Фуше чрезвычайные полномочия на случай любых непредвиденных событий.
Фуше был высок, мертвенно-бледен и выглядел как живой труп. Обычно он избегал смотреть в глаза собеседнику. У него были глаза дохлой рыбы, и, поскольку он всегда страдал от простуды, у него постоянно текло из носа. В отличие от Талейрана он был безразличен к одежде, его сюртук часто был покрыт пятнами. И в отличие от Талейрана он не проводил ночи в кровати с красивыми женщинами. Он был абсолютно верен своей скучной супруге, такой же уродливой, как он сам.
В 1804 году, когда Наполеон начал создавать новую аристократию для поддержки своего трона, он дал Фуше титул герцога д’Отранто.
Хотя Талейран и Фуше объединились, чтобы помочь генералу Бонапарту прийти к власти в качестве первого консула, их взгляды на жизнь различались, как вода и масло, и они ненавидели друг друга. Но Роджер, который испытывал глубокую привязанность к первому, восхищался вторым за его необыкновенную расторопность и деловитость и уже давно находился в наилучших отношениях с обоими.
По мере того как непрерывно идущий снег наметал большой сугроб над его меховыми шубами, конечности Роджера постепенно коченели. Ему очень хотелось спать, но он знал, что, если заснет, это будет конец. Он никогда не проснется. Он смутно сознавал, что менее безболезненной смерти не бывает. Но несмотря на это, пока мог, он инстинктивно продолжал бороться за жизнь в своем теле. Время от времени он сильно тер уши и лицо и молотил руками себя по груди, махал свободной ногой. Но постепенно он двигал ими все реже, а его память перепрыгивала с одного отрывочного эпизода на другой.
Он вспоминал свою божественную Джорджину в постели: вот она просит покусать ей ухо – она это обожала; он вспоминал себя, сердито говорящего с Питтом, который в 1799 году отказался от условий мира, предложенных Бонапартом; Роджер тогда заявил, чтобы тот оставил себе его жалованье и раздал его солдатам и морякам, раненным на войне; вспомнил тот вечер, когда на островке в Венецианской лагуне он без посторонней помощи спас Наполеона от шайки заговорщиков, которые намеревались его убить; ему вспомнилась сестра императора, прекрасная принцесса Полина, обнаженная, в своей парижской гостиной, умоляющая Роджера не побояться гнева ее брата и попросить ее руки; он вспомнил свой ужас и бешенство той темной ночью в Индии, когда он застал Клариссу умирающей в результате сатанинского культа, которому подверг ее злодей Мальдерини; Роджер вспомнил солнце и цветы Карибского моря, которые он так полюбил, когда женился на своей второй избраннице Аманде, там он некоторое время был губернатором Мартиники. Снова перед его внутренним взором возник образ Джорджины, весело играющей со своим сыном Чарльзом и дочерью Роджера Сьюзан, которая воспитывалась в раннем детстве вместе с юным графом. Потом к нему пришли воспоминания его собственного детства – вот он поит молоком из блюдечка ежика в саду их дома в Лимингтоне. Но вдруг воспоминания потускнели, и он заснул.
Он проснулся с криком оттого, что кто-то грубо тряс его за плечо. Голос что-то произнес на странном незнакомом языке. У Роджера было чутье к языкам. Он научился говорить по-русски от своей первой жены, прекрасной кошечки с нравом тигра Натальи Андреевны, жениться на которой его заставила Екатерина Великая; а в последние два месяца он стал немного понимать по-польски. Но этот язык не был похож ни на тот, ни на другой, но казался ломаным немецким. Он понял, что человек сказал:
– Здесь есть один живой.
Над ним склонились еще три человека. Они оттащили труп лошади с его ноги и проверили руками, целы ли его конечности, вероятно ища ранения. Когда они его отпустили, он оперся своим весом на больную ногу. Она подогнулась под ним, и с криком боли он рухнул рядом с лошадью.
Все его спасители были по глаза закутаны в меха. Один из них возвышался над другими, его рост был около двух метров. Нагнувшись, он поднес флягу ко рту Роджера и налил водки ему в горло. Огненная жидкость заставила его содрогнуться, но его сердце бешено застучало, восстанавливая кровообращение.
Выпрямившись, гигант заговорил с остальными на понятном немецком, но с сильным акцентом:
– У него сломана лодыжка. Но это пройдет. Отнесите его в фургон.
Оглядевшись, Роджер увидел, что снегопад прекратился. Вместо поля боя, испещренного темными фигурами убитых и раненых, перед ним была бесконечная белая равнина. Пока его то волокли, то тащили к фургону, он смог разглядеть холмики, под которыми лежали трупы русских и французов.
На опушке леса стоял крытый фургон. Совершенно не обращая внимания на его сломанную лодыжку, мужчины подняли и затолкнули его внутрь. Внутри была кромешная тьма, но Роджер почувствовал какое-то движение и понял, что, кроме него, там находится кто-то еще. Через мгновение хриплый голос произнес по-французски:
– Добро пожаловать в нашу компанию, товарищ. Ты здесь уже третий. Из какого ты полка и какое у тебя звание?
Наученный богатым опытом попадания в опасные ситуации, Роджер ответил не сразу. Но потом он решил, что ничего не выиграет, утаив свое имя, а правдивое признание может обеспечить ему лучшее обращение, поэтому он ответил:
– Полковник де Брюк, адъютант императора.
– Черт подери! – воскликнул другой голос. – Тот самый храбрый Брюк?
Роджер издал вялый смешок.
– Да, так меня называли. А вы кто?
– Сержант Жюль Фурнье, шестой батальон Императорской гвардии.
– Я рад, что попал в компанию старого солдата. А кто ваши товарищи?
Другой, более молодой голос тихо прозвучал в темноте, в его французском чувствовался немецкий акцент.
– Я Ганс Хоффман, полковник, рядовой 2-го Пехотного полка Нассау.
В ближайшие несколько минут Роджер узнал, что сержанту повредило коленную чашечку, а у рядового пулевое ранение в бедро. Оба страдали от сильной боли, но считали, что им повезло, что их спасли от неминуемой смерти от холода. Роджер разделял их чувства, и, как ни тяжело ему было сознавать себя военнопленным, он считал, что лучше быть подобранным немцами, чем русскими.
Через несколько минут в фургон втолкнули четвертое тело. Это был французский капрал стрелковой роты. В одной из атак Мюрата ему отстрелили большой палец на правой ноге, и он был сброшен с лошади. Он тоже сильно страдал от боли и, устраиваясь в фургоне, изрыгал проклятия в адрес своей жалкой судьбы. Они узнали, что его зовут Франсуа Витю и он родом из Марселя.
Двое из их спасителей, похожие на медведей в своих меховых тулупах, забрались в заднюю часть фургона, и он тронулся. Путешествие казалось нескончаемым, и каждый скачок неповоротливого экипажа доставлял раненым мужчинам мучения, так что они с трудом сдерживали стоны.
Наконец в предрассветных сумерках они смогли рассмотреть друг друга. Через полчаса фургон остановился. Четверых пленников бесцеремонно вытолкали на улицу и кинули в снег.
Посмотрев по сторонам, они увидели, что находятся на лесной поляне, в дальнем конце которой был виден небольшой мрачный замок. По обе стороны от него стояли большие сараи и конюшни. Роджер слегка удивился, не найдя лагеря для военнопленных, но он предположил, что под него отвели этот замок.
Волоча по снегу и подталкивая, пленных внесли в сарай, а не в замок. Посреди земляного пола в углублении мерцали раскаленные докрасна камни. По углам сарая были стойла с коровами. В одном конце сарая был чердак, забитый сеном.
Из кучи, наваленной у большой лестницы, один из мужчин подбросил на камни несколько веток, и огонь быстро разгорелся. Обрадованные теплом, исходящим от него, четверо пленников сгрудились вокруг огня.
Появились две женщины. Одна из них была высокая блондинка с грубыми чертами лица, с большой грудью, другая – сморщенная старая ведьма. Они принесли с собой тазы с водой и свертки грубого перевязочного материала. Они промыли и перевязали раны Роджера и других пленных. Затем гигант отнес их по очереди на чердак, развязал несколько тюков ароматного спрессованного сена и сделал им из него ложа.
Роджер был чрезвычайно изумлен. Во время той ужасной битвы много наполеоновских бойцов, должно быть, были взяты в плен; однако их не было видно. Когда гигант вместе со своими помощниками вошли в сарай и расстегнули свои меховые тулупы, под ними он не заметил никакой военной формы. Не находя ответов на свои недоуменные вопросы, Роджер заснул с дурным предчувствием испытаний, которые уготовила им судьба.
На следующий день пленники проснулись поздно, после полудня. Их разбудили высокий мужчина и странная женщина с большой грудью, поднявшись по лестнице к ним на чердак. Вместо меховой шубы на нем был кафтан. Он был не только высок, но и широкоплеч. Его соломенные волосы были взлохмачены, вздернутый подбородок был гладко выбрит. Глядя на французов сверху вниз, он ухмыльнулся, ударил женщину по заду и сказал на своем грубом немецком:
– Я барон Герман фон Знаменский, а это моя жена Фрида. Она будет перевязывать ваши раны, так что через некоторое время вы снова станете здоровыми людьми. На это уйдет несколько недель; но это не важно. К этому времени все ваши армии будут находиться глубоко на территории России либо царь отбросит их назад. В любом случае они будут слишком далеко отсюда, чтобы дать вам шанс быть спасенными одной из ваших армий.
Он на мгновение замолчал, затем, с ненавистью поглядев на них своими светло-голубыми глазами, выпалил:
– Вы, французские свиньи, и ваш самозваный император разорвали мою страну на части. Без всякой причины и обоснования вы наводнили ее полчищами саранчи, которая пожрала наши припасы. Вы украли на моих отдаленных фермах каждую голову скота, каждый центнер пшеницы.
Но вы четверо мне за это заплатите. Отныне вы мои рабы и будете работать на меня весь остаток своей жизни под приглядом моего надсмотрщика, восполняя ущерб, нанесенный мне и моим подданным вашим императором.
Глава 3
Беспросветное будущее
Сказанное им было столь ужасным, что его даже трудно было осмыслить. Одно дело, когда тебе не повезло, и ты стал военнопленным, но стать навсегда рабочим скотом этого белобрысого великана – совсем другое.
Некоторое время Роджер молчал. Бесполезно было обнаруживать свою ярость, поэтому он заговорил спокойным голосом:
– Я понимаю ваши чувства, барон, по поводу потерь, которые вы понесли во время этой кампании; но существуют лучшие способы восполнить их, чем задерживать нас здесь для работы на ваших землях. Я офицер и…
– Были, – презрительно усмехнулась женщина. – А теперь вы ничем не лучше любого другого мужчины, и, когда ваша лодыжка срастется, вы будете пахать и мотыжить землю для нас.
– Gnдdige Frau[4]. – Роджер заставил себя улыбнуться. – Я не просто офицер. Я адъютант и личный друг императора. Прошу вас, сообщите ему, что я здесь. Я ничуть не сомневаюсь, что он захочет выкупить меня и трех мужчин, которых вы взяли в плен вместе со мной, за гораздо более крупную сумму, чем мы смогли бы наработать для вас за десять лет.
Барон хрипло засмеялся.
– Сообщить вашему кровожадному, помешанному на войне императору? А что потом? На следующий день он пришлет сюда эскадрон гусар, изнасилует женщин, уведет скот, меня повесит, а сарай и замок сровняет с землей. Вполне возможно, не правда ли? Нет, мой дорогой воробышек, вы останетесь здесь, а когда ваша лодыжка заживет, мы будем давать вам столько брюквенной похлебки по вечерам, сколько пота вы потеряете за день работы.
В данный момент, вероятнее всего, не о чем было больше разговаривать. Под неусыпным взором барона Фрида, энергично сотрясая своей огромной грудью, перевязывала им раны. Когда она закончила, по лестнице поднялся один из людей барона с огромной лоханью овощной похлебки. Лишь только он разлил ее по оловянным мискам, четверо пленников жадно набросились на пищу, несмотря на ее неаппетитный запах.
Глядя на них, барон дружески похлопал своего помощника по спине и сказал с улыбкой:
– Это Кутци, мой надсмотрщик. Будете его слушаться, как меня самого, иначе вам будет худо.
Кутци был небольшим худощавым мужчиной. У него была придурковатая усмешка, при которой обнаруживалась нехватка двух верхних зубов. За поясом он носил кнут с длинной кожаной плетью. Вытащив его, он шутливо огрел по очереди каждого пленника. Роджер почувствовал ожог от удара кнутом по икре и еле сдержал крик. Сержант перенес удар стоически. Молодой Ганс Хоффман громко застонал, а капрал Витю в ответ разразился бранью.
Барон и баронесса от души расхохотались; затем в сопровождении Кутци они спустились вниз и отправились в замок.
Немецкий был родным языком Хоффмана, а во время последней кампании Фурнье и Витю достаточно выучили немецкий, чтобы понять смысл сказанного бароном. Когда их тюремщики удалились, сержант пробормотал:
– Дьявол их всех побери. Что нам делать, полковник?
– Разработать план побега, – мрачно ответил Роджер.
– Вашей светлости легко это говорить, а как быть нам, мы ведь безнадежно изувечены ранами? – сказал Витю.
– Заткнись! – оборвал его сержант. – Иначе, когда мы вернемся, я накажу тебя за неуважение к офицеру.
Роджер временно решил не обращать внимания на нахальство капрала.
– Нам следует быть терпеливыми, – сказал он. – Ждать, пока наши раны заживут. Сейчас лучшей тактикой будет не доставлять этим людям никакого беспокойства и позволить им поверить, что мы смирились с нашей долей. Уже стемнело, и чем больше мы будем спать, тем быстрее выздоровеем. Обсудим все утром.
Больше они ничего не обсуждали, каждый остался наедине со своими мрачными мыслями. Каждый из них зарылся в сено, стараясь устроиться как можно более комфортабельно.
Все они проснулись рано. В первый раз Роджер принялся критически оценивать своих товарищей по несчастью и начал расспрашивать об их прошлом.
Сержант Фурнье был типичным старым солдатом, у него было отстрелено одно ухо, а его густые усы свисали вниз. Как заядлый санкюлот он сражался у Келлермана при Вальми, это сражение было поворотной точкой истории: французы просто с помощью быстрого маневра и точной пушечной стрельбы отбили атаку австрийцев, что привело в замешательство их командование и заставило отказаться от попытки вторжения во Францию. Во время победоносной Итальянской кампании 1796 года Фурнье служил в армии маршала Ланна, затем был переведен в Рейнскую армию, отличился в ходе великой победы генерала Моро при Хогенлиндене. Получил повышение и был переведен тогда в Консульскую, а теперь в Императорскую гвардию и с тех пор участвовал во всех сражениях Наполеона. Ему было сорок два года, но из-за множества морщин он выглядел гораздо старше. Он был семь раз ранен и награжден орденом Почетного легиона. Он был революционером старой закваски, однако боготворил Наполеона, а своего командира Императорской гвардии юного маршала Бессьера обожал. Роджер понял, что на него можно положиться.
Ганс Хоффман был ничтожеством. Он был один из многих тысяч подростков из Рейнской области, чьи земли были завоеваны Наполеоном, а они сами были призваны на военную службу и отправлены помогать Наполеону в его армию. Ганс втайне ненавидел французов, и, если бы ему представилась возможность, он бы дезертировал из армии, но ему не хватало смелости.
Капрал Витю был совсем не таков. Сын адвоката, известного в самом начале революции, он был хорошо образованным человеком под тридцать лет, женатым, успевшим обзавестись сыном. Но все это не помогло ему избежать внеочередного призыва в армию, который объявил Наполеон для пополнения поредевших рядов в своих войсках. У Витю были тонкие губы и горькая линия рта, длинный нос. Он много говорил, много знал и был агрессивен. Роджер вскоре понял, что по характеру он настоящий смутьян.
Когда они обсуждали свое положение, Витю заявил:
– Вот придет время, я рискну и попробую убежать. Но я не вернусь в армию.
– Вернешься! – сердито вскричал Фурнье. – Это твой долг, и я прослежу, чтобы ты это сделал.
– К черту долг! – заявил капрал. – Если бы речь шла о защите Франции, я бы снова воевал, как вы это делали при Жемаппе и Ватиньи. Но здесь, в этих чужих краях, какого черта мне здесь делать?
– Эти пруссаки сразу бросились бы через Рейн, если бы мы не дали им жару при Йене, а русские вслед за ними. Только дураки стали бы ждать, пока они смогут сражаться на своей родине, вместо того чтобы разбить врага на его территории.
– Ерунда! Никто из них не стал бы на нас нападать! Что бы они выигрывали, если бы начали войну? Ничего! С 1799 года Франции не угрожает никакая опасность. С тех пор мы являемся жертвой неуемных военных амбиций Наполеона. Он вытащил нас из наших домов и бросил в поход, заставил умирать с голоду, сражаться во всех частях Европы единственно ради своей славы, и мне все это надоело.
Роджер знал, что капрал выражает мнение большей части солдатской массы, но, как старший офицер, он не должен допускать таких замечаний, поэтому он сказал:
– Довольно, капрал! И Пруссия, и Россия – монархии. Если бы это было в их силах, они снова поставили бы во главе нашей страны короля. Если мы хотим удержать наши свободы, их следует победить.
– Свободы! – ухмыльнулся Витю. – Должно быть, вы ослепли за последние десять лет, полковник! Эпоха «Свободы, Равенства, Братства» так же далека от нас, как век обскурантизма. Все законы, введенные Конвентом, отменены или изменены, и новая Конституция VIII года, которую дал нам Бонапарт вскоре после того, как короновался в соборе Парижской Богоматери, превратила нас в расу рабов. А что касается Равенства, то, если бы люди, которые завоевали его для нас в девяносто третьем, могли увидеть, что происходит теперь, они перевернулись бы в своих могилах. Народные представители сделали из него императора, а из его братьев – королей. Его приспешники были большими сановниками, принцами, герцогами и тому подобное. Они украшали себя золотыми галунами, драгоценными камнями и перьями. Они жили в роскоши и добыли себе состояния, разграбив все страны, которые завоевали, в то время как нам, беднякам, платили только несколько франков в день и заставляли рисковать жизнью, чтобы они могли и дальше обогащаться.
– В ваших словах есть доля правды, – согласился сержант. – Но тем не менее я душой и телом предан императору. Он знает, что для Франции лучше, и никогда не даст пропасть своим людям.
– К тому же, – вмешался юный Хоффман, – я не думаю, что это правильно – заставлять людей из других стран сражаться за него. Там, где я родился, люди ни с кем не ссорились, голландцы тоже жили мирно, и итальянцы, и баварцы, но тем не менее нас в этой армии тысячи, мы годами сражаемся и находимся в походе, тогда как могли бы счастливо работать на наших фермах и виноградниках, могли жениться и содержать семью.
– Да, вам не повезло, – согласился Роджер. – Но вспомните, Франция освободила вас от вашего старого феодального строя, при котором все, кроме ваших дворян, были крепостными ваших наследных принцев. Франция дорого заплатила за это, лишившись за последние пятнадцать лет большей части своей молодой рабочей силы. Чтобы восполнить эту потерю, императору ничего не оставалось, как рассчитывать на своих союзников.
– Да, прежде все было вполне честно, – согласился Витю. – Тогда нам нужен был каждый человек, чтобы сражаться в Италии или на Мозеле. Но с тех пор все переменилось. Что Рейнская область или Голландия могут выиграть от того, что будут помогать завоеванию Польши? И что это была за кампания! Мы брели шатаясь, в грязи, в истрепанной в лохмотья форме, с трудом находя дорогу из-за метели. Это для вас, полковник, все хорошо и для штабных офицеров. Вы размещаетесь на постой в лучших домах городов, берете из каждого обоза с продовольствием все, что вам нужно, – еду и вина, ходите по роскошным балам, бегаете за женщинами. А тем временем нам приходится вытрясать душу из этих несчастных крестьян, чтобы раздобыть хоть немного пищи, чтобы унять урчание в животе, и спать в таких холодных сараях, что порой наши товарищи за ночь замерзают до смерти.
Роджер знал, что все это правда, но он также понимал, что единственную надежду на побег может дать только признание всеми остальными его лидерства, поэтому он сдержанно согласился, что последнее время армия переживает особые трудности, отметив, что в этом нет вины императора, а виновата чрезвычайно бедная и малонаселенная страна, в которой они ведут бои.
В последующие дни нелюбезная баронесса Фрида регулярно приходила, чтобы перевязать их раны, а Кутци приносил два раза в день бадью с похлебкой, в которой иногда попадались куски мяса, и по их сладковатому запаху Роджер предположил, что это была конина. Поскольку сильный холод сохранял дохлых животных от разложения, он не сомневался, что крестьяне во всей округе, а также уцелевшие из всех армий, оставшиеся в этой местности, питались этим мясом.
На третий день их пребывания на чердаке обнаружилось, что от глубокой раны в ногу у юного Хоффмана началась гангрена. Поскольку врача найти было невозможно, то с этим ничего нельзя было сделать. В течение нескольких часов он бредил по-немецки и на четвертый день умер.
Большую часть времени, пока они залечивали свои раны, они разговаривали в основном о тех кампаниях, в которых им пришлось участвовать, и о маршалах, под началом которых они служили. Все восхищались Ланном, Неем и Ожеро, которые неизменно вели свои войска в бой в полном обмундировании, на груди у них блистали звезды и ордена.
Бесспорно, Ланн был мастером самых славных штурмов в армии. Он был ранен дюжину раз, но при виде крепости, которую нужно было занять, размахивал саблей и был первым, кто взбирался по приставной лестнице на бастион неприятеля.
Рыжеголовый Ней был не только наиболее способным тактиком, но у него не было иных стремлений, как завоевать славу, и, чтобы добиться этого, всякой мало-мальски важной атакой он руководил сам.
Ожеро, крупный мужчина, неразборчивый в средствах, вышедший из рядов «гамэнов» революции, заядлый дуэлянт, которого уже никто не решался задирать, завоевал обожание своего корпуса. Они с Ланном оставались закоренелыми революционерами. Они слыли сквернословами и прилагали нечеловеческие усилия к тому, чтобы скрыть свое неодобрение Бонапарта за то, что он стал императором. Однако он слишком ценил их военные способности, чтобы избавиться от них.
Мнения о толстом гасконце Бернадоте, который отказывался подчиняться требованиям новой моды и продолжал носить длинные волосы, разделились. Он был единственным старшим генералом, который отказался поддержать Бонапарта во времена переворота. А во времена Итальянской кампании они откровенно выражали недовольство друг другом. В теперешней кампании он уже несколько раз опаздывал ввести свой корпус в действие; но бесспорно он был очень способным военачальником, и его любили и офицеры, и солдаты за то, как он о них заботился.
Ни Фурнье, ни Витю не смогли найти для Даву ни одного доброго слова. Он был холодный, жесткий человек и поддерживал самую строгую дисциплину во всей армии. Его единственным удовольствием, если представлялась возможность, были танцы. Все остальное время он тратил на то, чтобы вешать подозреваемых в шпионаже и раздавать наказания всем кому попало, в особенности старшим офицерам, которые как-либо нарушили его правила.
В течение короткого времени Роджер сам натерпелся от Даву, поэтому ему было за что его не любить. Но, несмотря на это, он уважал и восхищался этим самым непопулярным из маршалов. Как бы все другие ни были компетентны и фантастически храбры, Роджер пришел к убеждению, что единственным их преимуществом над прусскими или австрийскими генералами, которым они нанесли поражение, была их молодость и энергия. Даву же был исключением. Он не только был абсолютно предан императору, но и всесторонне изучил новые методы ведения войны Наполеона, освоил их и применял.
Император, всегда ревновавший к военным успехам своих подчиненных, в депешах в Париж описал сражение при Ауэрштедте как простой отвлекающий маневр во время битвы при Йене. Но Роджер был знаком с фактами. Хотя Даву находился в полной изоляции, он блестяще управлял своим корпусом и нанес поражение половине прусской армии. И тем самым продемонстрировал свой талант руководителя и солдата.
О ярком, цветистом Мюрате Фурнье и Витю сошлись во мнениях. Военная форма, недавно разработанная великим герцогом Берга для себя самого, возможно, была слишком эксцентричной, но и весь расшитый золотыми галунами, с развевающимися над головой перьями, он без малейших колебаний несся впереди своих кавалерийских полков против превышающей их численностью пехоты или против батарей, ведущих массированный огонь. Он был ранен несколько раз, но не слишком тяжело, и это не мешало ему гарцевать впереди своей конницы и добывать Наполеону все новые победы.

