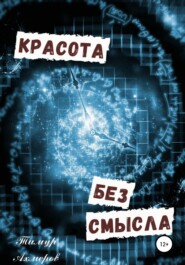 Полная версия
Полная версияКрасота без смысла
Во мне все кипело. Какой-то дурень, только занявший пост, собирается мне что-то указывать. Выждав полчаса, я надел парадную одежду и подпоясался старым мечом – это был мой опробованный вариант для встречи с недоброжелателями из числа дворян и зарвавшихся чиновников. Дорогая одежда давала понять, что ее владелец имеет немалое влияние. Но потом взгляд имперских холуев невольно цеплялся за старый эфес и потертые ножны. Некоторые даже кривились от такого несоответствия, но потом до них доходило: если я при такой одежде взял этот меч, значит, во-первых, я умею им пользоваться, а во-вторых, вполне готов прямо здесь его применить, – их тон сразу менялся. На самом деле новые мечи, конечно, куда сподручнее: и удобнее, и острее, – но важно было все же ограничиться впечатлением, не доводя дело до реальной схватки. Старый меч вполне справлялся с этой задачей…
– Бургомистр не принимает, – сказал мне стражник у здания городского управления.
– Передайте ему: если он не примет меня сейчас, через неделю меня будет принимать уже новый бургомистр.
Стражник, слегка поколебавшись, укрылся в здании, а спустя несколько минут распахнул передо мной дверь.
Я зашел в кабинет градоначальника. Не сводя глаз с бургомистра, подошел к столу, оперся о него кулаками, слегка наклонился и, выделяя каждое слово, сказал:
– Что вы себе позволяете?
В его глазах читался испуг, но он все же ответил:
– В в-вашем журнале… обо мне… мне… написано.
– Если написано, значит нужно лучше работать, – медленно произнес я. – Заметьте: я мог взять все материалы, собранные нашим журналом, и передать в суд. Я мог также пойти к графу и, заплатив две тысячи золотых – в два раза больше, чем вы со своими дружками, – получить нового бургомистра. Но я просто пришел к вам. Вежливо, правда?
Бургомистр кивнул.
– Тогда работайте, – сказал я, заканчивая разговор.
Выйдя из здания, я свернул в тесный переулок, тем самым укрывшись от глаз посторонних. Я прислонил лоб к стене и закрыл глаза. Какой же я дурень! Этот человек просто не знал местных порядков. Он побоялся бы связываться с Домовым, Грановски, Владиславом и Джоном. Но меня он не знает, ведь мне сейчас ничего в городе не принадлежит. Кто я для него такой? Редактор какого-то бесприбыльного журнальчика. Мне просто нужно было попросить Владислава намекнуть градоначальнику об источнике финансирования журнала. И все. Но нет, не терпелось выместить на ком-то свое раздражение. Чтобы с мечом! Чтобы с угрозой! И что, добился своего? Легче стало?
Даже Север становится добрее, а я, наоборот, превращаюсь в какого-то злыдня.
Ё
На следующий день мысли перетекли в более практичное русло. Бургомистру можно было даже спасибо сказать. Ведь, действительно, одной охраны мало. Ладно, чиновников и мелких дворян поодиночке можно не бояться. Но что если их станет много? Или что будет, если мною займется граф? Что тогда, а?
Ответ пришел сам собой: рубрика «Будни редакции». Ее можно разместить последней, сразу после цирковой. Собирать там угрозы в наш адрес и все такое прочее. И мягко намекать недовольным, что их имя может засветиться уже в следующем номере: нужна им такая слава на всю империю?
Ж
Годовщина журнала была для меня просто обычным днем. Но у сотрудников редакции было иное мнение на этот счет. Каждый подходил, поздравлял, говорил слова благодарности. Приходилось говорить что-то в ответ, улыбаться, жать руку. В какой-то момент рукопожатием со мной обменялся Корбюзье, находившийся в явно приподнятом настроении:
– Знаете, я хотел сказать, что люблю вас.
Корректор, только что поздравивший меня с годовщиной, хохотнул:
– Ай-ай-ай, Марсель, у тебя же есть жена.
Корбюзье поморщился:
– Я, между прочим, кроме жены, люблю маму, папу, братика и даже немножко тебя в качестве дурного товарища.
– И в каком же качестве любишь господина Лерва?
– Я люблю его как вассал своего сюзерена.
– Это противоестественно. Вассалы ненавидят своих сеньоров.
– А я люблю.
Своими повадками литераторы напоминали мне тепличные растения. Но если уж проводить аналогию из мира флористики, разве не такие растения дают миру лучшие цветы и плоды? Суровые колючки могут расти и безо всяких теплиц, легко отнимать ценные ресурсы у всех остальных, им нипочем мороз и зной, но толку-то? Все равно пользу миру приносят отнюдь не они.
З
Однажды, подходя к редакции, я заметил Вирана, который замер у угла здания. Удивившись столь странному поведению, я направился к нему и услышал из-за угла громкий голос девушки:
– …а он такой: «Да я ваще ниче не делал». А я такая: «Я все видела». А он такой…
Виран, заметив движение, встретился со мной взглядом, и я с наигранным возмущением поцокал языком. Виран, улыбнувшись, подошел ко мне:
– Думаете, я подслушивал?
Я закатил глаза, как будто задумавшись.
– Я проводил лингвистическое исследование! – заявил он.
– Что меня в вас всегда восхищало: вы даже полную ерунду при желании можете преподнести как в высшей степени здравое суждение.
– Я, между прочим, серьезно. Вы, вот, меня посадили со всякими учеными, которые, кроме «таким образом», «потому что» и «как отсюда следует», никаких больше выражений не знают. А раньше я сидел с молодыми писателями, прибывающими из самых разных уголков империи. Я слышал их живой язык и обогащался. Сейчас этого нет. Теперь, перерабатывая статью, ловлю себя на том, что стал писать словно никчемный чиновник провинциальной канцелярии. Ну что вы опять смеетесь?
– Представил себе обзорную литературную статью в вашей новой обработке: «А автор книги такой: "Ты че меня критикуешь?" А я ему такой: "Да че ты привязался?"»
Виран недовольно покачал головой:
– Как, значит, я над вами шучу, так вам не нравится. А как вы – так все, значит, в порядке.
– Простите, – серьезно ответил я. – Вы правы. Просто, сложно сдержаться.
– Смотрите: если вы поставите мяч на неровную поверхность, он не будет стоять на месте, а найдет самую удобную для него точку – точку с наименьшей потенциальной энергией. Так же и язык. Он не стоит на месте, постоянно развивается. То, что мы слышим в речи молодежи, – это попытка мяча найти точку минимальной потенциальной энергии. Да, это только поиски, но по ним уже можно понять тенденцию, понять, как лучше формулировать мысли. Например, поставьте себя на место этой девушки и попробуйте сами передать тот диалог в живой форме, то есть с эмоциями, экспрессивно, динамично – так, как сделала это она.
Я задумался:
– Вместо слов «такой», «такая» можно использовать «говорю», «говорит».
– Да. Но обратите внимание: вы не пытались составить предложение привычным литературным языком: «"Я все видела", – сказала ему я». Вы использовали речь этой девушки как образец. Потому что эта девушка отличает живое от мертвого. Она может ошибаться в точных формулировках, но живое от мертвого отличит.
– Так вы и нецензурную лексику оправдаете. Тоже ведь живой язык и все такое.
– Я, конечно, не уверен, но… как там ваши ученые говорят? Как мне кажется, быть может, на мой взгляд, мне видится, что обсценная лексика – это выплеск эмоций. Поэтому используются слова, выражающие животные инстинкты, слова, в максимальной степени оскорбительные для собеседника. Да, это дурь, безвкусица. Но даже тут есть чему поучиться: без эмоций нет жизни. Ваши ученые, к примеру, этого не понимают. Я над их статьями иной раз засыпаю. Моя цель – чтобы мою реакцию не повторили читатели. Добавить эмоций, живости.
Я покачал головой:
– А как все просто начиналось: «Он такой… она такая…», – а закончилось лекцией о поиске смысла в обсценной лексике.
Виран удовлетворенно кивнул:
– Все-таки приятно, господин Лерв, что есть области, в которых я разбираюсь значительно лучше вас.
Литераторы удивляли меня тем, что считали свои нелепые поступки помощниками в работе. Воины, ученые и торговцы, даже если дурачились, четко понимали: это не работа, а просто блажь. Но у писателей все иначе. Даже у прагматичного с виду Вирана.
И
Виран не разменивался по мелочам – он любил масштаб и в своих размышлениях готов был вершить судьбы мира. Причем особое удовольствие ему доставляли выводы, явно противоречащие реальности:
– Знаете, господин Лерв, однажды вы напишете шедевр. Не смотрите на меня так. Я не мню себя прорицателем. Просто иногда все складывается так, что иначе быть не может. Бывает, слушаешь человека, гневно осуждающего кого-то, и в этот самый миг чувствуешь, как вибрирует незримый воздух жизни: сам того не сознавая, человек запускает бумеранг. Он забудет об этом случае, будет смеяться, наслаждаться жизнью, а бумеранг, не спеша, продолжит очерчивать петлю, пока в один не очень прекрасный для человека миг щелк – и хлопнет его по темечку. Тот будет возмущаться, бранить небеса, сетовать на несправедливость жизни, хотя сам тому виной, сам предрешил свою судьбу. Так и вы: вкладываете свои силы и средства в издательское дело, вникаете в суть каждой статьи и сами того не ведаете, что закладываете фундамент для будущего шедевра. Возможно, это будет не роман, не повесть и даже не рассказ, а просто маленькая заметка в пару страниц. Но она станет эталоном на века. На нее не будет способен никто иной, кроме вас.
Виран поражал меня еще и тем, что после его обработки статьи ученых приобретали намного более логичное построение. Я спросил его, как ему это удается.
– Писать логичнее ученых? – удивился он. – Вы шутите, господин Лерв! На это способен и ребенок. Дай ученому волю – и вся бы его речь о законах, скажем, динамики была бы такой: «Мы существуем, а значит сила действия равна силе противодействия». Все. Шок, занавес. Ему, конечно, вежливо покивают, похлопают, поблагодарят и больше никогда не пригласят. А потом ученые удивляются: почему это люди не увлекаются наукой? Действительно, загадка природы, тема для диссертации.
Й
Другим моим собеседником стал Корбюзье. В отличие от Вирана, его часто беспокоили какие-то мелочи, второстепенные моменты. Но из-за них он устраивал многодневную трагедию, раз за разом пытаясь переубедить окружающих.
– Господин Лерв, – обратился он однажды ко мне, тряся в руке свежим номером журнала, – я долго терпел, но больше сил моих нет. Я больше не могу смотреть на то, как ваш корректор издевается над журналом.
– Поясните, в чем дело, господин Корбюзье.
– Он всюду вставляет букву «ё».
– А что с ней не так?
– Образованный, грамотный человек и так понимает, когда читать «е», а когда – «ё». Наличие «ё» в тексте раздражает, делает чтение почти невозможным. Взгляд каждый раз цепляется за эти дурацкие точки, но нет – корректор упорно вставляет их. Это безобразие!
– Вам не кажется, что если в алфавите есть эта буква, то и в тексте она имеет право на существование?
– Нет. Совсем не кажется. Знаете, есть, например, языки, в письменном начертании которых не указывают гласные. Вообще. То есть весь текст – сплошное нагромождение согласных. Когда я впервые встретился с этим, был в ужасе. Обратился к носителям языка: как же так? А они мне: «А вы что думали? Выучили алфавит – и грамотными, что ли, стали? Языку научитесь – тогда и читайте тексты». И они были правы! Я только потом понял: стоит выучить язык – и эти гласные на письме начинают раздражать. Так же и в нашем языке, но раздражают уже не гласные, а ударения и эта «ё». Ведь иностранцам тяжело, скажем, читать текст, не зная наших ударений, а нас они раздражают, и даже этот дубина корректор это понимает, но вот с «ё» у него какая-то идея-фикс.
– Наш уважаемый корректор все же не собственное мнение продвигает, а то, что принято во всей империи, – аккуратно возразил я.
– И дурак! – воскликнул Корбюзье. – Я могу понять, когда в какой-нибудь бульварной газете ставят букву «ё». Коль читатели – необразованные тупицы, то это вполне допустимо. Но у нас совсем другая аудитория. Вот если будем мы когда-нибудь писать что-то для тупиц, то пусть корректор хоть объёкается, пусть хоть ударение в каждом слове проставит – я слова не скажу.
– Господин Корбюзье, я с большим уважением отношусь к вам. Поймите меня правильно: в определенных вопросах мне приходится делать выбор, который кому-то обязательно не понравится. В данном случае принято такое решение. Но если хотите, сделаем однажды специальный выпуск без этой буквы. Так и назовем его: «Без буквы Е».
– Почему Е?
– А мы даже из названия уберем эти дурацкие точки.
В другой раз Корбюзье подходил ко мне и вовсе с ерундой:
– И снова ваш корректор! – громко восклицал журналист, упорно не желая называть своего коллегу по имени, когда дело касалось работы. Казалось, «корректор» было для него ругательным словом, в полной мере выражавшим его отношение к профессиональным качествам товарища. – Посмотрите, что он натворил! Я написал «полувшутку», а этот балбес исправил на «полушутя».
– Ужас какой! – покачал головой я. – Надеюсь, он еще жив? Не повесился, осознав столь непростительную ошибку?
– Если бы! – с неподдельной горечью в голосе ответил мне Корбюзье. – Он вообще не признает своих ошибок.
– Просто покажите ему слово в словаре и закроем эту тему.
– Так нет этого слова в словаре!
– Не понял…
– Потому что составители словарей такие же болваны, как этот ваш корректор!
К
С каждым месяцем количество писем в редакцию росло. И дня не проходило, чтобы не написал глава какого-нибудь городка, а то и целого баронства. Но все переплюнул день, когда на моем столе оказались письма от двух самых значимых отправителей во всей империи: канцелярии императора и герцога Севера. Отложив бумагу от канцелярии, я аккуратно вскрыл послание от Новарта:
Дорогой Серж,
даже не представляете, как я рад написать вам. Мое приглашение по-прежнему в силе. Будет время – приезжайте.
Недавно о вас вспоминал Крис. Говорил, что вы лучший человек вне Севера, которого он когда-либо видел. Полностью согласен с ним.
Рад также услышать о вас как о редакторе научно-образовательного журнала, но боюсь, что в этой связи у вас появятся недруги. На этот случай высылаю несколько бланков.
Я отложил письмо и изучил бумаги, о которых писал Новарт. Это были бланки о приеме в граждане вице-королевства. В каждом документе имелись пропуски для вписывания имени и даты. В общем, ничего не поняв, вернулся к чтению письма:
Когда потребуется, впишите нужные вам имя и дату. Это защитит человека от суда. Вице-королевство – независимое государство, граждане которого по новому соглашению неподсудны империи.
Стивен
Последние предложения все прояснили. Полная защита от суда. Я покачал головой. Передо мной подарок, который могут сделать лишь три человека на планете: император, король и Новарт. Каждый такой бланк в определенной ситуации стоит больше моего золотого рудника. Очень щедро. Я откинулся на спинку стула и подумал: может, взять да принять приглашение? Встретиться с Новартом, Крисом, посмотреть Северный университет, съездить в Оазис, а может даже и в вице-королевство?
С другой стороны, бросать журнал тоже не дело. Ладно, открою-ка я письмо от императорской канцелярии. Может, там раз – и подарок от императора.
Уважаемый господин Серж Лерв,
как нам стало известно, без ведома Его Императорского Величества вы открыли некий журнал.
Ага, и не прошло и двух лет, как новость о таком небывалом преступлении через все бюрократические каналы дошла наконец до ушей всеслышащей канцелярии.
Мы хотели бы уведомить вас о непозволительности подобной практики и о необходимости в будущем воздерживаться от чего бы то ни было подобного.
Подобной, подобного, ага.
Его Императорское Величество по Своей величайшей милости дарует вам Свое прощение.
Величайше благодарствую величайшему величеству.
Напоминаем, что впредь при выпуске любого иного нового издания вы обязаны прислать персональный экземпляр для Его Императорского Величества…
Дальше я уже читал по диагонали. Потом встал, размял шею и задумался: почему-то письмо канцелярии не шло из головы. Я мысленно прокрутил его содержание. Да нет, вроде обычная бюрократическая чушь. Прокрутил еще раз. Еще. И тут понял: новое издание! Конечно! Ну как же так? Я же торговец, должен же был понять. Нужно расширяться! Вот и урок: смеюсь над канцелярией, а нужно смеяться над собой. Даже канцелярия императора понимает, что пора издавать что-то новое, а я топчусь на месте.
Л
По законам развития бизнеса расширяться проще всего было в смежные области. То есть в издательскую сферу. Поняв это, пришел к простой идее: нужно выпускать базовые университетские учебники, доступные для понимания любого, кто более-менее владеет школьными знаниями. Такие учебники, конечно, существовали и без нас, но учиться по ним было сложно. Только с помощью преподавателя студенты худо-бедно понимали материал. Самостоятельно изучать учебники могли лишь единицы.
Опыт журнала позволял уверенно сказать, что создание намного более понятных книг, самоучителей вполне возможно. Кроме того, деньги для меня не проблема, а значит я мог не скупиться на бумагу, работу художника, качественную печать, лучших специалистов. В общем, составить алгоритм издания книги, апробировать его на первом учебнике – и вперед!
Первым предметом должна была стать математика. Для написания глав я привлек несколько ученых, причем сделал так, чтобы каждая глава составлялась, как минимум, в двух разных версиях. Тем самым создавалась конкуренция между авторами с целью повышения качества и поисков лучшей формы подачи материала.
Привлечение нескольких авторов преследовало и иную цель: один человек может выдать за прописную истину личное мнение. Часто слышны слова о том, что великий ученый сказал так-то, в книге он написал так-то. Но в одном конкретном вопросе он может ошибаться. Кроме того, бывает, что ученый, став известным, начинает говорить полную чушь. Поразительно, как новатор превращается в жуткого ретрограда, когда на смену его новаторству приходит еще более новое понимание. Поразительно, как он с умным видом начинает вещать не только о том, что по-настоящему понимает, но и о том, о чем имеет лишь весьма смутное представление. А люди принимают все за чистую монету. Были уже примеры, когда такие деятели становились чиновниками. Люди думали: наконец-то додумались дать власть ученому, – но увы, тот лишь расправлялся со своими оппонентами.
Поэтому лучше иметь варианты двух специалистов, желательно не соглашающихся в чем-то друг с другом. Если же они умудрятся написать противоречащие друг другу версии, то что ж, значит либо эта тема совершенно не развита и смысла выставлять ее на обозрение обычным людям нет, либо нужно указать оба мнения.
Но это все лишь начало работы над книгой. Ключевыми же этапами я видел иное. После того как будут готовы несколько вариантов главы, текст должен быть обработан литераторами, чтобы он заиграл легкостью и простотой. Он должен читаться как роман, но без растекания мыслью по древу, с повторениями ключевых моментов в конце каждой главы. Помимо литературной правки, я ожидал от писателей совместной работы с учеными по созданию ярких примеров по каждой теме, идей для рисунков и графиков, которые в интересной и красочной форме должны были оформить художники. Все, что можно было выразить картинкой, должно было получить соответствующее воплощение. Нельзя картинкой? Пусть будет оформлено графиком. Нельзя графиком? Тогда красивой таблицей. Нельзя и таблицей? Вот тогда уже нужен текст.
М
Но все это было красиво лишь в планах. На деле же работа застопорилась чуть ли не на первом этапе – этапе понимания текста литераторами. Текст, который должен быть понятен любому школяру, в своем черновом виде оказался не по зубам корифеям литературы. Корбюзье, заведовавший редактурой книги, лишь разводил руками, говоря, что понять даже первую главу он не в состоянии, а потому о редактуре этой абракадабры и речи быть не может.
Пришлось собрать соавторов и еще раз разъяснить им суть книги:
– Наша с вами цель – достичь понимания самого обычного человека.
– Господин Лерв, наука требует жертв: кто захочет – поймет, кто не хочет – и не надо, – сказал один из ученых.
– Считайте, что рабочее название нашего проекта – «Математика для тупиц». Наша цель не умные-разумные, которые и без нас все поймут, а предельно простые личности. Тупицы, если хотите.
– Тупицам разъяснять бесполезно, – ответил мне другой ученый. – В человеке должна быть хоть искорка таланта.
– Хорошо. Пусть будут не тупицы. Пусть будут талантливые личности. Вот посмотрите: перед вами господин Корбюзье, блестящий литератор, известный на всю империю своим талантом. Ваша цель – чтобы он понял в вашем учебнике каждую главу.
– А это, вообще, возможно? – вклинился в наш спор Корбюзье. – А то, знаете ли, математика для меня всегда казалась темным лесом.
Я перевел взгляд с журналиста на ученых и спросил:
– Ну что, беретесь?
Ученые задумались и с большим сомнением посмотрели на Корбюзье.
Н
Как рассказывал Виран, рабочее название проекта с моей легкой руки действительно поменялось. Но не на «Математику для тупиц», а на «Математику для Корбюзье». Фамилия Корбюзье стала нарицательной: отныне она выражала личность в высшей степени… талантливую, но не в области математики. Соавторы так погрузились в написание книги, что даже бывало в университете на своих лекциях, когда видели непонимание студентов, в сердцах восклицали:
– Да это даже Корбюзье поймет!
Объект шуток при этом нисколько не обижался. Наоборот, он в полной мере наслаждался своей ролью. Когда авторы-математики приходили узнать судьбу очередной главы, они смотрели на него словно подсудимые на верховного судью, с трепетом и страхом надеясь услышать оправдательный приговор.
– Вы же все поняли, господин Корбюзье? – с замирающим сердцем спрашивали маститые ученые.
Корбюзье выдерживал театральную паузу и с царственным видом слегка кивал. Математики издавали вздох облегчения.
Во время работы над книгой вовсю обсуждался проект «Физики для тупиц», и Корбюзье, которому пришлась по душе новая работа, как-то при ученых сказал, что и там собирается быть редактором. Говорят, один из физиков упал в обморок.
О
День сдачи окончательной версии книги стал знаменательным для редакции – никогда ранее в ней не собиралось столько людей: радующиеся математики с удовольствием пожимали руку и даже обнимали Корбюзье, улыбающийся Виран беседовал с корректором и учеными, художник что-то объяснял вовсе незнакомому мне человеку. Но все они замерли, когда увидели меня. На их лицах читалось предвкушение чего-то особенного, и весь мой жизненный опыт кричал: дело не только в итоговой сдаче материала.
Так и случилось. Довольный Корбюзье, многословно выразив общую радость, передал мне экземпляр готовой рукописи. На титульной странице большими буквами было тщательно выведено окончательное название:
Математика для тупиц
Я оглядел собравшихся: каждый лучился счастьем. На секунду остановил взгляд на Виране. Он одними глазами, казалось, пожал плечами: решать, мол, вам. Как торговец я понимал: это абсолютно недопустимое название, многие из-за него не станут покупать учебник, могут отказаться от закупок университеты. С другой стороны, книга значительно превосходит аналоги по своему уровню, а значит, мы монополисты и имеем право на блажь. Но не на такую…
И все же это некоммерческий проект. Что там Виран говорил о выплеске эмоций? Пусть люди порадуются, они заслужили. Мысленно махнув на все рукой, я сказал:
– Уговорили.
Радостный смех показал: все поняли, что я имел в виду.
П
В день, когда весь тираж был готов, зайдя в редакцию, я увидел Вирана, который, развалившись на стуле и положив ноги на стол, любовался каким-то списком.
– Что вас так заинтересовало? – спросил его я.
– Да вот, у нас же такой замечательный учебник вышел, с таким замечательным названием. Нужно бы осчастливить наиболее уважаемых мною господ персональным экземпляром. Вы же не против?
Я пожал плечами: дело, мол, ваше. Виран удовлетворенно кивнул и продолжил:
– Представляете, как будет звучать? «Математика для тупиц. Персональный экземпляр для барона Копонина»! Здорово, правда?
Я подошел и с интересом просмотрел составленный Вираном список.
– Что, думаете, кого бы вычеркнуть? – спросил он.
– Нет, думаю, кто из них первым вас убьет.
Виран недовольно вздохнул:
– Знаете, я иногда скучаю по прежней работе. Там бы редактор взял да вычеркнул всех из этого списка. В итоге я бы считал себя белым лебедем, которому злые тираны не дают расправить крылья. Но вот теперь я на воле, пытаюсь взлететь, а выясняется, что крыльев-то у меня нет. Выходит, я не лебедь, а… в общем, иное животное, – с этими словами он сам вычеркнул барона Копонина из списка.



