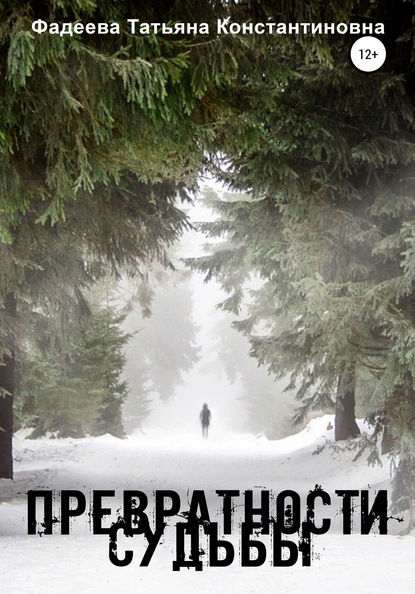 Полная версия
Полная версияПревратности судьбы
Девочки с базы настойчиво предлагали: «Возьмите то, возьмите это».
Я ничего лишнего не взяла.
Продавщица из магазина, та самая литовка Рута, которую я когда-то замещала в магазине, сшила мне платье. А фату конечно негде было взять, мне сделали красивую прическу. Вот так я подготовилась к свадьбе. У Казимира была не плохая одежда, ему ничего не покупали. Рубашки у него были хорошие и галстук.
Казимир о свадьбе сообщил Томасу, и он приехал с огромной сумкой полной шампанского. Тогда шампанское сложно было купить. Там, где мы жили, кроме спирта в зимнее время ничего не было. Все продукты и товары завозились летом на водном транспорте, поэтому выбора большого и быть не могло.
Подарков на свадьбу гости принесли множество, мы их складывали и складывали в угол. Гармонист очень хорошо играл, по желанию гостей все танцы исполнял. Как только зазвучала музыка, Томас меня пригласил танцевать.
Во время танца он тихо сказал: «Рая, милая, прости меня ради Бога. Конечно, Казимир лучший из нас троих. Но я тоже рассчитывал быть с тобой. Мне хотелось тебя порадовать, поэтому я объездил все поселки в округе и скупил все шампанское».
Потом, через пару часов, мама с папой извинились и ушли, они неважно себя чувствовали. Свадьба еще продолжалась, все, кто жил на Времянке пришли в столовую.
После свадьбы, когда гости разошлись, мы освободили часть стола и стали смотреть подарки. Среди них было очень много одинаковых. Семь кусков материала почти одинаковой расцветки, девять утюгов, пять или шесть эмалированных ведер, несколько тазов. Кто-то деньги дарил. Особенно рассмешили утюги.
Ну а что поделаешь? Что в магазине было, то и дарили. Единственным оригинальным подарком была красивая стеклянная зеленая ваза для цветов, откуда она там взялась и кто ее подарил я уже не помню.
После свадьбы, перед уходом столовую привели в порядок, потому что на следующий день в шесть часов утра она начинала работу.
На следующий день, на лесную делянку, где работал Казимир, приехал директор леспромхоза. Казимир был передовиком производства и ездил всегда с красным флажком на тракторе.
Директор подошел к нему и говорит: «В бараке молодоженов в Соленом тебе выделена комната. Так что завтра можешь переезжать».
Казимир после работы пришел радостный, рассказал мне об этом.
А на следующий день мы поехали смотреть комнату в новом, недавно построенном бараке. Там уже жило несколько литовских семей и одна польская. У трех семей уже были дети.
В Соленом, правда, раньше надо было вставать, потому, что дорога на работу стала на шесть километров длиннее. Но у нас появилось свое собственное жилье – это было безграничным счастьем! Жилье конечно неблагоустроенное, но в комнате стояла печь, а еще там были настоящая кровать, стол и две табуретки.
Мы начали обустраиваться. Папа кое-что подремонтировал и утеплил окна. Окна были непривычно большие, с занавесками возникла проблема, но мама что-то придумала. Устроились хорошо. Казимир принес из леса чудесную кедровую ветку с шишками. Мы поставили ее в нашу зеленую вазу, получилось очень красиво. Этот букет стоял у нас почти год. Вот так мы и начали семейную жизнь с Казимиром.
Отрез
Как-то приехали мы с мужем в Богучаны, смотрю, огромная очередь стоит на улице перед магазином, а это значит, «дают» что-то дефицитное. Я заняла очередь, узнала, что «дают». Оказалось, что в продажу поступила очень красивая ткань, темно синий креп-жоржет.
Я отстояла очередь, купила себе отрез на платье и подхожу к Казимиру, просто сияя от счастья.
А он тем временем встретил своего старого друга Феликса. Они на пароходе «Товарищ» познакомились, когда их из Литвы везли к месту ссылки в Соленый. Феликса арестовали неожиданно, он не смог с собой в дорогу ничего из еды взять, и скорее всего, умер бы за две недели пути от голода, такие случаи бывали нередко. Но ему повезло, на пароходе он познакомился с Казимиром и Казимир делил с ним свой скудный хлеб поровну всю долгую дорогу, не съев ни крошки больше.
Муж спрашивает меня: «Сколько у тебя денег осталось?».
«Только на дорогу нам с тобой оставила», – отвечаю.
Казимир попросил: «Продай ткань, которую купила, надо Феликсу помочь добраться в Соленый, у него денег на билет на пароход нет».
Как сильно я огорчилась не передать. Не часто мы обновки тогда покупали. Но мужу возражать не стала, пошла в конец очереди и продала отрез какой-то женщине. Она у меня его «чуть не с руками оторвала».
Скрывать от Казимира, что очень расстроена, не стала. Очень обиделась.
Через несколько дней Казимир пришел домой с пакетом в руках и сказал: «Вот, посмотри, я купил тебе другой отрез. Этот, наверное, даже еще лучше будет».
И правда, в пакете оказался отрез чудесного черного шифона.
Торт из хлеба
В ссылку в Соленый прибыла замечательная литовская семья: пять дочерей и старенькая мама. В литовских семьях обычным делом считается заводить по пять-шесть детей.
Девушки все уже взрослые, как на подбор пригожие, начали работать в лесу сучкорубами, мама дома сидела, она совершенно не знала русского языка.
Спустя недолгое время первой вышла замуж старшая дочь, за ней следующие три сестры с тремя братьями-литовцами поженились, а младшая Станислава приглянулась другу Казимира Феликсу.
Парни в лесу работали на лесоповале, девчонки сучки рубили. Сложился дружный литовский коллектив, на досуге стали часто собираться. Я единственная не понимала их языка. Пока трезвые все из уважения ко мне, а больше, наверное, к Казимиру старались по-русски разговаривать, а как немного выпьют, то уж только по-литовски. Казимир по-русски не плохо говорил потому что, за четыре года, проведенных в тюрьме, многому научился.
Феликс женился на самой младшей из девчонок Станиславе, она его своей простотой и непосредственностью покорила. Им дали комнату в бараке молодоженов, мы стали соседями. Вскоре у них родился сын Кестутис.
В одноэтажном бараке посередине находился длинный коридор, а из него по обеим сторонам двери вели в комнаты. Шесть комнат с одной стороны и шесть с другой. Наши комнаты недалеко друг от друга располагались. Мы там очень дружно жили.
Братья-литовцы начали по очереди строить себе дома, сначала одному, потом другому, потом третьему. Постепенно на Времянке появилась целая улица из собственных домов. Йонас, старший из «трех танкистов» женился на женщине-литовке лет на десять старше его и тоже построил дом. Все бесплатно друг другу помогали строиться. Мы с Казимиром тоже принимали участие в работе.
На строительстве одного из домов я первый раз в жизни попробовала торт из черного хлеба. Старушка, мама пяти дочерей устроила нам праздник, приготовив чудесный торт. Тоненькие ломтики черного хлеба проложила массой из рыбы перемешанной с какими-то травами, растительным маслом, натертым лучком. Тогда нам все казалось вкусным.
На десерт она сделала торт из белого хлеба. Он был пропитан и покрыт сладким соусом из повидла.
Там же не было дрожжей, чтобы можно было испечь пирог, из фруктов в магазин завозили только яблочное повидло в больших жестяных банках.
Сталин умер
Однажды, когда я собиралась мыть полы в диспетчерской, включила черную тарелку радио, висевшую на стене, чтобы под бодрые мелодии работа быстрее спорилась.
Вдруг слышу, на фоне печальной музыки передают срочное правительственное сообщение. Медленно и четко диктор Юрий Левитан объявляет по радио, что умер Сталин, у меня мурашки по коже побежали от его голоса.
О смерти Сталина было объявлено 5 марта 1953 года.
Я заплакала, потому что дома никогда никакой критики руководства страны не слышала. Видимо, чтобы не травмировать мою детскую душу о политике у нас дома говорить было не принято. Я пожалела Сталина как обычного человека.
Прибегаю домой, вся в слезах и кричу отцу: «Папа, Сталин умер!».
А он недоверчиво спрашивает: «Где ты это услышала?».
«По радио передают», – отвечаю.
Он бросился включать радио, и стал внимательно слушать. Сообщение о смерти Сталина передавали много раз.
Потом отец встал посреди комнаты, и довольно потирая руки, произнес: «Ну ладно, теперь можно и домой собираться».
Я, конечно, взаимосвязи между этими событиями сразу не уловила. Не понимала тогда еще, что общего может быть между ссылкой отца и именем Сталина.
Тут в комнату вбегает наш знакомый, инженер Петр Алексеевич, он был родом из Сибири, но тоже сослан на окраину Красноярского края.
Он, сияя, спросил: «Андрей Андреевич, слышал новость?».
«Да слышал и сейчас слушаю», – улыбаясь, отвечает отец.
Они радостно обнялись.
«Господи, собираемся домой, если пароходы ходить не будут, построим плот и все равно уплывем!», – сказал Петр Алексеевич.
Этот разговор навсегда сохранился в моей памяти. Как же сильно человек стосковался по родным людям и местам, что готов был предпринять такое опасное путешествие, уплыть отсюда на плоту сначала по Ангаре, потом по Енисею, очень бурным и строптивым рекам!
Вместе с Петром Алексеевичем в дом ворвался кабанчик по имени Мойша. Он как верный пес повсюду следовал за своим хозяином. Появился он у Петра Алексеевича случайно. Как-то к нам на Времянку привезли продавать поросят местные жители из Иркинеево. Никто из ссыльных поросят не покупал. Стоили дороговато, да и держать негде. Петр Алексеевич купил одного, но решил сразу не забивать, а немного подростить, очень уж тот был маленьким. Жить поросенок стал в его комнате.
Собственным жильем на Времянке обладали только два человека. Когда в ссылку приехал жить и работать специалист – инженер Петр Алексеевич, все стали его уважительно звать «дядя Петя». Для него и начальника лесного участка построили двухквартирный дом, но потом одну комнату из квартиры Петра Алексеевича забрали под диспетчерскую, потому что рабочим негде было собираться по утрам и ждать машину из Соленого, отвозившую их в лес на работу. Морозы-то под пятьдесят градусов зимой стояли.
Иногда Петр Алексеевич купал испачкавшегося поросенка в оцинкованном тазу, брал его «под мышки» и окунал в теплую воду как ребенка. В углу комнаты поставил питомцу коробку с тряпьем, чтобы ему было теплее спать. Но однажды ночью в лютый мороз Мойша забрался к хозяину на кровать, растянулся рядом и мгновенно уснул. Так и повелось, стали спать вместе, чтобы теплее было.
Когда поросенок вырос, превратившись в резвого кабанчика с доброжелательным характером, речь о том чтобы зарезать и съесть верного друга уже не заходила. Поросенок весело похрюкивая бегал за Петром Алексеевичем по всему поселку, как собака за хозяином. Все обитатели Времянки его знали и ласково называли Моисеем Петровичем. Никто никогда не покушался на его жизнь и свободу, хотя ели мало и плохо. Если Мойша по недомыслию убегал и пропадал из поля зрения хозяина, люди сообщали Петру Алексеевичу, где его видели и всякий раз он возвращал своего любимца домой целым и невредимым.
Мойша был единственным домашним животным на Времянке, в поселке не было ни кошек, ни собак, люди ведь все были приезжие.
Петр Алексеевич и отец часто встречались и разговаривали о прошлом, о политике, обо всем. Иногда шептались. Чтобы никто лишний их не слышал.
Сталин многим представлялся вечным, бессмертным, как языческий бог, и вдруг умер. Это событие потрясло всех в поселке. Поначалу никто не знал, что будет дальше, хорошо это или плохо. Но очень скоро все вокруг заговорили об отъезде из Сибири. А разговоров было очень много, в любом месте с чего бы разговор ни начинался, заканчивался всегда отъездом, кто куда поедет и когда. Мы тоже задумались, куда направимся, где будем жить дальше. Решили вернуться в Карелию. У родителей остались хорошие воспоминания о работе в паданской школе, там они создали семью, там родились дети. Но уехать сразу было невозможно. Паспорта у всех ссыльных были отобраны. Это произошло только в следующем 1954-ом году. Тогда в родные края хлынула целая волна людей, которым, наконец, разрешили вернуться домой.
Директор леспромхоза собрал народ в Доме культуры на общее прощальное собрание, поблагодарил всех за работу, наградил многих денежной премией и обратился с такой речью: «Если на большой земле у кого-то жизнь не сложится, там, куда вы приедете, можете дать телеграмму, и мы выделим вам подъемные, а по возвращении устроим здесь на работу. Мы будем рады, если вы вернетесь».
А мастер, единственный кто матерился в лесу на лесозаготовках, на коленях умолял бригаду трактористов не уезжать, просил, чтобы они остались, потому, что он, в сущности, оставался без работы. Этого мастера не любили, он часто незаслуженно оскорблял людей.
Один из мужчин сказал ему: «Поднимись, не унижай ни себя, ни нас». И поднял его за шиворот.
На проводах играл оркестр, и состоялся небольшой концерт. Проводы были очень радостные. Примерно половина ссыльных сразу уехала, едва только власти разрешили вернуться в родные места. Но тогда не у всех возможность такая была, потому что и деньги были нужны на дорогу не малые, и многие построили дома, обзавелись скотом, огородами, каким-никаким хозяйством, не бросишь ведь все это на произвол судьбы.
Но спустя некоторое время почти все ссыльные покинули Сибирь. Говорят, некоторые даже с кладбища своих забрали и увезли, чтобы похоронить в родной земле.
Анита
К нам еще за год до этих событий приехала моя сестра Ира. Вернувшись из Казахстана, она работала зоотехником в совхозе в Карелии в Сортавальском районе. Вышла замуж за военнослужащего, звали его Алексей. Уже была беременна, когда Алексей получил из дома письмо, а Ира его прочитала.
Его мама сообщила, что они ничего не имеют против того, что он женился.
«Но если ты привезешь жену к нам», – писала она – «на что вы будете жить? Она будет для нас лишним ртом. Ты же знаешь, как нам тут живется. У нас в колхозе ничего нет, и жилья-то для вас нет, только наш маленький домик».
Прочитав это письмо, Ира не поехала с Лешей. Она осталась жить у тети Хельми Лехтонен в Суоярви. Тем более, что у тети Хельми умер сын Вилье, за трое суток «сгорел» от какой-то неизвестной болезни.
У Иры родилась дочка, она назвала ее Антуанеттой, а коротко Анитой. В комнату тети Хельми подселили чужую пожилую женщину и маленький ребенок, который все время плакал, конечно, вскоре стал ей в тягость. Ира написала нам об этом в письме.
Прочитав письмо, отец сказал: «Пусть Ира едет сюда, к нам, что она там будет делать одна с маленьким ребенком. Вместе как-нибудь девочку вырастим. Надо будет Рае поехать в Красноярск, чтобы встретить Иру».
Я приехала в Красноярск вечером. На вокзале посмотрела расписание и узнала, что поезд, в котором должна приехать Ира, прибывает утром. Мне надо было где-то переночевать. Я нашла Дом приезжих, переночевала там, но всю ночь не спала, боялась проспать, потому что часов у меня не было.
Прихожу на вокзал, слышу, объявляют, что поезд «Москва – Владивосток» прибывает на такую-то платформу. Я отправилась искать платформу, довольно быстро нашла. Остановился поезд, подхожу к вагону, вижу, что дверь открыта, в проходе столпилось много народу, поодаль стоит Ира с ребенком на руках и ни сумки, ни чемодана у нее нет.
Вышли первые пассажиры, я подошла ближе, смотрю, какой-то мужчина лет сорока забрал ребенка у Иры и помогает ей выйти. Она выходит, а он, держа ребенка одной рукой, подает ей сумку и выходит сам.
Не замечая меня, спрашивает Иру: «Может быть, вас проводить до места?».
Ира отвечает: «Нет спасибо, меня сестра приехала встречать. Теперь мы вдвоем справимся».
Мужчина дал Ире какую-то бумажку и сказал: «На всякий случай вот мой номер телефона, если понадобится помощь, звоните».
Я спросила его: «Как нам попасть в порт?».
Он отвечает: «Автобусы с вокзала уходят во все районы города», и назвал номер нашего автобуса.
Мы сели с Ирой в автобус и поехали в порт.
В порту
А там! Боже мой! Множество причалов и у каждого из них стоит огромное количество судов! Это был грузовой порт. Повсюду – штабеля строительных и лесоматериалов. Нагромождение бревен, досок, огромных ящиков, бочек приводили в движение подъемные краны. Мимо нас по своим важным делам сновали люди. Шум и грохот от погрузки и разгрузки судов стоял такой, что разговаривать было трудно.
Иру с ребенком и сумкой я посадила в сторонке на лавку, а сама отправилась искать диспетчерскую. Наконец, нашла.
Спрашиваю женщину-диспетчера: «Как попасть в Соленый?».
«Пароход «Товарищ» идет тогда-то», – отвечает она.
Это значит, нам придется его несколько дней ждать, а потом еще недели две плыть на пароходе.
Спрашиваю ее: «А на чем еще можно добраться?».
Она говорит: «Пожалуй, что ни на чем. Пройдите по берегу, там стоят катера, поспрашивайте, кто в ту сторону идет, но на них вы не доберетесь до Соленого, только до станции Стрелка».
Когда я уже выходила из диспетчерской, она крикнула: «Девушка, подождите минутку, там еще стоят две баржи, которые идут за грузом на Ангару за Богучанск. Узнайте, может быть они вас возьмут».
Я пошла туда, куда она указала.
Подошла к пароходу, вижу, капитан на палубе стоит пожилой, лет пятидесяти. Я вежливо обратилась к нему, попросила нас на пароход взять.
Он как заорет на меня: «Да вы что, в таких условиях с ребенком невозможно в дальний путь отправляться. Это буксир, у меня там четыре матроса еще, мы постоянно курим, материмся, условий у нас для маленьких детей нет», – даже побагровел весь от возмущения.
Я умоляюще, чуть не плача, произнесла: «Нам надо уехать хоть в каких условиях, мы не можем рейсовый пароход ждать, он не скоро пойдет. Ребенок не выдержит, девочке всего два месяца. Нам очень домой надо!».
Он немного потеплел и сказал: «Ладно, подойдите через полчаса».
Я вернулась обратно через полчаса.
Капитан говорит: «Единственное, что мы можем вам предложить, это будку на корме баржи. Она с крышей и с дверями, в ней обычно едет человек, сопровождающий грузы. Пойдемте я вам покажу».
Мы прошли на корму. На задней оконечности баржи находилась небольшая дощатая будка, обшитая сверху толем, там в тесном помещении стоял топчан и маленькая тумбочка. Каморка была приспособлена только для кратковременного пребывания на барже. На тумбочке стояла кастрюлька и пара чашек, на полу ведерко, сделанное из большой жестяной банки с ручкой из проволоки.
«Если вас это устроит, то приходите, через три часа мы отчаливаем. Это единственное, что я могу вам предложить, но я бы лично, не советовал. Идти будем против течения очень медленно, это недели две-три пройдет, да и то, если все пойдет нормально, без приключений», – добавил он.
Я отвечаю: «Мы согласны как угодно добираться, потому что пароход надо еще несколько дней ждать, и пойдет он так же медленно».
«Хорошо, сейчас парень заберет из будки свое имущество, и можете занимать помещение», – сказал он и ушел.
Я передала Ире наш с капитаном разговор.
«Да хоть как плыть, лишь бы вода не лилась за ворот», – сказала Ира.
Я говорю: «Ты посиди тогда еще здесь, а я пойду в магазин, надо в дорогу еды купить».
Сходила в магазин, купила сгущенки, булки, хлеба, пряников, набрала целую сетку-авоську продуктов. Вернулась к Ире, и мы пошли на баржу. Паренек уже помещение подмел, немножко прибрался.
Я подошла к капитану и спрашиваю: «Сколько мы будем должны вам за такое путешествие?».
«Ладно, садитесь»,– говорит, – «потом разберемся. Уж не столько же, сколько на пароходе бы заплатили за билеты».
Перед отправлением капитан сказал: «Минут через пятнадцать отчаливаем. Могу предложить чай и горячую воду, этим мы вас обеспечим во время пути. Баржа будет останавливаться в нескольких населенных пунктах, так что вы сможете сбегать в магазины за хлебом. По пути будут остановки в деревнях, где продают молоко, творог и яйца, с голоду не умрете».
Вот так мы с Ирой устроились на барже. А с пеленками тоже проблем не возникло. Тогда про памперсы-то не слыхали, все так детей растили в самодельных подгузниках. Мама дала мне с собой пакет пеленок, сделанных из старых вещей, знала, что в дальней дороге пригодятся. Да и тетя Хельми снабдила Иру пеленками из тряпок перед отъездом из Суоярви. Маленькому ребенку ведь их много надо. Мокрые и испачканные мы полоскали в овальном оцинкованном тазике с двумя ручками по бокам, который нам дали на барже. Воды сразу набрали в ведерко.
Когда буксир пошел, Ира повесила пеленки сушиться. Они весело развевались на ветру. Только их надо было караулить, чтобы ветром не унесло. Под такими разноцветными флагами мы и отправились в дальний путь.
По Ангаре
Конечно, сложностей было много, несмотря на то, что ребенок был спокойный. Анита редко плакала, на свежем воздухе, под шум воды она ела и спала. Ира кормила ее грудью. Я заботилась о том, чтобы всегда была вода и Иру поила молоком, чтобы у нее хватало грудного молока для Аниты. Молоко и хлеб я покупала на остановках в деревнях.
Однажды к нам в будку зашел капитан, принес горячую картошку, сваренную в мундирах в закопченном котелке.
«Поешьте», – говорит, – «пока горячая».
Спросил, как нас зовут, кто мы и откуда. Разговорились, мы рассказали ему нашу историю, он поведал свою. Звали его Генрих, он был из поволжских немцев, попал в Сибирь еще в начале тридцатых годов, тоже похоже не добровольно. Он сказал, что сразу заметил, что мы внешне не очень похожи на русских.
Когда дошли до станции Стрелка, баржа больше часа там на приколе стояла. Генрих рассказал, что в прошлый приход сюда они встретили на берегу странную компанию из десяти китайцев, которые сидели у костра на берегу, а рядом лежало мертвое тело девочки лет четырнадцати. Я сразу поняла, что это была Маша, девочка из Времянки, утонувшая во время купания.
Это мы уже километров на триста отдалились от Красноярска. Всего по Ангаре надо было пройти километров шестьсот, а Ангара река очень бурная и своенравная.
Когда баржа проходила мимо деревень, матрос кричал нам с буксира, спрашивая, надо ли делать остановку. Если нам надо было что-нибудь купить в деревне, то мы отвечали жестами утвердительно. Или я показывала руками, что останавливаться не надо, а он кивал головой, что понял. Буксир двигался против течения, против ветра и в шуме воды звук был плохо слышен.
Всего один раз бушевала гроза. Вот тут-то мы конечно сильно перепугались. Перед грозой Анита долго плакала, как будто ее что-то мучило. Гроза разразилась какая-то неистовая! Так было жутко! Вокруг быстро потемнело, молнии зловеще сверкали, рассекая небо, оглушительно гремел гром, вздымались огромные волны, дождь ливмя лил. Хорошо еще что, баржа перед грозой успела зайти в бухту.
Мы сидели, прижавшись друг к другу на топчане, Ира с Анитой на руках. В будке нас не доставали ни ветер, ни вода, она была прочно обшита толем. Да еще один из матросов перед грозой притащил нам большой брезентовый тент, чтобы укрыться, но от каждого нового раската грома мы дружно вздрагивали.
В Сибири вообще очень мощные грозы, всегда молния попадает куда-нибудь, обязательно что-нибудь от молнии загорается, но к счастью на этот раз все обошлось.
В дороге я расспросила у Иры, кто был тот мужчина из поезда, который помог ей вынести из вагона сумку и дал свой номер телефона. Оказывается попутчик – инженер, он возвращался из Москвы из командировки. Дорога была неблизкая, они разговорились и он расспрашивал Иру кто она, откуда и куда едет. Ира сказала, что по профессии она зоотехник, и он предложил устроить ее на работу после декретного отпуска. Есть тут совхозы поблизости, но сложность в том, что ребенок еще очень маленький, не везде есть ясли и садики. На всякий случай оставил телефон. Просто хороший человек.
В Соленом буксир подошел не туда, где обычно пришвартовывались пароходы – к бревнам на воде, а ближе к причалу. Капитан выбрал место, где нам удобнее было сойти на берег, а один из матросов помог донести сумку. При расчете капитан взял денег меньше, чем я приготовила.
«Этого достаточно», – говорит, – «а вам деньги самим пригодятся».
До сих пор я благодарна ему за заботу и порядочность.
В Соленом нам повезло, мы сразу нашли попутку. Когда приехали домой, наперебой рассказывали маме и отцу о своих приключениях. Родители долго удивлялись, что Анита, такая маленькая, легко перенесла дальнюю дорогу и даже не заболела. Я больше всего боялась, что мы с ней намучаемся в дороге. Ира ведь сначала одна добиралась от Суоярви до Москвы, потом недели две от Москвы до Красноярска, потом мы вместе с ней еще почти три недели плыли на барже до Соленого. С тяжелым сердцем тетя Хельми отпустила ее одну с маленьким ребенком на руках в такой далекий и трудный путь и при расставании долго плакала, но поступить по-другому она не могла.



