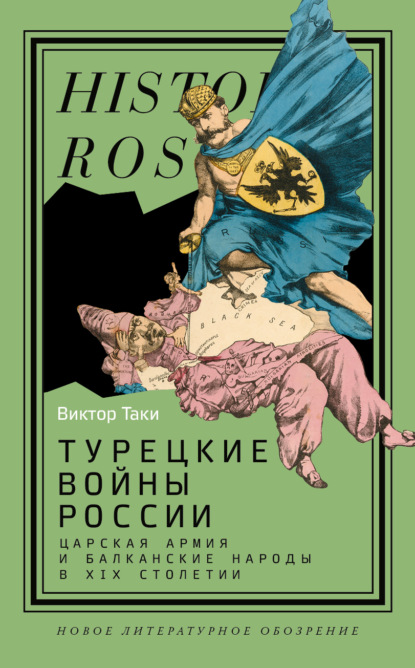
Полная версия:
Турецкие войны России. Царская армия и балканские народы в XIX столетии
По предложению Васильчикова Николай I сформировал специальный комитет, в который наряду с царем и самим Васильчиковым вошел председатель Государственного совета В. П. Кочубей, военный министр граф А. И. Чернышев и генерал-адъютант К. Ф. Толь. Плоды работы этого комитета были суммированы в записке Чернышева, в которой отвергалась идеи систематической войны в Дунайской Болгарии и утверждалось, что только переход русской армии через Балканы поможет достичь цели войны. По мнению комитета, такой переход был необходим, потому что «только смелые и неожиданные удары могут поражать народ подобный туркам, заставляя их переходить от самоуверенности и фанатизма в состояние полнейшего упадка духа»206.
С этой целью комитет рекомендовал внезапно атаковать Шумлу в марте 1829 года, пока в ней не собрались иррегулярные неприятельские войска, «которые зимою, согласно обычаю, находятся в разброде»207. Наряду с Шумлой русские войска должны были стремиться захватить Силистрию для того, чтобы обеспечить свой правый фланг, «который ни в каком случае не должен простираться на Дунае далее этой крепости; по направлению же к горам он не должен выходить за Шумлу»208. Затем русская армия должна была пересечь Балканы в наиболее восточной их части, захватить Бургас в тесном взаимодействии с Черноморским флотом и продвинуться в направлении Айдоса и Карнобата. Россия могла бы воспользоваться «ужасом, вызванным подобными событиями в Константинополе, чтобы открыто предложить и подписать мир»209.
Таким образом, предлагаемая операционная линия проходила через самую восточную часть Балкан, примыкавшую к Черному морю. Составители плана новой кампании предпочитали держаться прибрежных областей Европейской Турции и отвергли идею продвижения вглубь Балканского полуострова. Они отмечали опасность одновременного преследования нескольких целей в ходе одной кампании и подчеркивали необходимость держать немногочисленные русские силы сосредоточенными. По этой же причине комитет настоятельно рекомендовал не провоцировать сербов на восстание, обращая внимание на невозможность предоставить им достаточную помощь и на политические неудобства от такой меры: помимо затрагивания интересов Вены, участие сербов неизбежно вылилось бы в завышенные требования с их стороны, что в свою очередь затруднило бы мирные переговоры с османами210. На практике такое решение означало, что русская армия должна была действовать на территориях со значительным мусульманским населением и в то же время держаться вдали от наиболее православных и славянских областей, располагавшихся западнее.
Отказ от «систематической» войны в Дунайской Болгарии и намерение осуществить решительный бросок через Балканы привели к замене в феврале 1829 года пожилого Витгенштейна начальником штаба самого Николая I И. И. Дибичем. Еще до своего назначения Дибич составил на основании записки Чернышева план новой кампании. Он предполагал захват Силистрии, Джурджи и Турну для обеспечения коммуникаций через Дунай. Затем русская армия должна была перейти Балканы в направлении Айдоса и Бургаса с возможным продвижением до Факи и Карнобата. Дибич полагал захват Шумлы необязательным, но был готов атаковать османские силы, которые осмелятся выйти из Шумлы или Рущука на помощь Силистрии. Эта сторона плана Дибича предвосхитила действия великого визиря, предоставившего россиянам возможность разбить себя в битве при Кулевче 30 мая 1829 года и затем успешно перейти Балканы211.
Сражение при Кулевче радикально изменило ситуацию в Дунайской Болгарии. Отряды, составлявшие авангард русской армии и отражавшие атаки османских сил, превратились в ее арьергард, в задачу которого входило обеспечение коммуникации войск, переходивших Балканы. Это, в частности, касалось отряда генерал-майора П. Я. Купреянова, удерживавшего на протяжении почти всей войны Праводы. Отразив атаку основных османских сил в мае 1829 года, этот отряд затем занимался «истреблением бродивших шаек вооруженных жителей; предупреждением всяких могущих возникнуть в тылу армии, по горным ущельям, вредных скопищ; внимательным надзором за всем происходящим по Камчику»212.
Мусульманские партизаны в Делиорманском лесу продолжали действовать и в 1829 году. Дабы обезопасить российские коммуникации, командующий русским корпусом, наблюдавшим Шумлу, генерал-лейтенант А. И. Красовский назначил отряд из 400 егерей и 100 казаков под командованием корпусного квартирмейстера Стиха. Отряд вошел в Делиорманский лес и нашел в нем 16 селений, расположенных в основном в глубоких ущельях, окруженных очень густым лесом. Почти все они были населены турками, которые открывали мушкетный огонь по казакам и растворялись в окружающих селения лесах по приближении русской пехоты. По приказу Красовского все эти селения были уничтожены. В деревне Гущекиой – главном убежище партизан – было найдено много мундиров русских солдат. Там были также захвачены 30 женщин и трое мужчин, двое из которых были повешены. Прежде чем отпустить женщин и детей на свободу, Стих заставил их поклясться, что они постараются убедить своих родственников прекратить атаки на российские коммуникации. Он также предупредил, что в случае продолжения атак русские войска не пощадят никого, невзирая на пол и возраст213.
Две недели спустя Красовский сообщал, что освободил пятерых заложников-мужчин, взятых Стихом, «для увещевания прочих». Через некоторое время трое из них вернулись в сопровождении «старейшин деревень Гюлер киой, Клакова и Ирн дере, кои единодушно обязались честным словом жить в своих селениях мирно» и даже обещали захватывать небольшие разбойничьи шайки, которые появятся в окрестностях, и сообщать о крупных в русский лагерь. В свою очередь Красовский выдал мусульманским старейшинам охранные листы и копии прокламации Дибича к мусульманскому населению, «коей узнав содержание помянутые жители показывали живейшую радость и благодарность»214. Тем не менее до полного замирения Делиормана было еще далеко, и спустя некоторое время туда был направлен новый русский карательный отряд под командованием подполковника Керна, который застал жителей деревень Чайнлар, Янипаче, Осулкиой, Сафулар и Памукчу за сбором урожая для отправки его в Шумлу. «Встретив со стороны жителей довольно сильное сопротивление», Керн «приказал сжечь селения и хлеб как находившийся на полях и в копнах, так и приготовленный к перевозке»215.
Русская политика в отношении забалканских мусульман и христиан
В то время как русская армия готовилась к переходу Балкан, новый главнокомандующий должен был определить свою политику в отношении населения забалканского региона, как мусульманского, так и христианского. В апреле 1829 года Дибич сообщил Николаю I сведения об османской мобилизации. Помимо подтверждения подкреплений из Боснии и Албании, он писал, что в Румелии формируется «род ополчения из всех людей, могущих носить оружие». Хотя Дибич скептически относился к слухам о том, что «воинственный дух самой столицы соответствует ожиданиям султана», он признавал, что «турки вооружаются весьма деятельно и довольно успешно»216. Будучи озабочен масштабом предстоящего ему предприятия, новый главнокомандующий искал способа пополнить те ограниченные силы, которыми располагал, и потому поднял вопрос о вооружении христианского населения.
Несмотря на изначальное решение не использовать христианских волонтеров, проекты создания такой силы начали появляться сразу же после начала военных действий217. Наиболее амбициозный из таких проектов был составлен будущим градоначальником Измаила генерал-майором С. А. Тучковым, который был назначен военным губернатором Бабадагской области после перехода русскими войсками Дуная. Проект Тучкова предполагал создание болгарского земского войска, которое должно было мало чем отличаться от настоящей армии. План Тучкова, так же как и идея вовлечения в войну Сербии, были отвергнуты, однако командующий 6‑м корпусом Л. О. Рот и командующий русской бригадой в Малой Валахии Ф. К. Гейсмар добились разрешения царя на создание небольших отрядов христианских волонтеров. Пандуры Малой Валахии дополнили немногочисленных солдат Гейсмара и помогли ему разбить значительно превосходящие османские силы при Бэйлешть. Одновременно под руководством военного коменданта Варны генерал-адъютанта Е. А. Головина были сформированы отряды из 20 или 30 болгарских волонтеров, «которые, своим знакомством с местностью, языком и обычаями страны, часто приносили нашим войскам большую пользу»218.
В мае 1829 года Черноморский флот под командованием вице-адмирала А. С. Грейга помог русским войскам захватить Созополь – первый город к югу от Балканского хребта. Дибич воспользовался этим моментом, чтобы снова поставить перед Николаем I вопрос о христианских волонтерах. Главнокомандующий подчеркивал, что «всегда старался устранить всякое революционное движение» из своих планов ведения войны против Османской империи. Однако в данном случае речь шла о «народе, имеющем общую с нами религию, общее происхождение и наречие», который «без всякого возбуждения с нашей стороны не может уже более переносить ярмо беспримерного притеснения и восстает не столько против самаго правительства турецкаго, сколько против своих угнетателей». Под последними Дибич, по-видимому, подразумевал османских нотаблей (аянов). Он отмечал, что по приближении русских войск эти жители не имели «инаго выбора, как по приказанию своих тиранов, бросать и жилища, и поля и переселяться, навстречу верной смерти, в места разоренные, или же сопротивляться этому переселению, – чего нельзя сделать иначе как с оружием в руках». По мнению Дибича, в этой ситуации было «бесчувственным» оставлять без оружия и боеприпасов православных единоверцев, «людей спокойных и покорных до крайности»219.
Дибич просил у царя позволения «решительным образом воспользоваться настроением болгар» после перехода русской армии через Балканы. Поскольку Николай I, объявляя войну, публично отмежевался от каких-либо территориальных приращений или изменений во внутренней организации Османской империи, главнокомандующий предлагал заблаговременно определить место для поселения тех десятков тысяч болгарских семей, которым придется покинуть Европейскую Турцию после вывода русских войск. По мнению Дибича, наилучшими с этой точки зрения местами были земли в Екатеринославской и Таврической губерниях, а также территория между нижним Дунаем и Траяновым валом220. Царь предвидел сложности в обеспечении полуавтономного положения для этих земель, однако принял остальные предложения Дибича, что в итоге привело к переселению около 50 000 болгар в Бессарабию и Новороссию221.
Поражение армии великого визиря под Кулевчей в конце мая 1829 года и взятие Силистрии в середине июня предоставили Дибичу возможность собрать основные силы для перехода через Балканы в следующем месяце (см. ил. 3). Отношения между местным населением Румелии и вступившей в нее русской армией существенно отличались от тех, что имели место год назад между русскими войсками и жителями Дунайской Болгарии. Пересекший Балканы вслед за основными силами А. O. Дюгамель наблюдал, как мусульманское и христианское население «спокойно, как в самое мирное время занималось полевыми работами». Такое мирное и спокойное настроение было, по мнению Дюгамеля, следствием «исключительной дисциплины русских войск». Османы явно не ожидали, что русские смогут перейти Балканы, представлявшиеся им непреодолимыми. В результате османские власти не успели или не смогли принять меры по эвакуации населения, как это было в Дунайской Болгарии. В то же время Дюгамель находил, что такие меры было бы трудно осуществить в Румелии, где «все население и нравы были исключительно миролюбивы» и где оно «с полнейшим равнодушием взирало на все события: ему было безразлично кто выйдет победителем из войны, которая потрясала основы Оттоманской империи»222.
Несмотря на то что оценка Дюгамелем различия между кампаниями 1828 и 1829 годов носила несколько импрессионистический характер, она была недалека от истины. Дибич приложил немало усилий, чтобы наладить отношения между армией и местным населением. Его начальник штаба Толь дал соответствующие указания дивизионным и полковым командирам. Так, полковник М. А. Тиман Санкт-Петербургского уланского полка получил приказ «обласкать сколько возможно» жителей деревни Фундукли, которую он должен был занять и «уверить их в совершенном покровительстве Российского правительства с тем, чтобы они остались на местах и занимались работами домашними и не разбойничали». Толь напоминал Тиману, что казаки, назначаемые им для занятия селения, «не должны ни под каким видом причинять никому из обывателей нисколько вреда и обид… ибо сим одним только средством можно привлечь их оставаться спокойно на своих местах»223. Подобные же инструкции получил и генерал-майор К. Л. Монтрезор, который с двумя кавалерийскими полками должен был занять Русокастро. Монтрезору предписывалось привлечь жителей на сторону России, убеждая их, что «мирные и безоружные поселяне отнюдь не принимаются нами за врага и что Высшее начальство готово напротив оказать им всякое покровительство лишь бы они продолжали спокойно свои земледельческие и торговые занятия»224.
Заверения в защите были частью психологической кампании, которой следовало российское командование, дабы извлечь максимальные выгоды из недавней победы. Так, генерал-майор Терентьев, занявший Сливно и Ямболь со своей уланской бригадой, получил указание распространять среди жителей слухи, что османская армия была везде разбита, потеряла артиллерию и находится в крайнем положении, не будучи способной даже помышлять о том, чтобы снова бросить вызов русским войскам. Как и Монтрезор, Терентьев должен был обещать местным жителям высочайшее покровительство и убедить их, что русские ведут войну только против султана, но не против невооруженных обывателей. Терентьев должен был уговорить жителей остаться в своих домах и убедить их, что русские солдаты не только не причинят им никакого насилия, но и уберегут от остатков османских войск, которые были расстроены, утратили дисциплину и бродили по округе шайками, не зная, куда податься, дабы избежать полного уничтожения225.
В начале июля Дибич докладывал Николаю I, что благодаря быстроте его продвижения «греки и болгары, живущие в селениях той части Балканов, которая уже занята нашими войсками, остались на месте, [и] приняли победителей с величайшей радостью». Дибич также уведомил царя о своем указании подчиненным, чтобы они щадили частную собственность и «платили наличными деньгами за все»226. Однако действительность не была так безоблачна. Как и в случае с кампанией 1828 года, местные жители часто убегали при приближении русских войск. Так, уже упоминавшийся полковник Тиман докладывал Толю, что разъезды, отправленные для занятия деревень Борунджик и Орорман, застали там лишь горсть болгар. Последние уверяли, что «все жители турки их селений, даже большая часть невооруженных от испугу уходят и бежат через Ямболь в Адрианополь»227. При занятии Русокастро кавалеристами генерала Монтрезора его непосредственный начальник генерал-лейтенант П. П. Пален докладывал Дибичу, что, по свидетельству местного жителя, значительная часть турок из Бургаса прошла через их город, направляясь в Ямболь и Фундукли и испытывая большую нужду в еде228.
Многие болгарские селения также были пусты, хотя и по другим причинам. Согласно уже упоминавшемуся донесению Палена, болгары Русокастро оставили город еще осенью 1828 года «от притеснений, делаемых им Турками, и с тех пор скрываются по лесам, однако же надеются, что теперь они возвратятся в свои жилища». Болгарские жители из окрестностей Сливно были загнаны в горы османскими войсками, как и во время прошлых войн229. Другие донесения подтверждали пророссийские симпатии христианского населения, которое жаловалось на жестокости османских войск или мусульманского населения накануне занятия населенного пункта русскими войсками. Так, командующий 7‑м корпусом генерал-лейтенант Ридигер докладывал из Карнобата, что «местечко совершенно разорено» и что «неистовства, которые делали здесь турки при отступлении неимоверны и потому жители питают справедливую злобу к ним и приняли нас как избавителей»230.
После занятия Айдоса основными силами своей армии сам Дибич докладывал Николаю I, что бегущий неприятель разрушил православные церкви, «когда мечети его сохранены нами в совершенной целостности; разграбил тех жителей, которые не успели удалиться, когда у нас они находили покров и защиту ибо на другой уже день после нашего прибытия видны были возвращающиеся жители с навьюченными арбами из гор и лесов в дома свои стекающие». Главнокомандующий отмечал, что не всегда возможно было плотно преследовать отступавшие османские войска и мешать им разорять города и селения. Тем не менее встреча жителями Карнобата русских казаков давала Дибичу надежду, что «жители соберутся в дома свои и жатва, которая отчасти уже сделана и остается еще окончить, будет собрана сими жителями и доставит нам способы иметь изобильное в зимних квартирах продовольствие»231.
Для решения этого и других вопросов Дибич возлагал местное управление на епископов «и прочие духовные власти»232. В то время как большинство христианских жителей оставались на местах, хотя и находились «в величайшей нищете», «турки, за немногими исключениями, все уходят»233. Чтобы остановить этот процесс и успокоить мусульманских жителей Румелии, Дибич обратился к ним с особой прокламацией, выражая свое желание «предупредить их разорение, которое неминуемо, если испуганные прибытием войск, они последуют пагубному намерению оставлять свои жилища и покидать селения и города»234. Главнокомандующий приглашал всех мусульманских жителей городов, местечек и сел «спокойно остаться в их жилищах с женами и детьми, имением и собственностью», обязуя их только «выдать все оружие для складки их [в] верное место где будет сделана подробная опись дабы возвратить их в точности по заключении мира».
Прокламация особым образом гарантировала мусульманам полную свободу «в исповедании веры Магометанской». Под началом своих имамов они будут «молиться пять раз в день в урочные часы и по пятницам, в коих молитвах как прежде будут читать хутбе, во имя Султана Махмуда, их падишаха и Калифа, ибо само собой понимается, что Мусульмане продолжающие жить в областях занятых войсками русскими, чрез то не обязаны сделаться подданными России, но остаются, как и в прежнем времени, подданными султана»235. Все аяны, кадии и прочие местные власти приглашались оставаться на своих местах и продолжать исполнять свои обязанности, «дабы блюсти и сохранять благосостояние мусульман». Все их дела должны были разбираться в соответствии с местными законами и без вмешательства российских властей. Жителям предлагалось собрать урожай и продать весь ненужный избыток российским войскам. Российское командование требовало передать под его контроль всю собственность османского правительства, но гарантировало неприкосновенность частной собственности. Объявлялось также, что «русские солдаты не займут ни единого дома, обитаемого мусульманами, и наистрожайшие меры будут приняты для охранения Магометанских жителей с их женами и детьми от малейшей обиды или притеснения со стороны войск»236.
Прокламация, по-видимому, возымела действие, поскольку через несколько дней Пален докладывал Дибичу, что жители деревень Кайбелар, Карабунар и Юмюркиой вышли из окрестных лесов, сложили оружие и получили охранные листы от генерала Монтрезора. В первых двух деревнях муллы «в удовольствие миролюбивого их к нам расположения дали подписку»237. Сходным образом командующий 6‑м корпусом генерал-лейтенант Рот докладывал, что старейшины трех деревень (Хаджи Меглеси, Касыклар и Каир Меглеси) обратились в городе Ченги к его подчиненному генерал-майору M. T. Завадовскому с просьбой выдать им охранные листы и взамен сложили оружие. Сам Ченги был пуст, однако его жители стали возвращаться вскоре после занятия города отрядом Завадовского. Многие болгары, укрывавшиеся до тех пор в горах, попросили у русского генерала разрешения вернуться в свои деревни в окрестностях Правод238. Примерно в то же время Дибич сообщал Николаю I о полном спокойствии на южном склоне Балкан: «все болгарские деревни и большая часть турецких снова населились; последние выдали свое оружие и предоставили аманатов»239.
Русскому главнокомандующему также удалось сдержать межконфессиональное насилие в Сливно. «Благодаря отличному духу наших войск, – писал Дибич, – не произошло ни малейших беспорядков, хотя город взят был в штыки». По его свидетельству, местные болгары «сидели по домам запершись», пока турки не обратились в бегство, после чего «все мужчины, женщины и дети вышли и встретили наших молодцев хлебом и солью». Значительная часть мусульманских жителей также предпочла остаться «и по-видимому успокоилась насчет нашего поведения». Хотя «болгаре начали было мстить туркам за их притеснения», начальник дипломатической канцелярии Дибича П. А. Фонтон «сумел тотчас же образумить их». Во время пребывания в Сливно Дибич стремился убедить многих местных оружейников переселиться в Россию в соответствии с планом, который он ранее предлагал Николаю I, хотя и не слишком надеялся на успех, принимая во внимание привязанность местных болгар к своей земле, которая была «в высшей степени прекрасна»240.
Болгары часто жаловались на «турецких разбойников», по-видимому, дезертиров из турецкой армии. В ответ корпусные командиры Дибича Ф. В. Ридигер и П. П. Пален попросили разрешения вооружить болгар241. Дибич согласился на предлагаемые меры с тем условием, чтобы болгары выбрали старшин, которые должны были отвечать за порядок среди своих подчиненных. Главнокомандующий подчеркнул, что болгарам позволялось вооружиться «единственно только для защиты от турок собственности своей, и отнюдь ничего более не предпринимать»242. Предполагалось вооружить волонтеров оружием, сданным мусульманскими жителями, которые должны были получить за него соответствующую компенсацию243. Дибич также просил у царя позволения придать болгарских волонтеров тем русским полкам, которые понесли особенно тяжелые потери из‑за болезней, и использовать их «подобно тому, как в 1812 году мы употребляли петербургское ополчение». Главнокомандующий предполагал это только как крайнюю меру на случай, если упорство султана сделает необходимой третью кампанию244.
Вскоре 400 болгарских волонтеров присоединились к бригаде генерала Монтрезора, которая после выступления основных сил к Адрианополю должна была оставаться в Айдосе и обеспечивать безопасность жителей. Монтрезору предписывалось «стараться приласкать болгар сих, внушить им доверенность к русским и отнюдь не употреблять как регулярное войско»245. Поставленный под начальство генерал-губернатора северо-восточной Румелии Головина Монтрезор должен был создать волонтерские отряды в Сливно и Карнобате или Айдосе, «предназначенные единственно для обороны их собственного имущества»246. Во главе этих отрядов Монтрезор должен был «действовать на Ямболь, Сливно и Казан… дабы предупредить на всех пунктах соединение каких либо сил неприятельских»247.
Узнав об одном таком сборище на дороге между Казаном и Шумлой, Монтрезор направил отряд казаков под командованием полковника Лысенко, по прибытии которых в деревню Авайнар турки быстро сложили оружие и испросили защиты своей собственности. Продвинувшись далее, казаки нашли прятавшихся в недоступных ущельях турецких жителей, которые не проявляли враждебности. Этот случай убедил Монтрезора, что «проживающие в селениях турки вовсе не расположены обороняться против силы русского оружия, а оказываются только в отдаленных селениях от мнимой боязни». По донесению Монтрезора, большая часть жителей на пространстве вверенного ему отряда «положили свое оружие и пользуются спокойным владением своего имущества… без малейшего восстания»248.
На самом деле у Монтрезора было больше проблем с болгарскими волонтерами. Генерал утверждал, что эти люди, «будучи одушевлены одной жадностью добычи, нередко вступают в сию службу, лишь бы получить ружье и пару пистолетов, а там скрываются только что и старшина долженствующий отвечать за него уже сам отыскать не может»249. Вскоре Монтрезор испрашивал позволения не вооружать более болгарских волонтеров, которые «малыми партиями нападают в горах на турецкие селения, грабят их и тем причиняют некоторые беспокойства»250. Как и следовало ожидать, мусульмане не замедлили отомстить, и в конце августа Монтрезор сообщал об атаке 500 разбойников на деревню Еризар, где были убиты 28 местных болгар251. Дибич согласился с этим предложением и приказал Монтрезору держать болгарских волонтеров «при русской пехоте и никогда одних, дабы иметь их, так сказать на глазах», а также «стараться ласкою и снисхождением как-нибудь удержать их при отряде»252.
Управление межконфессиональными отношениями после войны
Тем временем основные силы русской армии продвигались дальше и 8 августа 1829 года вошли в Адрианополь. Психологический эффект первого перехода русских войск через Балканы был, по-видимому, столь велик, что вторая столица Османской империи сдалась без боя: ни десятитысячный гарнизон, ни 40 000 мусульманских жителей Адрианополя не оказали сопротивления (см. ил. 2). Согласно условиям капитуляции, османские войска должны были сложить оружие и знамена, после чего были вольны идти куда вздумается. Жителей-мусульман российское командование призывало спокойно оставаться в своих жилищах на тех же условиях, что были оговорены в цитировавшейся выше прокламации Дибича к мусульманскому населению Румелии. Они также были вольны покинуть город со своими семьями при условии сдачи оружия253. В своем донесении Николаю I Дибич заявлял:



