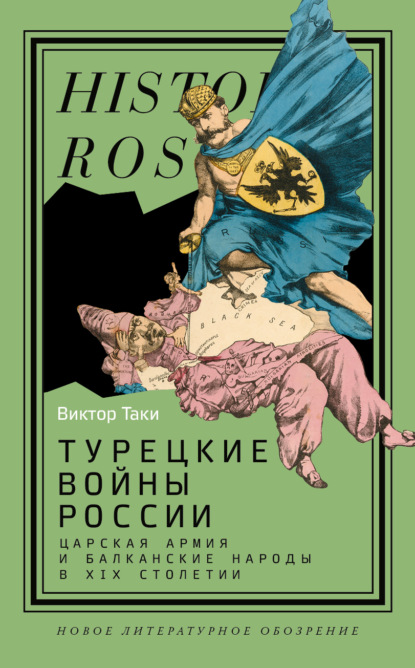
Полная версия:
Турецкие войны России. Царская армия и балканские народы в XIX столетии
Рассуждения Давыдова представляли собой яркий пример военного ориентализма, то есть дискурса, в котором стили и практики ведения боевых действий различных неевропейских народов сливались в один «азиатский» тип ведения войны, который описывался как прямая противоположность войны европейского типа129. Очевидно восхищение Давыдова свирепыми, примитивными и экзотическими восточными воинами, так сильно отличавшимися от регулярных, дисциплинированных и одетых в стандартную униформу европейских солдат. Оно свидетельствует о том, что ориентализм как стиль мышления, основанный на бинарных оппозициях между Востоком и Западом, нашел свое выражение не только в произведениях поэтов, писателей и философов, но и в трудах военных130. Давыдов не только четко артикулировал эти контрасты, но и отразил центральную тему специфически русского варианта ориентализма, а именно тезис об особом отношении России к Азии131. За несколько лет до публикации его труда этот тезис был высказан президентом Российской академии наук и будущим министром народного просвещения С. С. Уваровым в его проекте создания Азиатской академии132. Евразийская география России была принципиально важным фактором как для Уварова, так и для Давыдова, и в то же время их утверждения несколько отличались друг от друга. В то время как для Уварова географическое положение России было предпосылкой для развития востоковедения, в рассуждении Давыдова оно уже обеспечило военное превосходство России над европейскими державами, поскольку ни одна из них не обладала одновременно и регулярной армией, и нерегулярной кавалерией «азиатского» типа.
Хорошо известная географическая протяженность России составляла другое ее преимущество перед европейскими нациями в эпоху, когда война перестала быть поединком между полководцами и не сводилась более к бесконечному маневрированию относительно небольших армий или осаде крепостей. Ныне, отмечал Давыдов, «народ или народы восстают против народа; границы поглощаются приливом несметных ополчений и военные действия силою или искусством немедленно переносятся в ту или другую враждующую область». В этих условиях традиционная слабость России, заключавшаяся в ее протяженных и труднозащитимых границах, более чем компенсировалась ее широтой и глубиной, о чем свидетельствовало поражение наполеоновской армии в 1812 году133. Размеры страны сильно затрудняли снабжение вторгающейся армии. Низкая плотность населения и готовность жителей разорить свои собственные жилища и уйти в леса лишали агрессора доступа к местным ресурсам, в то время как «наглые и неутомимые наезды легких войск» прерывали подвоз продовольствия издалека134. Давыдову было хорошо известно неоднозначное отношение многих русских офицеров к партизанской войне и стратегии отступления вглубь страны. Он признавал, что такая стратегия была очень затратной, но настаивал на том, что потеря собственности предпочтительнее потери чести и независимости135.
Хотя Давыдов принимал участие в Русско-турецкой войне 1806–1812 годов, его мышление определялось прежде всего опытом Отечественной войны 1812 года и потому может показаться малоприменимым по отношению к «турецким кампаниям». В конце концов русско-османское противостояние проходило на южных окраинах и представляло собой серию наступательных войн со стороны России, в то время как Давыдова интересовала прежде всего оборонительная война против большой европейской армии, вторгающейся вглубь России. В то же время некоторые аспекты теории Давыдова впоследствии оказались применимы к партизанской войне против османов. Во-первых, Давыдов рассматривал партизанскую войну как часть общего действия армии. Значительная часть его «Опыта» была посвящена принципам координации действий регулярных войск и партизанских казацких групп, исходя из которых перемещение последних должно было определяться геометрической фигурой, составленной фронтом противостояния регулярных сил и основанием вражеской армии. Войны России с османами также состояли из действий регулярной армии и нерегулярных частей, чьи действия необходимо было координировать подобно тому, как это имело место в России в 1812 году. В этом отношении первая Отечественная война и «турецкие кампании» существенно отличались от испанской герильи 1809–1813 годов, в ходе которой вооруженные группы герильясов представляли единственную силу сопротивления французам после неудач регулярной испанской армии.
Замечания Давыдова касательно отношений партизанских групп и местного населения оказались еще более релевантными в контексте последующих русско-турецких войн. Прежде всего для Давыдова, так же как и для других российских военных авторов XIX столетия, партизанское действие отличалось от «народной войны». По мнению Давыдова, оптимальный партизанский отряд состоял из офицера регулярной армии и казаков, то есть нерегулярных воинов, которые отличались как от строевых частей, так и от местного населения территорий, составлявших театр боевых действий. Хотя Давыдов включил герилью в свой краткий обзор истории партизанской войны, он видел в герильясах «более народ восставший на отмщение, нежели в полном смысле партизанов»136.
Далее, Давыдов настаивал на том, что командир партизан не мог рассчитывать на неизменную поддержку населения даже в случае оборонительной войны на национальной территории. «Страх в жителях, причиненный опустошительным походом наступательной армии… поощрение, даваемое ею лазутчикам, поставщикам всякого рода продовольствия и подстрекателям на все вредное для оборонительной армии» могли привести к тому, что «вся занимаемая неприятелем область готова будет и снабжать армию его военными потребностями и даже усиливать ее своими ратниками». Партизанское действие должно было предотвратить такое развитие событий, «предоставляя обывателям точку соединения и цель, выгоднейшую для любочестия и корыстолюбия той, которая обещаема неприятелем». По мнению Давыдова, первым шагом к этому был захват партизанами «транспорта с хлебом, с одеждою и часто с казною», после чего «народ хлынет к куреням наездников и затолпиться под их знаменами»137.
То, что было применительно к оборонительной войне внутри России, было еще более верным в отношении наступательных войн в Европейской Турции, где русские войска не всегда могли рассчитывать на спонтанную поддержку даже со стороны единоверцев, о чем свидетельствуют цитированные выше донесения П. А. Румянцева. В то же время инструмент обеспечения такой поддержки – отряды волонтеров, создававшиеся в ходе русско-турецких войн конца XVIII – начала XIX века, – были подобны давыдовским партизанам 1812 года в том смысле, что волонтеры, так же как и казаки, отличались от массы местного населения как с социальной, так порой и с этнической точки зрения. Это делало теорию партизанского действия Давыдова применимой за пределами породившего ее контекста Отечественной войны.
Спустя пять лет после выхода давыдовского «Опыта» тема партизанской войны в Европейской Турции была поднята А. Н. Пушкиным во «Взгляде на военное состояние Турецкой империи»138. Работа Пушкина демонстрирует, как теория партизанского действия в оборонительной войне на русской земле могла быть применена к «турецким кампаниям» несмотря на их периферийный и наступательный характер. Достаточно было вынести за скобки пять столетий османского присутствия в Юго-Восточной Европе и рассматривать османов не как народ, «но войско, твердо расположенное в Европе», следуя знаменитому определению Франсуа де Тотта в его «Записках о турках и татарах» (1784)139. Пушкин утверждал, что османы «все суть янычары» и «иноплеменные солдаты», держащие «истинных обитателей Турции», греков и болгар, «под военным управлением». В этой ситуации наступательные войны России против Османской империи представляли собой не завоевание другой страны, а скорее попытку «победить и изгнать турок… из Европы»140. Чтобы достичь этой цели, Пушкин, как и Давыдов, рекомендовал действовать посредством летучих отрядов на флангах и в тылу противника, дабы пресекать его коммуникации и пути подвоза продовольствия и фуража. Он также советовал следовать тактике герцога Веллингтона против французов в Испании и «превращать в пустыни те страны, по коим надлежит наступательно проходить Оттоманской силе»141.
В то же время сочинение Пушкина выявило пределы применимости давыдовской теории партизанского действия к Европейской Турции. Сам Давыдов признавал, что казаки уступали тем самым азиатским наездникам, у которых они переняли качества, определявшие их собственное превосходство над европейской легкой кавалерией. Это обстоятельство не составляло проблемы до тех пор, пока русская армия имела дело с европейским агрессором. Однако преимущество России превращалось в недостаток, как только русская армия вступала в противоборство с османами, которые, по признанию Пушкина, сами были весьма способны к ведению малой войны. Он даже приводил слова знаменитого швейцарского военного теоретика на русской службе Генриха Жомини, который утверждал, что «[т]урецкие войска наносят почти такой же вред русским, какой казаки прочим европейцам»142.
Решить эту проблему, по мнению Пушкина, можно было путем сочетания партизанской войны в стиле Давыдова с народным восстанием. Если османы превосходили русских в малой войне, «причиной сему может служить недостаточное внимание к природным жителям, христианам». Соответственно, надлежало «их самих вооружить и подвинуть к народной войне»143. Помимо нарушения османских коммуникаций и уничтожения запасов продовольствия и фуража, русские партизаны «воспламенят мужеством коренных жителей, сих изнуренных невольников военным деспотизмом Оттоманским». Ободренные летучими отрядами, составленными преимущественно из драгун и конных егерей, христиане Европейской Турции «могут в разных краях государства восстать и быть опасны для своих властелинов»144. Рассуждения Пушкина, таким образом, демонстрировали, что партизанское действие не ограничивалось оборонительной войной, в которой партизаны нарушали вражеские коммуникации и препятствовали агрессору снабжать свои войска на оккупированной ими территории. В отличие от Давыдова, Пушкин рассматривал партизанское действие как часть наступательной войны, в которой его целью было провоцирование народного восстания в тылу врага.
В то же время, несмотря на различие географического фокуса, у Давыдова и Пушкина было несколько общих допущений, определявших раннюю теоретизацию роли народа в войне. Для них, как и для других военных авторов Александровской и Николаевской эпох, партизанское действие и «народная война» представляли собой два различных, хотя и взаимосвязанных типа войны. Партизанами становились регулярные и нерегулярные солдаты, ведущие «малую войну» в тылу вражеской армии под командованием офицеров, назначенных из регулярных частей. Напротив, «народная война» была, по сути, народным восстанием против агрессора или оккупанта, в ходе которого сами жители брались за оружие под действием религиозных или патриотических чувств. И хотя Пушкин предлагал использовать партизанские отряды для провоцирования народного восстания в тылу османской армии, большинство русских военных постнаполеоновской эпохи не были готовы последовать за ним по этому пути.
Русская армия и Османская империя в период Греческого восстания 1820‑х годов
Контрреволюционные настроения Александра I не позволили ему объявить войну государю, которому бросили вызов греческие революционеры, несмотря на то что государь этот был османским султаном, а революционеры – православными единоверцами. Однако отчаянная борьба греческих повстанцев на протяжении 1820‑х годов занимала русских военных, которые, несмотря ни на что, полагали новую войну с Турцией неизбежной. Семь лет, разделявших начало Греческого восстания и объявление войны Николаем I в апреле 1828 года, впервые предоставили российскому командованию стимул и возможность подготовить план будущей кампании145. В ходе этой подготовки они пересмотрели опыт предыдущих русско-турецких войн и попытались систематизировать свои сведения о Европейской Турции.
В частности, Генеральный штаб извлек из своих архивов и опубликовал военно-топографические описания дорог в Европейской Турции, основанные на данных, собранных полковником Федором Леном, участвовавшим в чрезвычайном посольстве М. И. Кутузова в Константинополь в 1793–1794 годах146. Эти публикации еще не содержали систематической статистики населения Дунайской Болгарии и Румелии. Не было в них и точных данных о количестве христианских и мусульманских жителей в городах и селениях, располагавшихся вдоль описываемых дорог. Полковника Лена, очевидно, больше интересовали физические характеристики дорог и местности, через которые они проходили, ширина и глубина рек, а также состояние османских крепостей. Местное население фигурировало в его обозрении в той степени, в какой его плотность или скудность определяла обилие или скудность провизии и фуража, на которые русская армия могла рассчитывать. В то же время Лен называл отдельные деревни вдоль двух дорог, которые он описал, «греческими», «болгарскими», «турецкими» или «татарскими». Он также указывал количество домов в некоторых селениях. Только однажды он упомянул о 30 000–50 000 «трудолюбивых… Булгарских христиан, преданных России», проживавших между Айдосом и Бургасом, и заметил, что десятитысячный русский корпус «достаточен бы был возмутить всех сих жителей противу турок, их угнетающих»147. В целом данные, содержавшиеся в этих военно-топографических описаниях, были явно неполными и по крайней мере частично устарели за три десятилетия, прошедшие со времени кутузовского посольства148.
Одновременно начальник штаба 2‑й армии П. Д. Киселев курировал усилия нескольких своих подчиненных по сбору и анализу архивных материалов о прошлых русско-турецких войнах с целью выработки наилучшей стратегии. Уже в 1819 году Киселев составил записку, в которой отмечал, что, несмотря на частые войны с Османской империей, территории Европейской Турции оставались малоизвестными и что отсутствие надежных сведений затрудняло продвижение русской армии в ходе войны 1806–1812 годов149. Чтобы восполнить этот недостаток, Киселев предлагал отправить офицера-квартирмейстера греческого или молдавского происхождения с торговыми караванами, отправлявшимися из Ясс и Бухареста в Константинополь. Он также предлагал включить в состав русской миссии в османской столице военного агента и увеличить число русских консулов в Европейской Турции. Записка Киселева послужила основанием для миссии полковника Ф. Ф. Берга семь лет спустя.
Интерес Киселева к истории прошлых русско-турецких войн заслужил одобрение со стороны генерал-интенданта русской армии в 1812–1815 годах генерал-лейтенанта Е. Ф. Канкрина. Несмотря на то что Канкрину не приходилось воевать против турок, он также отметил, что у самих ветеранов «турецких кампаний» не было четкого представления о том, как с ними сражаться. В частном письме Киселеву Канкрин отметил изменение в характере русско-турецких войн. Если ранние конфликты между Россией и Османской империей были столкновением двух «милиций», реформы Петра Великого обратили одну из этих милиций в регулярную армию европейского образца. Одновременно театр этих войн переместился из северопричерноморских степей в «полуобразованный» край Европейской Турции. Канкрин подчеркнул важность составления описаний этого театра военных действий и морального состояния османской милиции – «тимариотов, вербованных арнаутов (союзных), прежде татар, курдов и проч., настоящей милиции, привозимой воинскими головами (пашами) наиболее из Азии»150.
Когда началась греческая борьба за независимость, Канкрин составил записку о характере предстоящей войны и вероятной реакции османских войск и мусульманского населения на появление русской армии на южном склоне Балкан. Помимо военно-статистической информации, собранной во время посольства Кутузова в Константинополь, Канкрин опирался на данные, предоставленные полковником Бергом и генерал-майором И. Ф. Богдановичем, которые участвовали в демаркации новой русско-османской границы на южном Дунае в 1816–1817 годах. Эти данные убедили Канкрина в том, что пересечение Балкан русскими войсками и их вступление в Румелию вызовут «народную войну». Канкрин предполагал, что некоторые турки из числа сельских жителей «уйдут в леса и горы и сделаются опасными». Другие будут защищаться в крепостях и прочих укреплениях, замедляя продвижение русских войск. «Лучшие турки» соберутся в Адрианополе или Константинополе. Наконец, некоторые останутся в своих жилищах, чтобы защищать свои семьи, в особенности в местах, удаленных от театра боевых действий151.
Поскольку турки составляли две трети населения многих румелийских городов, Канкрин не советовал их осаждать или даже блокировать без крайней необходимости. Вместо этого командиры российских частей должны были стараться взять у них заложников (аманатов). Канкрин также не советовал провоцировать греков к восстанию в областях с многочисленным турецким населением и не размещать российские войска в домах местных жителей. Необходимо было «обезоружить турков, успокаивая их прокламациями» и «ласкать… всех, что веру, собственность и гаремы не будут трогать». Наконец, Канкрин советовал «почитать класс улемов, который почти один имеет твердой собственности в Турции»152.
Наряду с этими мерами необходимо было создать органы временного управления. По мнению Канкрина, греков должны были представлять в них духовенство и старейшины. В отношении же мусульман надо было действовать посредством кадиев (судей) и городских нотаблей (аянов), составляя из них диван в главном городе каждой занятой области (санджака). Канкрин также советовал «не смешивать управления над греками и турками». Он признавал, что дело это «не обещает скорейших успехов», однако надеялся, что «многие места примут роль нейтралитета»153.
Хотя захват Константинополя так и не стал конечной целью войны, военные советники Александра I и Николая I не могли не подумать о том, что делать, когда русская армия подойдет к османской столице. Канкрин предвидел, что в Константинополе соберется «огромная сила отчаявшихся жителей и беглецов». Вот почему российскому главнокомандующему следовало бы не пытаться с ходу взять османскую столицу, дабы «не довести до крайности» эту разношерстную массу, но дать им несколько дней на уход в Азию и только потом брать город154. В этом отношении предложение Канкрина совпадало с мнением известного военного автора того периода полковника Д. П. Бутурлина, который предостерегал будущего русского главнокомандующего от намерения штурмовать Константинополь155. По мнению Бутурлина, многочисленное население османской столицы в случае продвижения к ней русской армии пополнилось бы большей частью населения Румелии. «В порыве отчаяния», писал Бутурлин, они могли оказать столь сильное сопротивление, что русская армия рисковала бы «потерять всю свою пехоту, не добившись при этом ни малейшего успеха»156.
Отказ Александра I объявить войну Османской империи после разрыва дипломатических отношений в июле 1821 года не способствовал составлению новых записок вплоть до внезапной смерти царя и вступления на престол его младшего брата Николая I в декабре 1825 года. Новый царь последовал совету бывшего русского посланника в Константинополе Г. А. Строганова «следовать строго национальной и религиозной политике» и вознамерился разрешить «восточное дело», которое завещал ему покойный брат157. Это заявление Николая I дало сигнал для возобновления сбора военно-статистических сведений об Османской империи и повлекло новую серию записок относительно наилучшей стратегии на случай новой войны. В некоторых из них рассматривался вопрос отношений русской армии и балканского населения.
Генерал-квартирмейстер Главного штаба П. П. Сухтелен призывал обратить особое внимание «на соблюдение примерной дисциплины». Он также советовал всячески «привлечь жителей к покорности и содействию через снисходительное к ним обращение – не изымая из сего правила самых турков». Сухтелен полагал, что такая обходительность с мусульманским населением будет особенно полезна, принимая во внимание «последние перевороты в Константинополе бывшие», а именно «Счастливое событие» 14 июня 1826 года, заключавшееся в разгроме янычарского корпуса, противившегося военным реформам Махмуда II. С жителями-мусульманами надлежало обращаться так же, как и с христианами, а именно «не только не возбранять им свободное отправление их обрядов, но напротив того, защищать их от малейшего притеснения, возложив точное исполнение правила сего на непосредственную ответственность начальников». Эти принципы необходимо было объявить при занятии русскими войсками Ясс в прокламации «на греческом, турецком и молдаванском»158.
Другой советник Николая I, генерал от инфантерии А. Ф. Ланжерон, отмечал, что строгая дисциплина особенно важна в турецких кампаниях. Будучи ветераном войн 1787–1791 и 1806–1812 годов, Ланжерон предупреждал, что недисциплинированность и мародерство негативно скажутся на способности российской армии пополнять провизию и фураж в Молдавии и Валахии, а грубое обращение с местным населением лишит ее «помощи и содействия» болгар на правом берегу Дуная и даже может «подвигнуть их вооружиться против нас, как случалось в 1809 году»159. Памятуя об опасности отвернуть от России православных единоверцев, Ланжерон одновременно советовал всячески пользоваться их военными качествами. В частности, он советовал поднять на восстание и вооружить сербов, «парализуя силы турок в Видине, Нише и других городах между Дунаем и Боснией» и тем самым прикрывая правый фланг русской армии160.
В остальном план Ланжерона предполагал довольно традиционную «регулярную» войну, направленную на покорение османских придунайских крепостей. Чтобы не ослаблять основную армию выделением отрядов для охраны захваченных крепостей, Ланжерон предлагал «переместить в Россию всех их турецких обитателей», оставив в то же время болгар на своих местах161. Это предложение представляло собой прямую противоположность политике, проводившейся российским командованием во время войны 1806–1812 годов. Во время этой войны турецкому населению захваченных крепостей, как правило, позволяли уйти в Румелию, в то время как отвод русских войск через Дунай на север сопровождался эмиграцией болгарских жителей городов и деревень в Валахию, Молдавию и Бессарабию.
В основном военные советники Александра I и Николая I продолжали описывать население Европейской Турции в самых общих терминах, сколько-нибудь систематически выделяя в нем лишь мусульман, или «турков», и христиан. Однако в этот период появляются и элементы более детального подхода, при котором в рамках этих двух больших конфессиональных категорий выделялись и различные этнические группы. В частности, Ланжерон выделял некрасовцев, донских казаков-старообрядцев, которые ушли в Османскую империю в XVIII веке. По мнению Ланжерона, некрасовцы были наиболее «заклятыми и жестокими» врагами России и потому их большое селение Дунавец в дельте Дуная необходимо было предать огню, уничтожив его жителей162. В свою очередь Сухтелен советовал обращать особое внимание на недавних выходцев из России, а именно крымских татар и запорожских казаков, которые также проживали в низовьях Дуная. Российское командование должно было «стараться привлечь их, обещая покровительство и всякие выгоды и соглашаясь даже дозволить им перейти на левый берег Дуная»163.
Военный разведчик штаба 2‑й армии полковник И. П. Липранди также советовал привлечь запорожцев и некрасовцев на сторону России. Липранди отметил недавнее ослабление обеих групп в результате переселения части некрасовцев на берег Мраморного моря в ходе войны 1806–1812 годов, а также участия как некрасовцев, так и запорожцев в борьбе с греческими повстанцами. Для того чтобы пополнить свои ряды, некрасовцы и запорожцы начали принимать беглых крепостных и дезертиров из русской армии. Липранди полагал возможным воспрепятствовать содействию туркам со стороны этих элементов, «если при переходе наших войск обласкать их, оставить беглецов и военных дезертиров без наказания [и] сохранить (хотя до времени) их варварские права»164. Липранди отмечал и перемену в отношении болгар, которые «стали уже не столь дики, как прежде», в то время как их «предубеждение против правительства нашего изглаживается». Русский военный разведчик утверждал, что «при соблюдении дисциплины в наших войсках, [болгары] не только не оставят жилищ своих, но даже будут содействовать успехам оружия нашего»165.
Временное возобновление дипломатических отношений между Россией и Турцией после подписания Аккерманской конвенции в сентябре 1826 года сопровождалось назначением А. И. Рибопьера русским посланником в Константинополе. Наряду с дипломатами российское Министерство иностранных дел направило в османскую столицу и военную миссию, которую возглавлял уже упоминавшийся полковник Ф. Ф. Берг и которая включала капитана П. А. Тучкова, лейтенанта А. О. Дюгамеля и младшего лейтенанта А. И. Веригина166. Их задачей был сбор военно-статистической информации об Османской империи на случай войны. Наряду c вопросами чисто военной разведки глава Генерального штаба Николая I И. И. Дибич поручил Бергу выяснить, в какой степени можно было ожидать «противного нам усердия» в случае войны, а также определить настроения христианских жителей северных частей Европейской Турции и ресурсы, которыми они располагали167. Зимой 1826–1827 годов члены миссии Берга провели съемку дорог в Румелии, предоставив тем самым российскому командованию важную информацию относительно возможных путей наступления168. Донесения Берга также включали и замечания относительно общего состояния Османской империи, которые несомненно способствовали формированию у Николая I представления о южном соседе, которое сохранится до конца его царствования.



