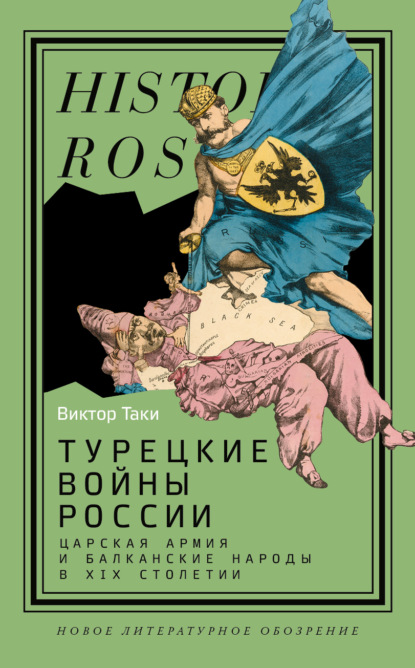
Полная версия:
Турецкие войны России. Царская армия и балканские народы в XIX столетии
Берг критически относился к уничтожению янычарского корпуса и к военным реформам Махмуда II в целом169. В своих донесениях вице-канцлеру К. В. Нессельроде он писал о «всеобщем ужасе», который вызвало это «Счастливое событие», и отмечал уклончивость, с которой турки отвечали на все вопросы, связанные с янычарами, даже имя которых османским подданным было запрещено упоминать170. Тем не менее Берг признавал, что общественное мнение в Турции претерпело значительные изменения со времени революций, которыми было отмечено царствование Селима III (1789–1807). Если первая попытка создания армии европейского образца стоила этому султану жизни, теперь турки демонстрировали готовность поддержать новую армию, ревностно создаваемую Портой, и «видят спасение в том, что двадцать лет назад они упорно отвергали»171.
В то же время Берга не впечатлили первые шаги Махмуда II в деле создания новой армии. Русский военный агент отмечал, что «потребуется два или три поколения прежде, чем новые турецкие войска освоят ученые комбинации и принципы большой стратегии»172. Берг полагал, что в нынешней ситуации османам придется «искать спасения в умелой обороне крепостей»173. Принимая во внимание эту особенность турецкой военной стратегии, Россия должна была избрать стратегию решительного наступления. Поскольку османы будут «избегать генеральных сражений и прибегнут к малой войне», российское командование должно было «задействовать массу войск достаточную для обеспечения успеха по всем направлениям, без того, однако, чтобы концентрировать эту массу войск в одном месте ввиду неизбежных в таком случае трудностей снабжения»174.
Как и некоторые другие современные ему наблюдатели, Берг признавал «упорство, настойчивость и глубокое знание своей страны», которые проявили Махмуд II и его правительство в деле расформирования янычарского корпуса. В то же время русский военный агент отмечал, что организация новой армии была гораздо более трудным делом в силу ряда причин. Во-первых, такая армия не могла приобрести постоянной организации до тех пор, пока гражданская администрации и финансы оставались в их нынешнем состоянии, и до осуществления полномасштабной реформы всех отраслей управления175. Выполнение этой задачи требовало продолжительного периода мира, который можно было обеспечить только ценой больших жертв со стороны правительства. Далее, в своей начальной стадии реформы Махмуда II предполагали разрушение «всего, что составляло силу его подданных». Берг считал, что у янычар «был национальный характер» и при всех своих недостатках они были способны быстро оправляться после понесенного поражения. Напротив, одно-единственное поражение могло положить конец новому войску султана и тем самым на несколько лет отдать его империю «на милость комбинаций европейской политики»176.
Берг также отметил достаточно неосмотрительное решение Махмуда II ввести всеобщий набор для мусульманского населения сразу же после уничтожения янычаров, который «спровоцировал недовольство и довел людей до отчаяния». В отсутствие переписи местные власти были не способны осуществлять этот набор упорядоченным образом. В результате изначальный призыв султана добровольно вступать в новые войска превратился в рекрутчину, которую губернаторы осуществляли, дабы продемонстрировать лояльность султану177. По оценке Берга, ввиду жалкого состояния османских финансов должно смениться как минимум одно поколение, прежде чем Османская империя сможет содержать регулярную армию в 100 000–120 000 солдат178. В целом в своем описании османских военных реформ русский агент акцентировал несовместимость традиционных и современных источников военной мощи, а также опасность потерять первые, не обретя вторые. Из донесений Берга также следует, что он считал население конечной основой военной организации страны и видел в сохранении армией «национального характера» условие успеха военных реформ.
***Когда в контексте Греческого восстания русские военные обратились к опыту своих прошлых столкновений с Османской империей, их представления об отношениях армии и населения были отмечены прежде всего Отечественной войной 1812 года и Наполеоновскими войнами в целом. Эти конфликты убедили их в важности «малой войны» и партизанского действия и в то же время заставили опасаться «народной войны», предполагавшей участие значительной массы населения. Русская военная литература посленаполеоновского времени свидетельствует о том, что царские офицеры отличали партизанские действия от «народной войны». Хотя идея призыва всех балканских христиан на борьбу против османского господства высказывалась некоторыми представителями русского офицерства, российское командование в целом стремилось избежать «народной войны».
Такое отношение преобладало среди русских генералов, составлявших записки для Александра I и Николая I на протяжении 1820‑х годов. Для того чтобы не провоцировать мусульманское население на «народную войну» против России, они указывали на необходимость обратиться к нему с примирительным и обнадеживающим посланием, а также соблюдать строгую дисциплину в войсках. В целом вместо того, чтобы соревноваться с османами в практике угона и переселения жителей, которая оказалась столь разорительной в 1806–1812 годах, царские военные советники предпочитали, чтобы мусульманские и христианские обыватели оставались в своих местах проживания и не принимали участия в боевых действиях. В то же время население, его численность, моральные характеристики и политические настроения начали занимать все большее место в военно-статистической информации, которую собирали русские офицеры в течение 1820‑х годов в ходе подготовки к новой войне с Османской империей. Особенно примечательным было внимание, которое глава русской военной миссии в Константинополе Ф. Ф. Берг уделял политическим настроениям османских мусульман в контексте военных реформ Махмуда II и уничтожения янычарского корпуса. Эти новые соображения российских военных определили действия царского командования в ходе Русско-турецкой войны 1828–1829 годов.
Глава II
Русская армия и население восточных Балкан в 1828–1829 годах
Заключение Аккерманской конвенции в сентябре 1826 года сопровождалось восстановлением русско-османских отношений, разорванных вскоре после начала Греческой войны за независимость. Однако драматические события в Греции вскоре спровоцировали новый разрыв отношений. Уже в 1824 году Махмуд II заручился поддержкой своего египетского вассала Мухаммеда Али, чья созданная по европейскому образцу армия под командованием Ибрагим-паши начала покорять одну за другой греческие крепости, так что к 1827 году османо-египетские силы были близки к полному подавлению восстания. Военные поражения повстанцев компенсировались, однако, их успехами в плане вовлечения в конфликт европейских держав. В марте 1826 года герцог Веллингтон, отправленный в Санкт-Петербург с поздравлениями Николаю I по случаю вступления на трон, подписал Санкт-Петербургский протокол. В этом документе русско-османские противоречия вокруг проливов и Дунайских княжеств фактически отделялись от греческого вопроса, в котором Россия и Великобритания договаривались совместно или по отдельности способствовать примирению Османской империи и повстанцев.
Принцип коллективного посредничества европейских держав в конфликте султана с его греческими подданными, развитый в Лондонском договоре июля 1827 года (к которому присоединились также Франция и Австрия), был отвергнут османским правительством. Вскоре отношения Османской империи и европейских держав были и вовсе разорваны после того, как англо-франко-русская эскадра уничтожила османо-египетский флот в Наваринском заливе, собранный, по слухам, для выселения всего греческого населения Пелопоннеса. В ответ Махмуд II призвал мусульман на священную войну против неверных179. Несмотря на то что Лондонский договор не позволял России действовать односторонне в греческом вопросе, османы предоставляли Николаю I дополнительный повод, разорвав Аккерманскую конвенцию и закрыв проливы для русских торговых судов.
Россия объявила войну 14 апреля 1828 года, после чего 6‑й корпус Л. О. Рота занял Молдавию и Валахию180. Главная операционная линия русской армии проходила через Бессарабию и Добруджу к Шумле, Силистрии и Варне, оставляя княжества в стороне. Поэтому занять их означало отклониться от главной цели для того, чтобы обезопасить местное население от вторжений османских войск со стороны Видина. Бригада Ф. К. Гейсмара, направленная в Малую Валахию, успешно справлялась с этой задачей вплоть до конца войны, в то время как остальная часть 6‑го корпуса присоединилась к основным силам русской армии. Тем временем 7‑й корпус А. Л. Воинова осадил Браилов – самую значительную османскую крепость на левом берегу Дуная. Гарнизону удалось отбить русский штурм в начале июня (см. ил. 11), но османский паша принял решение сдаться, после того как русские войска, переправившись через Дунай, заняли крепость Мэчин, находившуюся на противоположном берегу напротив Браилова, и тем самым лишили его защитников возможности пополнять свои запасы. Захват Мэчина был следствием успешного форсирования Дуная 3‑м корпусом А. Я. Рудзевича близ Сатунова в конце мая 1828 года, после чего русские войска так же быстро заняли Исакчу, Гирсов, Тульчу и продвинулись к Базарджику.
От Базарджика отряд генерал-лейтенанта Павла Сухтелена направился на восток для осады Варны, в то время как основные силы под командованием пожилого фельдмаршала П. Х. Витгенштейна направились за запад и блокировали Шумлу. Однако захват этих твердынь (а также Силистрии, которую осадил Рот) оказался не по силам относительно немногочисленной и растянутой на большие расстояния русской армии, чьи пути снабжения, проходившие через Делиорманский лес, были атакованы мусульманскими партизанами. Только прибытие гвардейского корпуса и Черноморского флота под общим командованием А. С. Меньшикова изменило ситуацию под Варной, которая пала в конце сентября. Варна, однако, была единственным крупным приобретением к югу от Дуная по результатам кампании 1828 года. Пожалуй, главной причиной малоуспешности первой кампании этой войны была малочисленность русских войск на нижнем Дунае (всего 95 000 солдат), причем проблема эта повторялась от войны к войне. Не помогало и присутствие Николая I и его многочисленной свиты в ставке главнокомандующего летом 1828 года, поскольку оно неизбежно подрывало принцип единоначалия.
После критического разбора кампании 1828 года и замены Витгенштейна на более молодого и решительного И. И. Дибича русская армия избрала более смелую стратегию, предполагавшую переход через Балканы и продвижение к Адрианополю и Константинополю. Подготавливая это смелое предприятие, Черноморский флот под командованием адмирала А. С. Грейга захватил Созополь, расположенный к югу от восточной оконечности Балканских гор, и оставил там гарнизон. Затем Грейг блокировал Константинополь с севера, в то время как российская эскадра в Средиземном море под командованием вице-адмирала Л. П. Гейдена препятствовала подвозу зерна в османскую столицу через Эгейское море и Дарданеллы. Между тем неоднократные попытки османов отбить Варну не увенчались успехом и в конце концов предоставили Дибичу шанс разбить основные силы великого визиря под Кулевчей 30 мая 1829 года. Разумно отказавшись от штурма Шумлы, Дибич затем предпринял свой знаменитый бросок через Балканы, заняв Бургас и Айдос в середине июля.
Османы были явно не готовы к такому развитию событий. Ожидая, что русские будут штурмовать Шумлу, они стянули крупные силы в эту твердыню, оставив пространство к югу от Балкан почти без защиты. Несмотря на потерю многих солдат из‑за болезней, Дибич не встретил большого сопротивления, и 8 августа 1829 года его войска без боя заняли Адрианополь. Второй по величине город в Европейской Турции сдался всего через полтора месяца после взятия Эрзерума в восточной Анатолии войсками кавказского корпуса под блестящим командованием И. Ф. Паскевича. Будучи вынуждены сесть за стол переговоров, османы поначалу пытались тянуть время в надежде на англо-австрийское вмешательство. Однако Дибич направил свои передовые отряды к окраинам Константинополя, потребовав заключения мира до начала сентября, угрожая в противном случае пойти на штурм османской столицы. Дибич, очевидно, блефовал, поскольку на его ослабленную болезнями, едва ли двадцатитысячную армию надвигалось с запада сорокатысячное войско шкодерского паши. Однако его блеф сработал: 2 сентября 1829 года османские представители подписали знаменитый Адрианопольский мир.
Таким образом, война 1828–1829 годов ознаменовалась первым переходом русских войск через Балканы и занятием забалканских территорий. В то же время это смелое предприятие, на которое решилось российское командование, не должно скрывать консервативного характера войны, которую вели Николай I и его генералы. Адрианопольский трактат консолидировал российский протекторат над Дунайскими княжествами, укрепил и расширил автономию Сербии и обещал таковую же для Греции, однако оставил значительную часть Европейской Турции без изменений. Консервативный подход царя к определению целей войны и способов их достижения подтверждается и самим объявлением войны в апреле 1828 года. В меморандуме, направленном российским Министерством иностранных дел европейским правительствам, заявлялось, что Россия, объявляя войну Османской империи, «не имеет ненависти к сей Державе, и не умышляет ея разрушения»181. В свою очередь царский манифест об объявлении войны, адресованный населению Российской империи, в качестве ее причин приводил нарушения Портой предыдущих русско-османских договоров и препятствие русской торговле через проливы, но не упоминал греков или балканских единоверцев182.
Одновременно вице-канцлер Нессельроде остудил грекофильские страсти внутри страны, напрямую отвергнув мысль о том, что Россия поднимается на защиту греческих мятежников183. Такие заявления, как и настоятельный совет Николая I сербскому князю Милошу Обреновичу сохранять авторитет, не оставляют сомнений относительно того, что царь представлял эту войну как старорежимное «дело государей», а не борьбу народов. Политика русского командования в ходе этой войны полностью подтверждает это предположение. Хотя российские главнокомандующие и стремились воспользоваться пророссийскими симпатиями отдельных групп балканских единоверцев, принимавшиеся ими меры были направлены на то, чтобы предотвратить «народную войну», а не раскрыть ее разрушительный потенциал.
Русская армия и население Дунайской Болгарии в ходе кампании 1828 года
Переходу русскими войсками Дуная способствовали контакты, установленные с проживавшими в его низовьях запорожцами и некрасовцами. Эти сообщества с XVIII века проживали в дельте Дуная и оказывали ожесточенное сопротивление русским войскам в ходе предыдущих русско-турецких войн. В то время как враждебность староверов-некрасовцев была религиозного характера, отчуждение запорожцев объяснялось разрушением Сечи российскими войсками по приказу Екатерины II в 1775 году. Османские султаны предоставили обеим общинам свободу вероисповедания и освободили от податей, которые платила христианская райя, однако обязали нести военную службу, которую некрасовцы и запорожцы исполняли в качестве вспомогательных отрядов османской армии в войнах 1787–1792 и 1806–1812 годов184. Однако взаимная вражда между православными запорожцами и раскольниками-некрасовцами привела к серии вооруженных столкновений между ними в начале XIX века, что наряду с их участием в борьбе с греческими повстанцами в 1820‑е годы ослабило обе группы.
Ко времени Русско-турецкой войны 1828–1829 годов внутреннее единство некрасовцев и запорожцев подорвали трения между исконными выходцами из Российской империи и теми беглыми крепостными и дезертирами неказацкого происхождения, которые были более склонны вернуться на родину при условии официального помилования со стороны российских властей и признания за ними казацкого статуса185. После объявления помилования в начале 1828 года около 1000 некрасовцев и более 2000 запорожцев под начальством атамана Иосифа Гладкого действительно перешли на российскую сторону и помогли царским войскам форсировать Дунай. Их последующее размещение в Бессарабии в качестве Дунайского казацкого войска и в окрестностях Мелитополя в качестве Азовского казацкого войска может рассматриваться как продолжение российской политики переселения христианского населения с южного на северный берег Дуная, которое осуществлялось в достаточно широком масштабе в ходе войны 1806–1812 годов. Несмотря на то что подавляющее большинство некрасовцев и большинство запорожцев отвергли предложение российских властей, перебежчики ослабили оба сообщества и подорвали их военное значение для османов186.
Переход русскими войсками Дуная вызвал бегство мусульманского населения северной Добруджи. По свидетельству А. О. Дюгамеля, вид этой области теперь разительно отличался от ее довоенного состояния. В 1826–1827 годах Дюгамель четырежды пересекал Дунайскую Болгарию и Балканы в качестве участника военной миссии Ф. Ф. Берга, отправленной для составления военно-топографических описаний дорог в Европейской Турции. Вступив в Добруджу с русскими войсками в 1828 году, Дюгамель увидел безлюдную страну, в которой «царствовала мертвая тишина, нарушаемая заунывным криком голодных собак». По приказу османских властей все мусульманское и христианское население покинуло «многолюдные селения и прекрасно возделанные нивы». По мнению Дюгамеля, «[е]сли Болгария сильно пострадала от войны, если села ее были мало помалу разорены и уничтожены, то все это главным образом следует приписать именно бегству жителей»187.
Обследование 16 деревень в окрестностях некрасовского селения Дунавец в Северной Добрудже выявило, что половина из них, населенная прежде турками и татарами, была ныне совершенно покинута. Из оставшихся восьми два селения запорожцев были также оставлены, а в остальных, населенных болгарами и молдаванами, сохранилось некоторое количество жителей188. Отход населения был организован османскими властями, которые, если верить свидетельству генерал-майора П. Я. Купреянова, понуждали к этому даже пушечными выстрелами189. Как и в 1806–1812 годах, такие меры были частью стратегии «выжженной земли», направленной на то, чтобы лишить русские войска возможности пополнять свои запасы на местах. И Купреянов, и глава III отделения А. Х. Бенкендорф, который сопровождал Николая I во время его пребывания на Дунае, сообщали, что османы портили все родники и колодцы, бросая в них трупы животных или куски мыла. Покинутые селения представляли «наглядный образ опустошения и смерти»190.
Помимо опустошения оставляемых территорий, османы организовали партизанскую войну в тылу российских войск, подступивших к Варне, Шумле и Силистрии. По свидетельству Дюгамеля, «Турки стали беспрестанно нападать на наши отряды. Из-за каждого куста, дерева, камня в нас стреляли, и война с таким невидимым врагом была чрезвычайно утомительна: постоянно приходилось высылать вперед большие отряды для разведывания»191. Сопровождавший Николая I по пути через Делиорманский лес Бенкендорф опасался нападения на коляску государя турецких отрядов, самих болгар и особенно некрасовцев, этих «вор[ов] по ремеслу»192. Полковник Генерального штаба И. П. Липранди считал, что весь Делиорманский лес был наполнен конными турецкими партизанами, «содействуемыми свирепыми жителями онаго», которые препятствовали действию фуражиров и нападали на малые отряды и разъезды. Особенно активными были шайки туртукайских жителей Колчак-оглу и Шираз-оглу, которые «беспрепятственно переносились с одной окрестности на другую, не раз простирая покушения свои на левый берег Дуная». Они также «извещали посредством сигналов из огня о разных наших действиях начальствующим в Шумле и Силистрии и иногда отправляли в эти места нарочных»193.
С самого начала войны российское командование осознавало опасность партизанской войны в области с многочисленным мусульманским населением. После перевода 6‑го корпуса на правый берег Дуная Витгенштейн приказал его командиру Л. О. Роту «употребить все возможные средства к обеспечению совершенно безопасности» жителей: «всякую вещь забираемую у них нашими войсками надлежит оплатить наличными деньгами; всякое нарушение должно быть предупреждаемо и всякая обида наказываемая без упущения»194. Витгенштейн подчеркивал, что Россия объявила войну «не [жителям], но правительству ее оскорбившему», и предписывал Роту удержать население в деревнях и обеспечить «сообщение и продовольствие войск, отвратив народную войну, следствия которой были бы бедственны для армии и гибельны для народа»195.
Несмотря на заявленное желание избежать народной войны, российское командование в конце концов прибегло к той же тактике выжженной земли, которой следовали и османы. Так, российские войска, занявшие Праводы, стратегически расположенные на пересечении дорог, соединявших Шумлу, Варну и Айдос, сожгли 600 домов. Русские солдаты, остававшиеся в Праводах зимой 1828–1829 годов, несомненно сожалели об этом, однако это сожаление не помешало им до основания сжечь и разорить четыре соседних селения «с тем, чтобы в зимнее суровое время лишить неприятеля пристанища и возможности утвердиться в соседстве Правод»196. Неудивительно, что группы вооруженных мусульманских жителей нападали на русские патрули и фуражиров, на что начальник Праводского отряда отвечал высылкой «по ночам, самым скрытным образом» отрядов в 20–30 человек, «чтобы отыскивать и истреблять неприятеля»197. Тем не менее к весне 1829 года действия турецких партизан беспокоили русские коммуникации настолько, что потребовалось назначать по батальону для охраны каждого транспортного обоза198.
Действия русских войск в отношении болгар также не отличались особой обходительностью. Зимой 1828–1829 годов русским передовым постам было приказано препятствовать возвращению на правый берег Камчика болгарских жителей, угнанных предыдущим летом османскими войсками. Такое возвращение «неминуемо повлекло бы за собою еще более чувствительное уменьшение всяких запасов», а кроме того, болгары могли способствовать распространению чумы в российских войсках199. Разумеется, такое обращение антагонизировало болгарское население, так что к концу кампании 1828 года, по свидетельству Липранди, «многих Болгар подозревали в разбоях и убийствах наших солдат»200.
Малая война, развязанная османскими партизанами, безусловно способствовала малоуспешности действий русских войск в 1828 году против основных сил османов, укрепившихся в Шумле, Силистрии, Варне и их окрестностях. Как и у Румянцева в 1774 году или у Каменского в 1810‑м, у Витгенштейна в 1828 году не было ни малейшего шанса захватить Шумлу, идеально защищенную природой и 40 тысячами османских войск и вооруженных жителей. Не будучи даже способными полностью блокировать широко раскинувшуюся османскую крепость, основные силы русской армии провели большую часть лета 1828 года, «наблюдая» за Шумлой. За это время они понесли некоторые потери в результате неожиданной османской вылазки и еще большие в результате болезней. Трудности в снабжении русских войск под Шумлой в свою очередь препятствовали своевременной доставке осадных орудий к Силистрии, осажденной 6‑м корпусом Рота, из‑за чего российской армии не удалось взять и эту крепость до начала зимы.
Сомнительные результаты кампании 1828 года вызвали новый ряд записок, в которых русские генералы высказали свои версии того, что пошло не так и что могло бы сделать кампанию следующего года более успешной201. Начальник штаба Витгенштейна П. Д. Киселев не находил возможным закончить войну в 1829 году, принимая во внимание улучшившееся положение османов. Последние могли собрать более значительные силы ввиду того, что паши Боснии и Албании примирились с Портой и обещали прислать значительные подкрепления в Видин, Никополь и Рущук. Османские силы более не были задействованы в Морее, которая была занята французскими войсками. Султан также мог получить поддержку со стороны своего египетского вассала Мухаммеда Али. По мнению Киселева, «магометане, воспламеняемые мнимыми успехами прошедшей кампании и убеждениями султана к общему восстанию окажут более прежнего усилия и ополчение вероятно будет более общим»202. Эти соображения приводили начальника штаба Витгенштейна к заключению, что переход русской армией Балкан в 1829 году был невозможен и что она должна была сконцентрироваться на захвате османских крепостей в Дунайской Болгарии, тем самым подготавливая почву для более решительных действий в 1830 году203.
Записка Киселева соответствовала первоначальным замыслам Николая I на 1829 год, сформировавшимся под воздействием скромных результатов кампании 1828 года204. Однако ко времени составления Киселевым этой записки царь уже решился на более смелые действия. Эта перемена была следствием острой критики кампании 1828 года со стороны генерал-адъютанта Иллариона Васильчикова. Последний приписывал неудачу первой кампании малочисленности русских войск на Дунае, присутствию царя в действующей армии, нерешительности Витгенштейна и полной некомпетентности его дежурного генерала, генерал-квартирмейстера и генерал-интенданта. Васильчиков также подспудно критиковал начальника штаба Витгенштейна Киселева, чей план кампании подкреплялся «ошибочными сведениями относительно местных обстоятельств и силы сопротивления, на которые следовало рассчитывать». «Разве можно было не знать, – вопрошал Васильчиков, – что, продвигаясь к Варне и Шумле, придется вступить в пересеченную и гористую местность и, независимо от войск, иметь дело с вооруженным и фанатическим населением?»205



