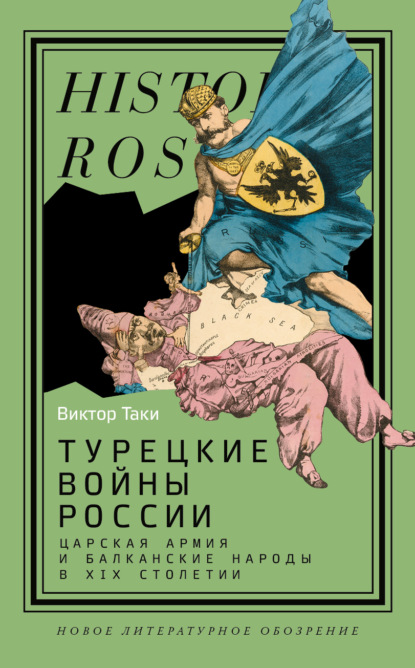
Полная версия:
Турецкие войны России. Царская армия и балканские народы в XIX столетии
Хорошее устройство войск Е. И. В., строгая дисциплина их всегда отличающая, приобрели полную доверенность всех жителей вообще, как христианских, так и магометанских. Первые вооружаются охотно для защиты своих жилищ и семейств и обще с казаками нашими ходят на поиски если где только узнают скопление рассеянных войск неприятельских, а последние, опасаясь собственных своих необразованных войск, с радостью при появлении нашем передаются покровительству нашему254.
По примеру северо-восточной Румелии отдельные подразделения русской армии были назначены для занятия разных пунктов, с тем чтобы не позволить сложившим оружие османским солдатам снова собираться и учинять насилие над жителями, в особенности христианами. В остальном начальники этих отрядов должны были «употребить все меры ласки, снисхождения и безусловной справедливости дабы тем привлечь жителей, как христиан, так и Магометан, к мирной жизни, а обезоруженные войски к спокойной и безвредной жизни»255.
Как и в северо-восточной Румелии, реакция мусульман Фракии на появление русских войск была двойственной. Некоторые из них начали обращаться к русским полковым командирам, уверяя в своей готовности сдать оружие в обмен на охранные листы и часто обещая, что их примеру вскоре последуют другие их единоверцы256. В других случаях, как, например, в Демотике, местные мусульмане не спешили сдавать оружие. В конце концов отряд полковника М. Г. Хомутова вступил в город и захватил пушки гарнизона, однако был не в состоянии разоружить более тысячи местных вооруженных жителей и беженцев. Вместо этого Хомутов «обращался миролюбиво и взял трех из главнейших в городе с тем, чтобы оные увидя в Адрианополе наше расположение к жителям, последуют ихнему примеру»257.
Неделей позже из Демотики пришли сообщения, что местные мусульмане вновь взялись за оружие, угрожая погибелью местным христианам, после чего туда была направлена бригада уланской Бугской дивизии с приказом безжалостно уничтожить всех, кого застанет с оружием в руках. Командующий бригадой В. К. Сиверс также должен был предупредить остальных мусульман, что подобные замыслы с их стороны повлекут за собой примерное наказание. В то же время Сиверсу предписывалось сообщить жителям-христианам, «чтобы не осмеливались со своей стороны поднимать оружие против турок, ниже подавать повод к расправе, а жили бы с ними мирно, но в противном случае они будут наказаны тогда строго»258. За исключением свидетельства одного болгарина, Сиверс не нашел подтверждений враждебных намерений по отношению к христианам со стороны мусульман и приступил к разоружению последних259.
После занятия Адрианополя российское командование продолжило реагировать на сообщения о сборищах османских солдат, в том числе и тех, кто сложил оружие в самом городе и был затем отпущен. Одним из таких мест был городок Германлы, откуда пришло сообщение о том, что в нем отставшие османские солдаты «делают разные насилия христианам». В ответ начальник штаба Дибича генерал-адъютант Толь призвал Рота направить в Германлы уланскую дивизию, которой в случае подтверждения этой информации предписывалось атаковать город и уничтожить всех вооруженных людей «как нарушителей уставов». В то же время командир дивизии должен был удостовериться, что христианские жители Германлы «со своей стороны не подавали никакой причины к распрям с турками» и старались жить с ними мирно260.
Командир Харьковского уланского полка полковник И. К. Анреп докладывал, что, по единогласному показанию болгар Германлы, «значительное число вооруженных турок» прибыли в город из деревень Драново, Сивирка, Текели и Аниклар и обратились с жалобами на своих болгарских соседей к османскому командующему Алиш-паше, проезжавшему через Германлы в сопровождении 50 солдат. Болгары якобы настоятельно требовали от них «сдачи им совершенно собственного оружия, имея намерение отнимать у безоружных турок всякое имущество, а у противящихся даже жизни». На это Алиш-паша якобы ответил турецким жителям, что они вольны «поступить с болгарами строго, как им угодно», после чего практически все вооруженные жители Германлы собрались толпой и отправились в селение Драново, где «вырезали болгар, разграбили имущество и перегнали скот к себе». Затем малая часть турок пошла в деревню Аниклар, где «восемь человек болгар тоже пали жертвою», так что общее количество убитых достигло 126 человек. Османский губернатор Германлы Мутевели-паша был в отъезде во время этих происшествий, но, вернувшись, «тотчас приступил к устройству тишины и все имущество спасшихся от мятежников возвращает по принадлежности»261.
«Покорность вообще жителей при том невооруженных» побудила Анрепа «принять мирные меры с условием выдачи начальников, участвовавших в сем деле». Анреп также вменил в обязанность турецким старшинам селений по дороге в Германлы обезоруживать «проходящих из разных сторон вооруженных турок» и хранить оружие при себе до востребования. Из расследования Анрепа следовало, что непосредственной причиной кровопролития была отмашка Алиш-паши турецким жалобщикам, однако полковник присовокуплял, что «при всех исследованиях, болгары, будучи вооружены, первые подают повод к ссорам»262. Это замечание подтверждало упоминавшиеся выше донесения генерала Монтрезора о склонности болгарских волонтеров обращать против турок то оружие, которое они получали от русских. Заявления мусульманских жителей Алиш-паше, по-видимому, не были абсолютно беспочвенны, поскольку десять дней спустя командующий 3‑м уланским Бугским полком полковник Компан сообщал из Черменя о жалобах местного аяна о разорении 15 деревень, находившихся под его управлением, и о его отчаянной решимости защищаться до последнего263. Поэтому можно заключить, что случаи, подобные тому, что произошел в окрестностях Германлы, были следствием временного коллапса властных отношений между мусульманами и христианами, которым сопровождалось отступление османской армии и приход русских войск.
Российское командование рассматривало разоружение мусульманских жителей как необходимую предпосылку для мира на оккупированных территориях. В то же время малочисленность русских войск диктовала передачу оружия мусульман их болгарским соседям, дабы последние могли защитить свою собственность от периодически возникавших скопищ османских солдат, отставших или отбившихся от своих частей. Вооружение болгар не могло не беспокоить мусульманских жителей и в конце концов способствовало кровопролитию в Германлы. Другим препятствием для быстрого замирения были мусульмане-беженцы. В отличие от тех мусульман, которые остались поблизости от своих селений и откликнулись на прокламацию Дибича, сложив оружие в обмен на охранные листы, беженцы сохраняли при себе оружие и были заинтересованы в том, чтобы мусульманские жители других городов делали то же. Вооруженные беженцы, по-видимому, способствовали промедлению жителей Демотики в вопросе о сдаче оружия в конце августа 1829 года. В ряде случаев беженцы даже составляли банды грабителей, как произошло в окрестностях Иреополя, где, по слухам, такие банды нападали в том числе на мусульманские селения264.
Хотя болгарское население порой становилось жертвой отставших османских солдат и вооруженных мусульманских жителей, вооруженные болгары представляли собой не меньшую проблему для русского командования, особенно после того, как Адрианопольский мир разбил надежды болгар на освобождение. Под предводительством Георгия Мамарчева, одного из командиров болгарских волонтеров в 1829 году, около 500 болгар попытались поднять антиосманское восстание в Румелии в апреле 1830 года, однако были быстро разоружены русскими войсками. Помещенный под домашний арест в Бухаресте, Мамарчев смог бежать в 1833 году и попытался снова поднять восстание, однако был снова пойман, передан османским властям и окончил свои дни в ссылке в Малой Азии. Одновременно османские власти раскрыли тайное общество бывших волонтеров, действовавшее согласно антиисламской панславистской программе под предводительством «Грифона Д.», который планировал собрать 1000 человек в северной Болгарии и атаковать Шумлу весной 1830 года265.
И хотя антиосманские настроения выражались открыто преимущественно предводителями христианских волонтеров, широкие массы болгарского населения Румелии опасались османского возмездия за их мнимые или реальные пророссийские симпатии. После захвата Созополя вице-адмирал Грейг докладывал Николаю I, что «жители окрестных мест, убегающие от угрожающих им бедствий, стекаются в покоренный город и отдаются покровительству России»266. Как уже отмечалось, страхи болгарского населения служили Дибичу в качестве аргумента в пользу вооружения болгар накануне перехода через Балканы. Дабы успокоить эти страхи, Адрианопольский мир позволял в течение 18 месяцев эмигрировать всем подданным, которые «обнаруживали поведением или мнениями своими приверженность к какой-либо из двух договаривающихся сторон»267.
Это положение мирного договора послужило международно-правовой основой эмиграции большого количества болгар в Российскую империю, которая началась еще во время войны. После того как стало ясно, что политическое положение Дунайской Болгарии и Румелии останется неизменным, десятки тысяч болгар попросили позволения переселиться в Бессарабию и Новороссию. Поскольку в данных регионах оставалось немного пустых земель после полувека интенсивной колонизации, российские власти постарались ограничить число переселенцев. Николай I и Дибич также не хотели сокращать число пророссийски настроенных жителей Румелии на случай новых столкновений с османами. В результате они решили дозволить переезд только тем, кто прямо или косвенно принял участие в боевых действиях против османской армии. Такая мера представляла собой продолжение политики, избранной Кутузовым в 1811 году, когда 4000 болгарских волонтеров и их семьи были переселены в Бессарабию. Одновременно в Адрианополь впервые был назначен русский консул, который должен был обнадежить румелийских христиан, в то время как Порта официально помиловала всех своих подданных, направила значительные средства на послевоенное восстановление и предписала православным иерархам успокоить свою паству. Тем не менее около 66 000 болгар все же переселились в Бессарабию и Новороссию, хотя примерно половина из них вскоре вернулись в Османскую империю268.
Как переселение тех, кто имел основание опасаться османского возмездия, так и меры, принятые российскими и османскими властями для предотвращения еще более масштабной эмиграции, несомненно способствовали послевоенному умиротворению Румелии. Хотя первое появление русских войск на южной стороне Балкан спровоцировало несколько вспышек межконфессионального насилия, такие вспышки были относительно немногочисленны, и то же самое можно сказать про количество мусульманских и христианских беженцев. Последний вывод напрашивается из чтения «Статистической таблицы северной Румелии», составленной А. О. Дюгамелем в марте 1830 года. Под «северной Румелией» автор понимал пространство к югу от Балканского хребта, включавшее округа Месемврия, Русокастро, Карнобат, Кизленджи, Сливно, Ямболь, Ени-Загра и Айдос, а также малую часть адрианопольского округа общей площадью 12 146 квадратных верст.
По данным Дюгамеля, население этой территории составляло 105 053 человека, включая 88 724 греков и болгар и 15 864 турок. Кроме того, 9272 турецких жителя бежали, но должны были наверняка вернуться после ухода русских войск. Таким образом, общее население составляло 114 325 человек, а соотношение христиан и мусульман было 3,5 к 1269. Из девяти округов, включенных Дюгамелем в свой обзор, мусульманское население преобладало только в Айдосском и Адрианопольском, хотя в Сливненском и Карнобатском их количество почти равнялось количеству христиан. Кроме того, мусульмане составляли значительные меньшинства в городах Карнобат, Сливно, Ямболь и Ени-Загра270. В целом Дюгамель отмечал, что «христиане возделывают долины, а турки живут в горах». Он также был одним из первых русских наблюдателей, заметивших, что турецкие селения беднее христианских271.
Автор также отмечал трудность сбора статистической информации из‑за того, что «население находилось в постоянном движении», которым сопровождался переход русской армии через Балканы. Лишь малая часть турок, бежавших при приближении русских войск, вернулась в места своего проживания. Болгары также переходили из селения в селение и готовились следовать за русской армией: «[O]ни не засевают поля, не обрабатывают виноградников и живут сегодняшним днем»272. Данные Дюгамеля были неточными и из‑за того, что многие деревни в местностях расквартирования русских войск не были ими заняты, и потому он полагал, что действительная цифра населения страны была несколько выше указанной.
В то время как военно-статистическая таблица Дюгамеля была посвящена округам и их центрам, «Записки о городах Забалканских, занятых российскими войсками в достопамятную кампанию 1829 года» Е. И. Энегольма содержали данные о крупных городах, таких как Адрианополь или Киркилисса, а также описывали морально-политические характеристики основных религиозных и этнических категорий населения. Опубликованные сразу же после их написания, «Записки» не ограничивались военной статистикой и содержали исторические экскурсы и описания местной архитектуры. Данные о населении, приводимые Энегольмом, порой существенно расходились с цифрами, приводимыми Дюгамелем. По мнению Энегольма, мусульмане составляли большинство населения Карнобата, Сливно и Ямболя, а не значительное меньшинство, как о том писал Дюгамель273. То же касалось и Киркилиссы, Черменя, Демотики, Люле-Бургаса и Чорлу, которые не входили в таблицу Дюгамеля274. Мусульмане также составляли подавляющее большинство жителей Адрианополя (13 281 турецкий дом против 4674 христианских), что делало их преобладающей категорией городского населения Румелии275.
Как и Дюгамель, Энегольм был штаб-офицером с еще большим опытом составления военно-статистических описаний. Он провел более 15 лет в Закавказье, был ветераном русско-персидских войн 1804–1813 и 1826–1828 годов, а также участвовал в нескольких военных миссиях в Персию и в демаркации русско-персидской границы в 1824–1825 годах. К моменту своего перевода на Дунай в 1828 году Энегольм превратился в представителя военного ориентализма, пример которого уже встречался в «Опыте теории партизанского действия» Давыдова и у других русских военных писателей конца XVIII – начала XIX столетия276. Соответственно, описание мусульманского населения у Энегольма было предсказуемо ориентализирующим. По его словам, турок жил «в спокойном самодовольствии, мало занимаясь торговлей и промышленностью» и извлекая доходы из должностей, земельной ренты и притеснения христиан: «[с] хладнокровием обирая Булгара, он произвольно назначает цену покупаемому им товару у Грека». На войне турок «свиреп и не знает прав человечества; но в быту мирном он человек честный, любит исполнять свои обязательства, гостеприимен и тверд в своем слове». Леность, фатализм и немногословность дополняли стереотипный образ османли, который Энегольм представил своему читателю277.
Описание греков также следовало уже расхожим к тому времени стереотипам, сложившимся из сопоставления высоких классических идеалов с реалиями позднеосманской или постосманской Греции. По мнению Энегольма, потомки доблестных воинов и искусных ваятелей «ныне смиренно преклоняют главу под бременем правления Оттоманов». Греческие обитатели Румелии демонстрировали те же легкомыслие, тщеславие, сребролюбие и готовность к распрям и междоусобиям, что и во времена Фемистокла, Перикла и Алкивиада, но не «открытое побуждение к прежней дикой вольности». Привязанность к православию сочеталась в них с остатками языческих обрядов, а «понятие об изящном… побеждаемо бывает наклонностью к упражнениям[,] служащим к обогащению, к удовлетворению корыстных видов». Контролируя практически всю торговлю и промышленность Румелии, греки, по свидетельству Энегольма, боялись быть ограблены и потому скрывали свою собственность. В то же время «Греки Фракии, смиряясь перед Турками, перенося с покорностью все их притязания, обманывают Турок в делах торговых»278.
«Записки» Энегольма были составлены в период, когда русское эллинофильство еще преобладало над панславистскими настроениями. По этой причине автор уделил меньше места болгарам, чем туркам, чьи земли они обрабатывали, или грекам, на чьих заводах они трудились. В то время как болгарские жители равнин и долин занимались землепашеством и хозяйством, «мирным обитателям благословенной страны свойственным», проживавшие в Балканских горах были «бесчеловечные разбойники». Как полагал Энегольм, они не довольствовались грабежом и воровством, но и мучили путешественников, «в неистовстве зверской дикости забавл[яясь] мучениями страдальца»279. В последующих главах будет продемонстрировано, как такая нелестная характеристика болгарских гайдуков уступит место более позитивному образу в середине XIX века, по мере распространения панславистских взглядов среди русской интеллигенции.
***Несмотря на обращение русских военных к опыту прошлых русско-турецких войн и стремление российского командования избежать столкновения с мусульманским населением, кампания 1828 года была во многом повторением того, что имело место в 1806–1812 годах. Османские власти угнали многих жителей Добруджи и задействовали партизан, в то время как русская армия старалась привлечь различные группы местного христианского населения к переселению в Российскую империю, а с другой стороны, разоряла мусульманские селения. В итоге кампания 1828 года оказалась малоуспешной для России как с точки зрения достижения ее стратегических целей, так и в плане отношений армии с местным населением. Можно задаться вопросом, не было ли такое развитие событий предопределено географией и демографией Дунайской Болгарии, а также наследием предыдущих русско-турецких войн.
Такой вывод подтверждается кампанией 1829 года, в ходе которой русская армия внезапно перешла Балканы и заняла Адрианополь. Христианское население забалканских территорий не было угнано османскими властями по мере приближения русских войск, и последним практически не пришлось здесь иметь дело с мусульманскими партизанами. В отличие от Дунайской Болгарии, прошлое данной области делало ее не готовой к столь радикальным мерам. Кроме того, отмеченное русскими военными агентами недовольство провинциальных османли европеизирующими реформами Махмуда II очевидно негативно сказалось на их готовности подняться на священную войну с «гяурами».
Памятуя о неудачном опыте кампании 1828 года, российское командование избрало весьма осторожную политику в отношении мусульманского населения Румелии и предпочло не призывать местных христиан к всеобщему восстанию против османов. Нападения мусульман на своих христианских соседей, подобные тому, что произошло в окрестностях Германлы, имели место, однако оставались немногочисленными. В целом российскому командованию стоило бо́льших усилий сдержать болгарских радикалов, чем защитить болгарское население от нападений мусульман. Ограничению насилия на религиозной почве после вывода русских войск способствовали предварительная эмиграция 60 000 пророссийски настроенных румелийских болгар, официальное помилование коллаборантов со стороны Порты и средства, направленные ею на послевоенное восстановление, а также присутствие российского консула в Адрианополе. В целом первое появление русской армии на южном склоне Балкан оказалось гораздо менее деструктивным для межконфессиональных отношений в Европейской Турции, чем вступление небольшого отряда «Филики Этерия» в Молдавию и Валахию восемью годами ранее.
Такой результат был среди прочего следствием сдержанного подхода, сознательно избранного царем и его полководцами в конце 1820‑х годов. Первые проявления этого подхода наблюдались в момент объявления Николаем I войны Османской империи в апреле 1828 года, когда царь недвусмысленно открестился от идеи разрушить Османскую империю. Рекомендация Николая I сербскому князю Милошу Обреновичу сохранять нейтралитет также свидетельствовала о нежелании царя поднимать знамя «народной войны» на Балканах. Николай I первоначально даже не воспользовался услугами христианских волонтеров, ставших привычными в «турецких» войнах Екатерины Великой и Александра I, и санкционировал создание таких отрядов только после неудачной кампании 1828 года. Даже тогда эта мера была принята с многочисленными оговорками и уравновешивалась примирительными сигналами Дибича в отношении мусульманского населения.
Такой сознательно консервативный подход Николая I и его генералов во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов был частью более общей реакции старорежимной военной элиты России на вызов революционных и Наполеоновских войн. Впервые столкнувшись с «народом» как фактором современной войны, царские стратеги и командующие постарались вернуться к принципам регулярной войны Старого режима и тем самым восстановить свой контроль над течением военного конфликта посредством четкого отделения армии от гражданского населения и решения исхода войны на поле сражения. В той степени, в какой им это удалось, Русско-турецкая война 1828–1829 годов может рассматриваться как часть более общего феномена реставрации военно-политической монополии монархий и аристократий в первые десятилетия после падения Наполеона. Однако это возвращение к принципам старорежимной войны оказалось столь же кратковременным, сколь недолговечной была и политическая реставрация Старого режима. В середине XIX столетия консервативная элита Российской империи была вынуждена признать ключевое значение «народа» в современной войне и изменить свой подход соответствующим образом. Теоретические и практические проявления этой смены подхода рассматриваются в следующих трех главах.
Глава III
Партизанская война и статистика Европейской Турции в деятельности И. П. Липранди
Занятие некоторых европейских областей Османской империи во время войны 1828–1829 годов позволило русским офицерам продолжить сбор военно-статистической информации, начатый в конце XVIII – начале XIX века. В 1828–1830 годах Е. И. Дитмарс составил военно-статистическое обозрение Молдавии и Валахии, которое было дополнено полковником Е. В. фон Рюге, подполковником А. И. Бергенгеймом и штабс-капитаном И. Ходзько280. Одновременно с этим А. Г. Розалион-Сошальский и несколько других русских офицеров составили военно-топографическое обозрение Сербии и тех шести округов, которые по Адрианопольскому миру должны были войти в состав этого княжества. Военно-статистическая информация собиралась и в отношении восточных Балкан, о чем свидетельствуют цитировавшиеся выше обзоры А. О. Дюгамеля и Е. И. Энегольма. В результате войны 1828–1829 годов российские военные расширили свое знание численности, географии и политических настроений балканских мусульман и христиан281.
В то же время четверть века, отделявшая Адрианопольский мир от начала Крымской войны, характеризовалась развитием военной литературы, первоначальный импульс которому был задан Наполеоновскими войнами. В данный период были опубликованы и первые описания этих войн, и первые крупные русские сочинения о стратегии и тактике. Сочинения русских авторов по военной науке и военной истории в 1830‑е, 1840‑е и 1850‑е годы отражали безусловное усвоение русскими офицерами принципов современной войны и в то же время демонстрировали оформление русской национальной традиции в военном искусстве. Последняя окончательно сложилась во второй половине XIX столетия, причем анализ опыта русско-турецких войн сыграл ключевую роль в этом процессе282.
Все эти тенденции отразились в трудах И. П. Липранди, ветерана Русско-турецкой войны 1828–1829 годов, который попытался обратить свой опыт в экспертное знание о Европейской Турции и предоставить его в распоряжение российского командования в начале Крымской войны. Проблематика «малой войны», партизанского действия и отношений русской армии с населением Европейской Турции находилась в центре внимания Липранди и была главным предметом его многочисленных сочинений, написанных в царствование Николая I. Несмотря на то что российское командование не сумело воспользоваться экспертными знаниями Липранди, его биография иллюстрирует тесную взаимосвязь между знанием о населении и военной практикой, которая и породила феномен «политики населения»283.
Сын Педро ди Липранди, пьемонтского дворянина испанского происхождения, поступившего на русскую службу в царствование Екатерины Великой, И. П. Липранди приобрел первый боевой опыт в ходе Русско-шведской войны 1808–1809 годов284. Впоследствии он участвовал в Бородинском сражении и в европейских походах русской армии в 1813–1814 годах. Со времени пребывания Липранди во Франции в составе оккупационного корпуса М. С. Воронцова в 1815–1818 годах начинается его шпионская деятельность. В качестве начальника тайной полицейской службы Воронцова Липранди имел возможность познакомиться с методами работы Эжена-Франсуа Видока, знаменитого французского сыщика с криминальным прошлым.



