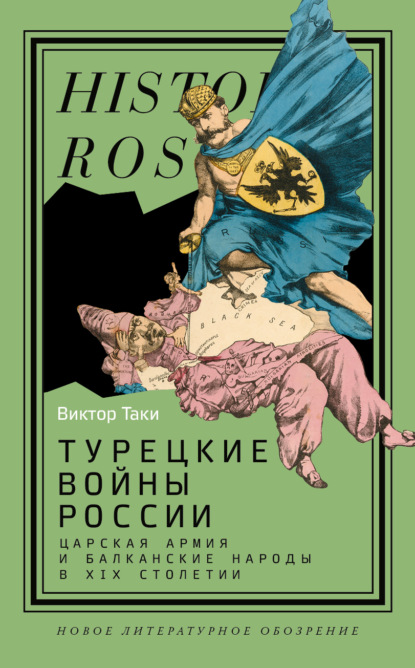
Полная версия:
Турецкие войны России. Царская армия и балканские народы в XIX столетии
По возвращении в Россию Липранди в качестве наказания за участие в дуэли был определен в Камчатский полк, расквартированный в Бессарабии. В 1822 году он вышел в отставку в чине полковника и спустя год поступил на гражданскую службу в качестве чиновника по особым поручениям при Воронцове, ставшем тем временем новороссийским генерал-губернатором и бессарабским наместником. С момента прибытия в Бессарабию Липранди посвятил свое время, деньги и незаурядную способность к языкам тому, что стало главным делом всей его последующей жизни, – изучению Европейской Турции. Библиотека, которую он начал составлять в 1820 году, включала все произведения европейских авторов об Османской империи, опубликованные после 1800 года, и уже в 1830‑е годы была известна ряду европейских ученых обществ. Во время своего пребывания в Бессарабии Липранди пристально наблюдал за восстанием греческой Этерии в Молдавии и Валахии285. По указанию командующего 6‑м корпусом И. В. Сабанеева и командующего 16‑й дивизией М. Ф. Орлова Липранди посетил османские крепости на Дунае с целью сбора информации о перемещении турецких войск в княжествах и в Дунайской Болгарии. Спустя пять лет Липранди повторил эту миссию по случаю Аккерманского конгресса.
В 1827 году Липранди вернулся на военную службу и убедил начальника штаба 2‑й армии П. Д. Киселева в необходимости осуществления полномасштабной разведывательной операции с целью подготовки к новой войне286. Заручившись его поддержкой, Липранди создал в княжествах агентурную сеть из представителей разных слоев населения для сбора информации о состоянии османских крепостей на Дунае, расположении австрийских войск в соседней Трансильвании, настроениях молдавских и валашских бояр, а также болгар, татар, некрасовцев и запорожцев на правом берегу Дуная287. Как и русские консулы в Яссах и Бухаресте, Липранди в 1828–1834 годах снабдил временную российскую администрацию в княжествах списками проосмански, проавстрийски и пророссийски настроенных бояр288. Липранди сочетал военно-статистические наблюдения с изучением истории русско-турецких войн, получив для этого неопубликованные дневники и воспоминания ветеранов войны 1806–1812 годов И. В. Сабанеева, А. Ф. Ланжерона, С. А. Тучкова, И. М. Гартинга и М. И. Понсета289.
Липранди участвовал в войне 1828–1829 годов в качестве полковника Генерального штаба, находясь в непосредственном подчинении Киселева и И. И. Дибича, начальников штаба Витгенштейна и Николая I соответственно. Сразу же после объявления войны Липранди прибыл в Яссы во главе небольшого отряда и арестовал молдавского господаря Иоана Александру Стурдзу, не дав ему возможности бежать в Австрию подобно его валашскому коллеге Григорию Гике. Во время кампании 1828 года Липранди сопровождал колонны русских войск, продвигавшихся через пустынную Добруджу, а затем находился в ставке Витгенштейна под Шумлой, допрашивая османских дезертиров и собирая информацию через посредство своих агентов. В результате Липранди мог лучше, чем кто-либо другой, понять проблемы в отношениях русской армии и местного населения.
Партизанский отряд Липранди в 1829 году
В ходе обсуждения результатов кампании 1828 года Липранди подал И. И. Дибичу записку, в которой объяснял неудачи русской армии действием мусульманских партизан, «наглых и свирепых, воспламененных воззваниями к охранению безопасности и самой жизни; поддерживаемых невежественным суеверием и подстрекаемых фанатизмом религии», которые использовали преимущества местности, покрытой лесами и изрезанной теснинами290. Ни многочисленность османских войск, ни их отчаянная храбрость не составляли, по мнению Липранди, препятствия для русской армии, однако блестящие ее победы «не влекли за собой решительных последствий». «Толпы ожесточенных жителей, дерзких турецких наездников и мародеров, рассеянных по нашим флангам, в тылу и даже между корпусов, укрываясь в лесах, ущельях и стремнинах, пересекали наши сообщения, перехватывали наши обозы, нападали на отсталых и иногда врывались в города, подвергали опасности наши госпитали и заготовления». Подобное действие, по утверждению Липранди, «производило в войсках досаду, уныние и убивало в целом бодрость духа, первое качество воина»291. Ситуацию осложнял недостаток надежной информации о театре военных действий, поскольку все имевшиеся в распоряжении армии топографические описания оказались неточными292.
Липранди утверждал, что успехи в «малой войне» были не менее важны, чем победы в полевых сражениях и взятие крепостей. Этих успехов можно было добиться посредством партизан, которые «рассеивались бы роями вокруг нашей армии, могли бы ее охранять от внезапных нападений, от ночных тревог, обеспечить наши обозы, располагать в нашу пользу жителей, или страхом удерживать непокорных и строптивых». Партизаны, отмечал Липранди, «наносят ужас внезапностью своего появления, быстротою атак на стан неприятельский, что с беспорядком, царствующим в многосбродных турецких армиях весьма удобно и легко производить»293. По мнению Липранди, в этом заключался лучший способ «действовать на воображение», что было непременным условием успеха в войне с «азиатцами». «Сей образ войны неминуемо разольет ужас и смятение в турецком войске, не привыкшем к строгому, постоянному наблюдательному порядку и не занимающемуся способами собирать точные и верные сведения о неприятеле»294.
Несмотря на то что Липранди был далеко не первым сторонником использования партизан в Европейской Турции среди русских офицеров, он выделяется тем, что осуществил эту идею на практике. Именно Липранди предложил составить «летучий корпус партизан». Последний, по его признанию, не находился бы в столь же выгодных условиях, в каких были русские партизаны под Москвой в 1812 году, «привыкшие с климатом, зная места, язык, поддержанные жителями и воюя за отечество и веру с французами лишенными способов для малой войны»295. В то же время, по мнению Липранди, в Турции партизаны были более полезны, чем в Германии в 1813 и 1814 годах, «где народы были за нас, французы в укрепленных позициях, дороги все и всем известны и сих партизанов скорей можно назвать веселыми путешественниками».
Ввиду специфики условий Европейской Турции принципы организации партизанских отрядов здесь неизбежно должны были отличаться от тех, которым следовали в России или Германии. В 1812–1814 годах партизанские отряды состояли только из кавалеристов, поддержанных легкой артиллерией, и действовали в хорошо известной и открытой местности против регулярной армии, которая была слаба кавалерией. Напротив, территории к югу от Дуная были гористыми, настроения населения зависели от обстоятельств, а неприятель «нагл, буен и многочисленен, особенно богат и регулярной конницею, не уступающей нашей». Вот почему партизанские отряды, состоящие из одних кавалеристов, могли легко попасть в засаду и стать «верной жертвою дерзких и коварных жителей», как это и случалось часто с русскими казаками в ходе кампании 1828 года. Поэтому предлагаемый летучий корпус партизан должен был, по мнению Липранди, включать и пехоту и быть более многочисленным, чем обычные партизанские отряды. Липранди предлагал собрать 900 пехотинцев и 300 всадников, дополненных 600 казаками и несколькими орудиями296.
При этом необходимо было проявлять осторожность в выборе волонтеров для такого отряда. Липранди предлагал набирать бывших этеристов, включая сулиотов, албанцев, черногорцев и других «жителей скал и гор, которые выросли в разбое и привыкли к войне горной. Они знают совершенно уловки и убежища турков, которым они присяжные враги». Как считал Липранди, многие бывшие этеристы все еще находились в Бессарабии, Молдавии и Валахии. К ним можно было добавить жителей уездов Мехединц, Горж и Вилков Малой Валахии, славившихся меткостью стрельбы297. Несмотря на то что эти люди до сих пор не проявляли сильного желания воевать на стороне России, Липранди находил возможным привлечь этих людей под русские знамена, «если с ними обойтись поласковее или внимательнее соображаясь с их духом». Демонстрируя свое знание балканского гайдучества, Липранди рекомендовал разделить 900 пеших волонтеров на 30 отрядов по 30 человек в каждом (что соответствовало численности балканской четы) и предоставить их вожакам действовать независимо друг от друга, подчиняясь только самому командиру корпуса298.
Организация столь пестрой по составу силы была нелегким делом и требовала особых качеств от командующего. Липранди писал, что «обращение с Азиатцами или соседними полудикими христианскими народами должно быть совершенно другое, нежели с регулярным солдатом». Командующий партизанским корпусом «должен уметь понимать дух и свойство каждого из них, должен выйграть их доверенность; уметь быть начальником в деле, товарищем на биваках, и посредством справедливой, но расчетливой строгости, уметь ежеминутно укрощать их дерзость и взаимные частые пагубные распри». Способный объясниться со всем своим многоязычным воинством, командующий летучим корпусом выступает в записке Липранди неким военным аналогом ренессансного uomo universale, обнимающим «все отрасли военной науки, ибо он и вербовщик, и квартирмейстер, и инженер, и продовольствователь, и распорядитель и полководец своей партии».
Липранди был уверен, что внезапное появление летучего корпуса партизан в Балканских горах «произведет ужас в жителях магометанского исповедания и покорит их влиянию Христианских с ними смешанных народов или удалит от театра войны». В любом случае Липранди ожидал, что летучий корпус «уничтожит их кровожадную свирепость и отвратит возможность народной войны, столь опасной и влекущей за собой всегда неминуемо пагубные последствия наступательному войску», как было убедительно доказано опытом Наполеоновских войн в Испании и России299. Рассеявшись по обширной территории малыми группами, партизаны «разливали бы страх – единственное средство для обуздания варваров, отогнали бы жителей мусульман и запечатлели бы выгодные для нас мнения в болгарах и других за Дунаем христианских народов». Сопровождаемая такими отрядами русская армия находила бы больше поддержки со стороны местного населения по мере своего продвижения вглубь Европейской Турции.
Липранди усматривал в опыте кампании 1828 года доказательство от противного собственной правоты. Он отмечал, что при появлении русской армии под Шумлой в ее расположение стали прибывать многочисленные болгарские, греческие и турецкие перебежчики и депутаты из окрестных селений, прося защиты и предлагая свои услуги. Однако после того, как наступление русских войск застопорилось, а сами они не заняли всей территории, оставшейся у них в тылу, поток перебежчиков и депутатов сократился и в конце концов «многих болгар подозревали в разбойных убийствах [русских] солдат»300. Если бы предлагаемый партизанский корпус был создан уже в 1828 году, рассуждал Липранди, мусульманские жители не посмели бы скрываться в лесах, а благорасположенность болгар к русским сохранилась бы, «обратив против неприятеля орудие малой войны, столько причинившей нам вреда»301.
В марте 1829 года новый главнокомандующий И. И. Дибич принял проект Липранди и поручил ему исполнить задуманное302. Однако набор волонтеров шел медленно, и некоторые из добровольцев впоследствии отказывались от участия в отряде под разными предлогами. Волонтеры рассчитывали на вознаграждение, которого Дибич не предоставил. Они также пристально следили за ходом боевых действий, и только решительная победа русской армии в сражении при Кулевче в конце мая подстегнула их решимость. К началу июня Липранди удалось собрать 950 человек у Калафата на Дунае (650 пеших и 300 конных)303. Среди них были ветераны Первого сербского восстания 1804–1813 годов, бывшие этеристы и кирджалии, действовавшие поблизости от горы Олимп, в области Шар-Дага (Шар-Пла́нина) и Карадага, а также в окрестностях Приштины и Призрена в первые десятилетия XIX столетия. Во главе этого разношерстного и многоязычного воинства Липранди был передан в подчинение генерал-майора В. Я. Руперта, чей отряд занимал Силистрию. По предложению Руперта Липранди патрулировал дороги, проходившие через Делиорманский лес и ставшие опасными из‑за действий мусульманских партизан304.
Как и предвидел сам Липранди в своей записке, командование партизанским отрядом было нелегким делом, особенно ввиду того, что начальство не предоставило ему казаков из‑за острой нехватки войск. В результате Липранди оказался один «между людьми, волнуемыми различными необузданными страстями, буйных, готовых к заговорам, к мятежам, к убийству и ко всем злодеяниям»305. Гульба и пляски продолжались в лагере партизан всю ночь напролет, а сами они то и дело палили из пистолетов так, что иногда ранили друг друга. У Липранди не было никакой возможности пресечь эти беспорядки, поскольку любая подобная попытка вызвала бы громкий ропот среди партизан о нарушении «природных обычаев», после чего они просто разошлись бы. К счастью, Липранди были хорошо известны особенности его подопечных, и он сумел стать их «атаманом». Поначалу он первым вступал в опасные ущелья, давая своим волонтерам возможность оценить его храбрость, так что последние вскоре начали прикрывать его при любой опасности. В ряде случаев личная отвага Липранди позволяла ему предотвратить бунт среди волонтеров и распадение отряда.
Вскоре Липранди получил приказ Киселева начать «систематическое очищение Делиорманского леса». По его собственному признанию, этой цели можно было достичь, изгнав жителей из укрепленных ущелий и лесов и предав огню их селения, дабы лишить их убежища на зиму и тем самым заставить удалиться в западную часть Балкан. Однако это было непростым делом, принимая во внимание размеры Делиорманского леса и количество его обитателей. Поэтому Липранди избрал другую стратегию306. Когда его волонтеры захватили в плен жителей селения Каурги, Липранди приказал их накормить и отчитал своих гайдуков за бесцеремонное обращение с женщинами-мусульманками, задевшее честь их мужей, отцов и братьев. В то же время Липранди постарался пристыдить мужчин-мусульман за то, что они оставили свои жилища, что, по его утверждению, было нарушением шариата, поскольку лишало их возможности правильно исполнять намаз и абдест307. Липранди сумел убедить пленников раскаяться в своих действиях посредством психологической манипуляции: он заставил их думать, что день их пленения был днем именин Николая I и что своим помилованием они обязаны именно этому счастливому обстоятельству. Липранди отпустил четырех пленников передать его послание другим жителям Делиормана, все еще сидевшим в засадах. По его собственному признанию, он стремился вызвать у местных жителей чувство «признательности и благодарности», которые гораздо сильнее действуют на османов, чем на европейцев308.
В результате пропагандистских усилий Липранди жители одиннадцати деревень вернулись в свои жилища и сложили оружие. В обмен они получили охранные листы, на которых командиры соседних российских отрядов должны были еженедельно делать отметки о том, что они остаются мирными и несут ответственность за поддержание мира в окрестностях. Липранди также удалось переселить жителей селений, находившихся в наиболее опасных для российских коммуникаций местах, в окрестности Силистрии, где они оставались под присмотром русских войск309. Однако этот видимый успех в замирении делиорманских мусульман был достигнут ценой трений между самим Липранди и его подчиненными. Его снисходительное обращение с турецкими жителями лишало волонтеров добычи. Вскоре пришла новость о заключении Адрианопольского мирного договора, однако награждение волонтеров и роспуск отряда откладывались ввиду отказа шкодерского паши признать условия мира. В результате резервный корпус Киселева должен был выступить с Дуная в направлении Балкан и Софии, что оставило русские тылы совсем без прикрытия. Поэтому Липранди был вынужден отчаянно удерживать своих волонтеров в лагере под Туртукаем до декабря 1829 года, несмотря на бунты, страшный холод и развившуюся у него самого лихорадку310.
Сочинения Липранди о партизанской войне
Опыт создания партизанского отряда и командования им в 1829 году послужил Липранди основой для последующего исследования партизанской войны. Первым результатом этого исследования стало сочинение «О партизанской войне», составленное в 1830‑е годы. Оно включало описание действий партизанского отряда 1829 года, которому предшествовало обсуждение партизанского действия в ходе Русско-шведской войны 1808–1809 годов, Отечественной войны 1812 года и боевых действий 1813–1814 годов в Германии и Франции. Сочинение Липранди также содержало критический разбор «Опыта теории партизанского действия» Дениса Давыдова и представляет собой интересный, хотя и малоизученный до сих пор аспект рефлексии российских военных относительно роли населения в войне.
Будучи сам ветераном Отечественной войны 1812 года, Липранди принял базовую формулу партизанской борьбы, предложенную Давыдовым, согласно которой партизанские отряды должны были действовать в треугольнике, вершиной которого служили исходные базы неприятеля, а основанием – линия фронта между его регулярными частями и своей собственной армией. В то же время Липранди расходился с Давыдовым в характеристике конкретных примеров партизанской войны. В то время как Давыдов рассматривал 1812 год в качестве классического примера партизанского действия, Липранди видел в нем скорее пример народной войны, близкой к испанской герилье. По его мнению, казацкие партии, оправленные в тыл французским войскам после Бородинского сражения, действовали «среди отечества своего, между жителями, принимавшими деятельное участие в поражении неприятеля», а вооруженные жители представляли не менее серьезную угрозу для вражеских войск, чем казаки, и руководствовались не «стратегически[ми] соображени[ями]», а «привязанность[ю] к религии, преданность[ю] к монарху, любовь[ю] к отечеству, и проч.» Это делало борьбу в тылу наполеоновской армии в 1812 году более похожей на испанскую герилью, чем на партизанское действие как таковое311.
В сравнении с герильей партизанская война представлялась Липранди несколько более сложным типом боевых действий и скорее служила способом предотвращения «народной» войны. В то время как многие его современники и позднейшие исследователи рассматривали сопротивление европейских народов наполеоновскому господству в качестве свидетельства определенного уровня национального развития, Липранди находил просвещенные нации неспособными к «народной войне», которую, по его мнению, могло вести лишь «нецивилизованное» население. Получив свой первый боевой опыт в Русско-шведской войне 1808–1809 годов, Липранди указывал на сопротивление по типу герильи, которое оказывало русским войскам саволакское население Новой Финляндии, в то время как «чистые шведы, жители Вестерботнии, народ просвещенный, оседлый и любящий семейственную жизнь и довольство» были «неспособн[ы] к народной войне»312. Липранди также отмечал неспособность Наполеона организовать «народную войну» во Франции в начале 1814 года. Хотя отряды ремесленников и мануфактурных рабочих на какое-то время задержали продвижение австрийских и прусских войск в Вогезах, продекларированное союзным командованием намерение сжигать селения и расправляться с любым жителем, найденным с оружием в руках, сильно охладило патриотический пыл французов, в отличие от испанцев и русских313
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
См.: Сборник материалов по гражданскому управлению и оккупации Болгарии в 1877–78–79 гг. / Ред. Н. Р. Овсяный. СПб.: Товарищество художественной печати, 1903. Т. 1. С. 3–4. Все даты даны по старому стилю.
2
Сборник материалов по гражданскому управлению и оккупации Болгарии в 1877–78–79 гг. С. 4.
3
Переписи населения, проведенные в 1880–1881 годах в княжестве Болгария и автономной провинции Восточная Румелия, выявили соответственно 580 000 и 170 000 мусульман (итого 750 000). См.: Methodieva M. Between Empire and Nation: Muslim Reform in the Balkans. Stanford, CA: Stanford University Press, 2021. P. 37. Напротив, довоенное мусульманское население этих территорий составляло около 1 250 000 человек. Эта цифра включает в себя 963 596 мусульман Дунайского вилайета, согласно османской переписи 1874 года (см.: Koyuncu A. Tuna Vilâyeti’nde Nüfusve Demografi (1864–1877) // Turkish Studies. 2014. Vol. 9. № 4. P. 675–737), и около 290 000 мусульман тех частей Эдирнского вилайета, которые после войны составили автономную провинцию Восточная Румелия (согласно оценке британского консула Генри Драммонд Вольфа). См.: Karpat K. Ottoman Population, 1830–1914: Demographic and Social Characteristics. Madison: University of Wisconsin Press, 1985. P. 50.
4
McCarthy J. Death and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims, 1822–1922. Princeton, NJ: Darwin Press, 1994. P. 59–108; Reid J. Crisis of the Ottoman Empire, 1839–1878: Prelude to Collapse. Stuttgart: Franz Steiner, 2000; War and Diplomacy: The Russo-Turkish War of 1877–1878 and the Treaty of Berlin / Ed. by H. Yavuz, P. Sluglett. Salt Lake City: University of Utah Press, 2011.
5
О Русско-турецкой войне 1828–1829 годов см.: Bitis A. Russia and the Eastern Question: Army, Government, and Society, 1815–1833. Oxford: Oxford University Press, 2006. P. 274–324.
6
Собственно военная сторона событий 1877–1878 годов освещается в: Barry Q. War in the East: A Military History of the Russo-Turkish War 1877–78. London: Helion, 2012. Османское измерение этой войны раскрывается в: Aksan V. The Ottomans, 1700–1923: An Empire Besieged. 2nd ed. London: Routledge, 2022. P. 279–287. Воздействие войны на население восточных Балкан освещается в: Methodieva M. Between Empire and Nation. P. 21–27.
7
См.: Jelavich B. Russia’s Balkan Entanglements, 1806–1914. New York: Cambridge University Press, 1991.
8
Black C. E. The Establishment of Constitutional Government in Bulgaria. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1943; Jelavich B. Russia and the Romanian National Cause, 1858–1859. Bloomington: Indiana University Press, 1959; Шпаро О. Б. Освобождение Греции и Россия (1821–1829). M.: Мысль, 1965; Достян И. С. Россия и Балканский вопрос. Из истории русско-балканских связей первой трети XIX века. M.: Наука, 1972; Станиславская А. М. Россия и Греция в конце XVIII – начале XIX века. Политика России в Ионической республике. М.: Наука, 1976; Jelavich B. Russia and the Formation of the Romanian Nation-State. Cambridge: Cambridge University Press, 1984; Meriage L. Russia and the First Serbian Uprising, 1804–1813. New York: Garland, 1987; Durman K. Lost Illusions: Russian Policies towards Bulgaria, 1877–1878 // Uppsala Studies on the Soviet Union and Eastern Europe 1. Uppsala, Sweden: Acta Universitatis Upsaliensis, 1988; Кудрявцева Е. П. Россия и Сербия в 30–40‑х годах XIX века. М.: Институт славяноведения и балканистики, 2002; Frary L. Russia and the Making of Modern Greek Identity, 1821–1844. New York: Oxford University Press, 2015; Rekun M. How Russia Lost Bulgaria, 1878–1886: Empire Unguided. Lanham, MD: Lexington Books, 2019.
9
О политике временной российской администрации в Дунайских княжествах см.: Гросул В. Я. Реформы в Дунайских княжествах и Россия (20‑е – 30-e гг. XIX в.). M.: Наука, 1966; Taki V. Russia on the Danube: Empire, Elites, and Reform in Moldavia and Wallachia, 1812–1834. New York: Central European University Press, 2021. О российской политике в Болгарии в 1878–1879 годах см.: Vinkovetsky I. Strategists and Ideologues: Russians and the Making of Bulgaria’s Tarnovo Constitution, 1878–1879 // Journal of Modern History. 2018. Vol. 90. № 4. P. 751–791.
10
Среди ранних русскоязычных работ на тему истории русско-турецких войн выделяется серия исследований А. Н. Петрова: Петров А. Н. Война России с Турцией и польскими конфедератами. Т. 1–5. СПб.: Веймар, 1866–1874; Петров А. Н. Вторая турецкая война в царствование Екатерины Второй. Т. 1–2. СПб.: Голике, 1880; Петров А. Н. Война России с Турцией, 1806–1812. Т. 1–3. СПб.: Военная типография, 1885–1887; Петров А. Н. Война России с Турцией. Дунайская кампания, 1853–54 гг. Т. 1–2. СПб.: Военная типография, 1890. Среди недавних исследований стоит отметить: Barry Q. War in the East, и Aksan V. The Ottomans.



