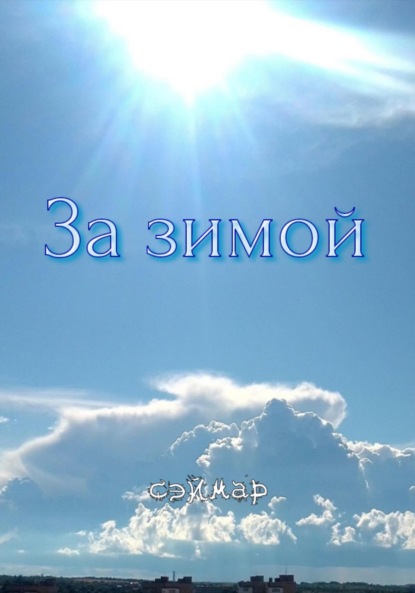
Полная версия:
За зимой
Услышав сию проникновенную речь, и увидев её светящиеся мечтой очи, зябы стали тянуть Тёгу, что было мочи. С двойной, с тройной силой! Она почувствовала их напор и думала уже, что всё, пришло ея время. Зяба уже приготовилась к смерти, в ожидании того, что сейчас её просто разорвут на части. Но вдруг случилось диво. Тёгу вытянули. Да не просто вытащили, а растянули до невозможного. После чего она стала похожа на длинную палку. Но живую, подвижную, и очень гибкую палку.
Сие увидели новоявленные родственники и попытались как-то объясниться, извиниться перед зябой.
– Ну, прости ты нас, мы не со зла. Так получилось.
Но Тёга на них и не злилась. Ведь она не глупая была и понимала. Для того, чтобы что-то получить, иногда приходится что-то потерять. Так уж устроен сей непростой мир. Да, у неё теперь не оказалось конечностей, если не считать один большой хвост, что, по-сути, и являлся её туловищем. Да, она лишилась возможности бегать, но получила нечто более ценное. Сей прекрасный мир, к которому так стремилась. Свет и тепло солнца, и всё многообразие земное. Тёга также получила и новую семью.
Для неё нашёлся хороший суженый, что полюбил змейку по-настоящему, понимал жену всем сердцем. Так они и стали жить вместе. И родились у них чудесные детишки. Что были похожи на мать. А дети мамы Тёги родили своих чад, оные были похожи на свою бабушку. Такие же проворные, быстрые, умные, да вот только без лапок. Так и зародился на земле род тёг, что дал начало всем его нынешним потомкам.
Глава 5. Готманы
Прекрасное, почти сказочное, лето опять завершилось. Время пролетело незаметно. Снова пришла пора идти в готманы, и сидеть там вплоть до самого следующего лета. Скучные, сырые, жёлто-серые дни тянулись мучительно долго. Утомительные, нудные и непонятные уроки, общее волнение, напряжение и усталость. Неуверенность и страх сделать что-то не так, и кому-то опять не угодить.
Всё вместе давило на мальчика, посему и обучение Тэтэнэр воспринимал как ограничение своей личной свободы, что началось ещё в его ранние годы.
Само детство у Тэтэнэра выдалось неоднозначное. С одной стороны, детство как детство, не сильно отличающееся от отрочества его ровесников, а в чём-то даже и лучше. Но с другой стороны, детства у Тэтэнэра не было. Оно оказалось ограничено младенчеством – первыми семью годами жизни, ну и тремя летними месяцами.
Младенчество, это было то самое – радостное и беспечное время жизни, когда родители проявляли всестороннюю заботу и опеку. Везде водили мальчика. Покупали ему сладости, читали сказки, показывали художественные произведения. Старались дать ему всё и не требовали, при этом, от него ничего. Он никому не был должен, не о чём не заботился, а только ел, пил, спал, играл, гулял, в общем, жил счастливо и беззаботно. Не о чём не думая, ведь привык, что думают за него.
Но после семи лет детство у Тэтэнэра, словно, приостановилось. Именно тогда он пошёл в готманы. Вернее будет сказать – его повели. Ибо сам он туда навряд ли бы когда-то пошёл. Изначально Тэтэ не понимал, что это такое и, что его там ждёт. Но родители радостно рассказали ему. Что, мол, готманы есть что-то весёлое и занимательное. Будто бы какой-то детский городок, куда пришёл, повеселился с ребятами и ушёл обратно домой. Но, увы, его обманули. На деле это оказалось совсем не так. Не весёлый городок, а целая детская темница.
Где сидишь часами, выслушиваешь какие-то скучные и совсем не увлекательные рассказы взрослых. Да ещё и вынужден делать то, что тебе не нравится, или вовсе не понятно. А тем временем, тебе нельзя ходить, бегать, разговаривать, пить, есть, открыто выражать свои чувства. Словом, нельзя делать то, что хочется. Даже в уборную, до окончания урока, выходить крайне нежелательно и обязательно надо спрашивать у аксёны разрешения. Тебе даже нельзя сидеть, так как удобно, а можно лишь так, как сказали и где тебе указали аксёны.
Тэтэ тогда думал, что всё сие лишь временные неприятности, что скоро кончатся. Ну, как очередная болезнь. Оной страдаешь, кашляешь, чихаешь, болит горло, но ты одновременно понимаешь, что недуг со временем пройдёт. Ты выздоровеешь и сможешь жить также здорово, как и прежде. Однако, в случае с готманами, это не сработало.
Шли недели, месяцы и годы, а лучше, почему-то, не становилось. Требовалось всё больше сидеть на одном месте, больше слушать, писать и запоминать. Прекрасно знать и понимать то, что Тэтэ было совсем чуждо, не понятно и даже неприятно.
Руки, очи, шея и голова его уставали, и даже болели. Отекали ноги и, уж извините за такие подробности, задница. Ибо часами сидеть на деревянном седалище, было сущим испытанием. Особенно, если оно оказывалось не по размеру, постоянно шаталось и скрипело.
Отдохнуть не получалось и на перемене.
– Ну, разве это отдых? Когда толпа готманщиков, крича и толкаясь, носится в тесном помещении, мешая друг другу и тебе, в частности.
А потом, через мгновение, возвращается обратно сидеть. Есть, конечно, одна более длинная перемена – для обеда. Но какой же то обед? Куча детей толкаются в тесной столовой. Мешая друг другу и тебе, в частности. Не давая даже полноценно поесть. В таком окружении и напряжении есть вообще нельзя, только навредить своему желудку можно.
Хотя и без сего можно было желудочно-кишечное расстройство заработать. Ибо пища в столовой подавалась, откровенно говоря, безобразная. Даже свиней, обычно, кормят лучше. Мутные тёти варили бездушное и безвкусное варево. В лучшем случае безвкусное. Радуйся, что не отравился и не подхватил какую-нибудь заразу. Ибо случаи отравления в заведениях общепита, в те годы, являлись отнюдь не редкостью.
Тэтэнэр понимал, что от такой еды, и общей напряжённой обстановки, ничего доброго ему не будет. Отмучившись где-то год в столовой, Тэтэ отказался от такого питания. Да и родители не стали возражать. Ведь за все сии «яства» ещё и платить следовало. Хотя семья их являлась многодетной, но всё равно не бесплатное то было «удовольствие». Посему, мальчик сидел голодный по шесть-семь уроков.
Лишь дома Тэтэнэр мог немного отдохнуть, от всего перенесённого, и вдоволь поесть. К счастью, родители хорошо готовили. Однако даже дома он не мог полноценно расслабиться. Тэтэ должен был каждый день делать домашние задания. А задавали тогда от души и почти по всем урокам.
К тому же, на своё горе, Тэтэнэр часто болел. Почти каждый месяц, а бывало и каждый. Остуда за остудой, больница за больницей, гундысы, лекарства и опять готманы, непонятные задания, строгие аксёны и общее уныние… А потом опять болезнь и всё повторялось. Недельные, а то и месячные, пропуски. Мальчик возвращался в готманы, а там аксёны сразу нещадно загружали его самостоятельными, проверочными и непонятными уравнениями, за которые Тэтэнэру всегда снижали оценку, ибо он их просто не понимал.
А объяснить ему, в сущности, было некому. Доступ в мировую сеть у мальчика тогда отсутствовал, а самостоятельно разобраться во всём не представлялось возможности. Родители, хоть и помогали, как могли, да вот только объяснить толком у них не получилось. Да и сами они далеко не во всём разбирались. Самим же учителям было не до Тэтэнэра, когда вокруг ещё куча других детей. Каждому отдельно часами объяснять, слишком уж много чести. Да и времени столько нет. Посему, в основном, только требовали. А Тэтэнэр, находясь в постоянном напряжении, недоумевал.
– Ну как можно требовать что-то от того, кто не знает, что от него хотят?
Из-за плохих отметок падала и самооценка. Отпадало желание учиться и вообще посещать учебное заведение. Появилось неприятие к тем аксёнам, что излишне грубо судили его. Да и готманщики тоже, порой, говорили нелицеприятные вещи и смеялись над Тэтэнэром. А с друзьями у него что-то совсем не задалось, с самого начала обучения. Поэтому и никакой поддержки от ровесников ждать не приходилось. Следовательно, не оказалось никакого желания продолжать сей непонятный путь. Ибо ходить по качающемуся, старому и дырявому мосту, без какой-либо опоры, занятие не очень приятное и безопасное, а главное, бессмысленное. Но деваться было некуда, и Тэтэнэр продолжал делать неуверенные шаги в пустоту.
Мальчик пытался вникнуть в суть уравнений и найти в них хоть какой-то здравый смысл и ключ к решению. Но не получалось, к одним находил, а завтра появились другие, более сложные и изощрённые. Старый ключ к оным уже не подходил. Только начинал подбирать ключ к решению этих, так уже новые стояли на пороге.
К тому же, к несчастью Тэтэ, мыслил он тогда иначе, в иной плоскости. Ему были понятны разумные задачи, основанные на естественных вещах, таких как: вес, мера, длина, высота, скорость, количество, прибыток, убыток, часть, доля и так далее. Всё, что основано на вещественном – он понимал и решал успешно, и даже увлечённо. Получая за жизненные задачи хорошие, и даже отличные, оценки. Когда Тэтэ решал такие задания, то и время для него пролетело незаметно. А когда же он чах над неясными уравнениями и прочими, отвлечёнными от настоящего мира, примерами, то и время тянулось мучительно долго.
Как же тяготили мальчика все эти призрачные числа и буквы, взятые из воздуха, и не имеющие никакого вещественного смысла и назначения.
– Что мы ищем? Зачем мы ищем, с какой целью вычисляем? А главное, как в жизни сие пригодится? Когда в них ничего из ничего взято и что-то с ничем делать надо. Всё равно, что воздух ловить и в мешках носить.
Словом, бесполезное и глупое занятие. В оном Тэтэнэр не видел никаких пересечений с жизнью настоящей.
Однако трудности и неприятности возникали у Тэтэнэра не только в науках, что называются «точными». Но даже в языках. Не то чтобы он был туземцем каким-то, что с дерева вчера спустился и никакого языка не разумел. Нет, родной язык мальчик, естественно, знал. И, поначалу, достаточно хорошо освоил основы письменной речи, а читал и вовсе на пять. Но вот потом пошли всякие разборы слов, частей слова, звуков и так далее и тому подобное. Всё то, на что совершенно не откликалась его душа. Понять сие Тэтэ не то чтобы не мог, он просто не хотел.
– А действительно, зачем мне такие знания, как правильно произносить звуки в слове «ёлка»? Когда я итак с младенчества знаю, как их произносить. Это у меня на подсознательном уровне воспроизводится. Зачем учить меня, носителя языка, как правильно говорить родные слово, с какими звуками, ударениями и так далее и тому подобное? Когда меня итак все понимают, а кто не понимает, то мне всё равно. От того не убудет. Вон немые живут и ничего, иностранцы в нашу державу переезжают и ладно. Не умирают от того, что язык в совершенстве не знают, а наоборот, дополнительным вниманием, прирождённых носителей языка, пользуются. К таким немцам относятся даже более снисходительно и почтительно, чем к чистым – прирождённым носителям речи.
Притом, язык постоянно меняется, развивается и будет развиваться. Сие естественное явление. А уравнивать всех под какой-то единый говор и устав, и нещадно косить иные говоры, и любые незначительные отклонения от правил, это точно не признак высокой духовности, человечности и образования. Ибо по-настоящему образованный человек знает, как появились и менялись языки и их наречия. Кто, как и когда придумывал правила и уставы. И что сии правила есть просто закрепление определённой молвы отдельной области, города, или даже, отдельного человека. Например, какого-то видного мыслителя, писателя, или стихотворца.
Но пройдёт время, появится новый говор, или более великий и значимый мыслитель, и тогда уже его книжную речь закрепят – как основную. Правила изменят, а предыдущие порядки станут ошибкой. Также как сейчас неправильно будет написать слово «щастлив» через «Щ». Хотя наш великий писатель, стихотворец и основоположник современного книжного языка – Ядрин, всего каких-то двести лет назад, писал слова: «щастлив», «милаго», «каждыя» именно так. Ибо тогда это не являлось оплошностью, как и многое другое. Ну, а сейчас так писать будет ошибкой, причём даже грубой. Хотя так говорят в народе.
Подумать только, всего двести лет прошло. Да и книги светоча ручейской словесности Ядрин в обязательном порядке проходят в учебных заведениях. Но уже в переводе, будто бы иностранца какого. Хотя Пересвет Святославич большинство считают основоположник современного книжного языка, но его всё равно переводят для тех, кому он вроде как язык сей и даровал.
Посему, зная всё это, и даже куда больше того, я понимаю, что нет смысла утруждать учащихся бесполезными знаниями. Детям нужно давать исключительно основополагающие сведения, без излишков. Только ту основу, что пригодится им в жизни. А не то, что понадобится разве только учёным языковедам, или опытным писателям. Ну, не каждый же собирается посвятить сему свою жизнь.
Лишь потом, повзрослев, я стал дотошно изучать словари, различные правила и порядки. Разбирать на песчинки каждое слово, знать наизусть почти все корни и их происхождение. Ведать какое слово исконное для языка, а какое иностранное заимствование.
С иностранным языком, кстати говоря, у меня вообще не задалось. Я его просто не знал, и разуметь не хотел. Да и возможность полноценно учить отсутствовала. Выхода в мировую сеть у нас тогда не было, а словари так себе. По словарям и учебникам иностранный язык учить, всё равно, что в трескучий мороз снеговика лепить, или кружкой воды целый лес тушить. Бесполезное и неблагодарное занятие. Притом, произношение в языке том совершенно отличалось от письма. Говорилось и писалось совсем разное. Из-за чего недоумевал не только я, но и мои родители.
– Ну, разве нельзя было просто писать, так как говоришь, или говорить, так как пишешь? Разве не судьба сделать так, чтобы был порядок? Что за язык у вас такой, будто бы пчёлы сей ваш язык покусали?
На своём языке меня свои всяко поймут, даже если я буду говорить, так как написано: «конечно», «совершенно» или «что». Ибо отличия в произношении и правописании незначительные. Хотя, правды ради, я читал летописи, и знаю, что раньше писалось именно «што». А на ужаленном языке скажи «лигхт», а не «лайт», или «тхроугх» и тебя же просто не поймут. Вот, что ты сейчас вымолвил?
В общем, не нравилась мне их мутная островная молва – по многим причинам. Посему и учить её не было ни желания, ни возможности. Ибо без взаимного желания не бывает ни любви, ни науки.
Это потом я, сам того не желая, выучил язык в письменном виде. Ибо стал много читать и переводить с иностранных источников. А потом и писателем стал. А доселе художественные произведения меня совсем не занимали, а скорее даже наоборот. В сём занятии я не видел вообще никакого смысла. А какая суть и польза читать мне то, что придумали люди, живущие несколько веков назад? Старое о старом, про всяких там помещиков, невольников, несчастных людей, разделённую, или неразделённую, любовь, убийства и самоубийства. Ну и всё в этом духе. Тяжело, непонятно и скучно.
Зачем мне читать о чьей-то выдуманной любви, счастье и горе? Как сие в жизни пригодится? Мне бы то, что на самом деле было, есть, или будет. Такие труды я бы с превеликим любопытством изучал даже в детстве. Ибо я всегда отличался своей неподдельной любознательностью к окружающему миру.
Как бы странно это не звучало, но повзрослев, я сам стал писателем и сам стал писать художественные произведения. Про то, чего не случилось, про тех, кого не было, про судьбы и чувства тех, кого не существовало. Расширяя кругозор, я читал и творцов прошлых веков. Но изучал исключительно прижизненные подлинники их произведений. Дабы быть ближе к истинному слову создателя книги, к его исконной речи. А не сотни раз переписанной, и переведённой, перепечатке. Но это уже совсем другой рассказ. А вначале мне предстояло обрести духовную свободу…
Сильное солнце ягодня неумолимо накаляло головы собравшихся на открытой площадке людей. Длинная цепочка готманщиков медленно, но верно входила в здание. На входе каждый из оных подлежал проверке удостоверения личности и тщательному обыску. Ибо по всей стране сим днём проходила Единая Государственная Итоговая Работа (ЕГИР) по родному языку. К проведению которой власти подходили особенно строго.
К ЕГИР учащихся готовили сильно заблаговременно. Ещё со средних готманов детей начинали страшить грядущими итоговыми. Нагружать внеурочными заданиями, навязывать различные учебные пособия за червонцы, и даже подталкивать к занятиям с платными преподавателями.
Некоторые аксёны, конечно, входили в положение, подбадривали ребят, и искренне давали им только полезные сведения и советы. А иные же, в лучшем случае, отмахивались от детей. Но находились и такие учителя, что и вовсе сознательно занижали самооценку будущих выпускников. Мол: «Не сдашь ты и на три, мой предмет на себя не бери, провалишь сам и меня в итоге опозоришь.»
Посему, из-за неуверенности и низкой самооценки, многие действительно сдавали не очень, из-за того что волновались и терялись, а иные и здоровье на итоговых портили. Ибо принимали временное испытание слишком близко к сердцу. Несчастные случаи тоже, в связи с этим, были не такой уж и редкостью. Вот и Тэтэ, не имея тогда ещё должного опыта и самообладания, искренне беспокоился в связи с грядущими испытаниями.
Ведь молодому человеку предстояло сдавать целых четыре итоговых в разные дни. Обязательные предметы: родной язык и числица, а также два по выбору. Избраны юношей оказались – любимое с детства – землеведение и народоведение. Хотел сдавать Тэтэ ещё и прошловедение, да вот только преподаватель отговорил его. Мол: «Ты не сдашь и на четыре, а я же тебе пять всё время ставил, несоответствие получится. С меня же потом спросят.»
Но особенно давила на юношу учительница по числице. Оная говорила ему, что: «Ты и на три не сдашь.» Но отговорить его от сдачи обязательного предмета, ясное дело, никак не могла. Благо хоть посоветовала готовиться удалённо по пособиям к ЕГИР в мировой сети. Где существовала целая площадка с похожими заданиями. Там можно было полноценно упражняться и тотчас проверять свои ошибки.
Настал тот день. Напряжённые месяцы подготовки остались позади. Подсказки были более недоступны, а молодой человек очутился один на один с новыми вызовами. Ему предстояло доказать другим, что он не глупый и образованный. Оправдать оценки преподавателей и не расстроить своих собственных родителей. Изнеможённый и обеспокоенный мальчик встал на порог готманов.
Однако, сразу его не вызвали, а отправили ждать вместе с остальными в условное помещение. Ибо готманщиков отправляли только по одному. По дороге Тэтэнэр чуть не упал, ибо сознание его пребывало во мгле. Днями ранее мальчика заразили какой-то весьма неприятной болезнью, из-за которой у него теперь был жар тридцать восемь делений в теле, ломота в мышцах, кашель и озноб. Ну и конечно, сущая каша в голове. Сосредоточиться и полноценно думать, в таком состоянии, оказалось наисложнейшей задачей. А тут ещё и томительное ожидание принялось изматывать его окончательно.
Прошло около часа и Тэтэ всё-таки вызвали. Наконец-то он очутился в условном месте, где смог выдохнуть с облегчением. Правда, то было такое себе облегчение. Ещё, по меньшей мере, полчаса уполномоченные сотрудницы ЕГИР всё подготавливали, распечатывали, раскладывали и объясняли участникам итоговой все особенности мероприятия.
Одна из аксён даже отметила не по погоде тёплое одеяние готманщика. Мол: «К участникам в таком виде более пристальное внимание сотрудников и устройств видеонаблюдения.» Но иначе было и невозможно, мальчик так оделся не из-за праздника, не для злого умысла и показухи какой, а в связи с тем, что с утра его бил дикий озноб и он еле вообще согрелся. Правда, через некоторое время юношу бросило в жар, что только добавило ему дополнительных неудобств.
С горем пополам Тэтэ сдал итоговую по родному языку. А в течение двух последующих недель и остальные ЕГИРы. Итоги пришли через некоторое время и приятно удивили мальчика и его родителей. Как оказалось, молодой человек не просто прошёл испытание, но и сдал всё хорошо. На четвёрки, так сказать.
Особенно его обрадовали отметки по числице и родному языку. Из двадцати заданий основной числицы он сделал правильно четырнадцать. А по родному языку из ста набрал почти семьдесят единиц. Конечно, можно было и лучше. Но для, привыкшего к неудачам, неуверенного и болящего, Тэтэнэра даже такие показатели оказались более чем удовлетворительными. Сущим чудом здесь являлось то, что он вообще сдал итоговые.
Не зря в народе говорят, что: «У страха очи велики.» Не напрасно видно существует ещё одна мудрость: «Что не убивает, то делает нас сильнее.»
Глава 6. Перемены
Настало время выпускного, а за ним минуло целых одиннадцать лет обучения. В руках Тэтэнэра лежало свидетельство об окончании учебного заведения. Где из оценок стояли лишь четвёрки и пятёрки. С таким удостоверением юноша без труда поступил в училище. Там оказалось уже куда легче. Лишним не перегружали, преподаватели не давили на учащихся. Было заметно меньше высокомерия, но больше равноправия и взаимного почитания. К тому же вкусно кормили в столовой, да ещё и за обучение платили.
Те два года пролетели как два месяца, после чего наступила окончательная свобода. Тэтэнэр наконец-то смог спать, когда угодно и сколько заблагорассудится, гулять там, где любо, читать и смотреть то, что нравится. У него появилось много свободного времени, оное юноша проводил исключительно с пользой. Просто так без дела никогда не сидел, ибо ему всегда было чем заняться. Тэтэнэр читал, слушал и смотрел, впитывал различные сведения яко губка. За последующие три года он узнал намного больше, чем за предыдущие тринадцать лет. Ведь у молодого человека наконец-то появилась полноценная связь и почти безграничная воля.
Однако, на работу Тэтэ так и не устроился. Причин для того было много, одна из них – безработица в его родном городе. Где даже люди с высшим образованием не всегда могли трудоустроиться по призванию. А те, что и находили оплачиваемый промысел, то вынуждены были работать за копейки, или же в достаточно скверных условиях. Таких трудников на долго не хватало и из города постоянно уезжали. Отток опытных работников наблюдался устойчивый, а население постоянно сокращалось. Закрывались готманы, больницы, не хватало гундысов. Остановил свою деятельность даже единственный местный роддом.
Чему не рад оказался и сам Тэтэнэр. Он писал обращения в ведомства и целые воззвания к властям, что трогали народ и вызывали бурю чувств и слов поддержи. Но только до дела оно не доходило. Ответы чиновников на обращения были исчерпывающие и достаточно однообразные: «Для полноценной работы родильного дома в городе Домове не хватает соответствующих сотрудников и средств государственного распределения.» Ведь никто не хотел ехать в сие захолустье, как и вкладываться в него. На Домове словно забили невидимый гвоздь. Место постепенно, но неумолимо, пустело… А Тэтэнэр сидел и смотрел на увядающую действительность, и летящие осенние листья.
Не заметив, как прошло сие долгое лето, Тэтэ тяжко вздыхал с приходом зимы. Правда, таких холодов, как в его детстве, уже не случилось. Лето шло даже дольше зимы, а сама студёная пора ограничивалась лишь тремя, положенными ей, месяцами, но даже они тяготили юношу. Ибо зимой время тянулось невыносимо долго, а, что самое обидное, приходило бессмысленно для него. Но Тэтэнэр не унывал, он научился думать плодотворно, и обращать неприятное в полезное. Поэтому, ещё с лета, молодой человек предусмотрительно откладывал всю домашнюю и сидячую работу на зиму. Однако, с приходом холодов, забывал о делах, и занимался чем угодно, но только не отложенными трудами.
В жилище его господствовал заметный беспорядок, что был почти всюду ещё с самого его детства. Ведь жил Тэтэ по-прежнему не один, вот и сделать что-то существенное, дабы исправить своё положение, времени и сил никак у себя не находил. То отвлекали, то сам отвлекался, то забывал, а, порой, и обстоятельства непреодолимой силы вмешивались. Посему всё переносил на потом:
– В темне не получилось, сделаю в морозне, в морозне не вышло, значит в лютне.
А там уже и весна, солнце, тепло, синее небо, первые цветы и отличное настроение. А главное, полное отсутствие желания делать что-то нежеланное.
Потепление шло, и лето становилось всё длиннее и жарче. Первое такое лето Тэтэнэр помнил прекрасно, ибо он вёл дневник наблюдений за погодой.
Весна выдалась тогда ранней, ещё в лютом сошёл весь снег. Сушень, лютень и талень стали предвестниками жаркого цветня, и я не опечатался. В первой половине весны стояла уже настоящая жара в тридцать делений тепла. И не день-два, что редко, но прежде случалось, а, по меньшей мере, целую неделю.
Весь цветень тогда оказался по-ягодному тёплым. Люди ходили в летней одежде, а кто даже купался в речке. Такая погода была непривычна для мест, где родился и жил Тэтэнэр. Где к цветню, обычно, только успевал сойти снег. А к середине месяца земля лишь покрывалась первой травой. Но в сей цветень растения уже полностью оделись пышной листвой, а по всему городу гудели косилки. В округе стоял резкий запах свежескошенной травы.

