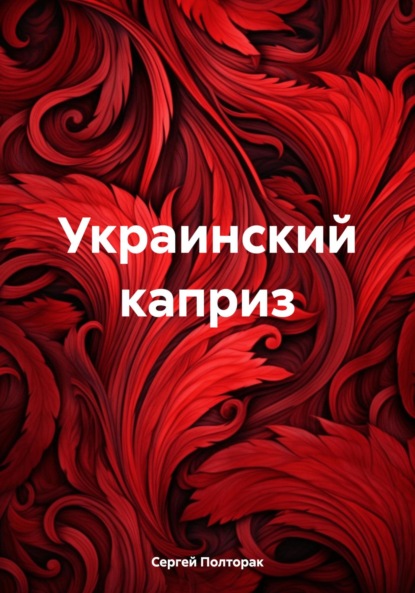
Полная версия:
Украинский каприз
– Не бойся, – сказал Андрий. – Баба Евгенька старая, погано слышит. Она даже не догадается, что мы тебя на улицу вызываем.
Я не боялся, но беспокоился о том, что друзья догадаются, что я сплю в одной кровати с бабушкой. Успокаивало лишь то, что камешек они будут кидать с улицы, не заходя во двор. С такого расстояния разглядеть, с кем я сплю, – невозможно. Да и темно ночью в хате. Это я хорошо понимал.
Перед сном, лежа в кровати, я, как обычно, завел разговор «про древность»:
– Это правда, что старый граф под своим домом клад закопал? – напрямик спросил я.
– Конечно, – не удивилась моему вопросу бабушка. – Это в селе все знают. Многие пытались искать, только напрасно: ничего не нашли.
– Почему?
– Копали не там. Надо было под графским кабинетом, а они на женской половине все перелопатили…
После этих слов она тоненько присвистнула, засопев негромко и ровно. Тихо перебравшись через нее, я бесшумно оделся, слегка споткнулся о высокий порог и выскользнул из комнаты. Выйдя со двора, я притаился в густых кустах сирени. Вкусно пахло мокрой травой и еще какими-то незнакомыми запахами. С реки доносилось веселое кваканье лягушек. Я поднял голову и залюбовался звездами, похожими на крупную желтую черешню, росшую возле нашего погреба. Среди них огромным гарбузом прямо надо мной нависла спелая луна. Казалось, что я – военный разведчик, забравшийся во вражеский тыл. Послышались неясные шорохи и при луне обозначились три силуэта. Стало ясно: это мои друзья. Дождавшись, когда троица поравнялась с местом моей засады, я негромко спросил:
– Стой, кто идет?
Троица вздрогнула и застыла на месте. Мальчишка, что был ко мне поближе, от неожиданности жалобно пукнул. Интуитивно я догадался, что это был Андрий. Засмеявшись, я вышел из кустов:
– Привет кладоискателям!
– Цыц, малохольный! – прошептал Толя. – Все село разбудишь своим смехом.
– Скорее они от Андриевого сигнала проснутся, – предположил я. Андрий промолчал, но в темноте мне показалось, что его уши опять стали прозрачными.
Мы зашагали к кладке – шаткому деревянному мостику, который вел с нашей стороны речки на другой берег, где располагалась основная часть Каменки. В нашей части села даже было понятие – «Та Сторона», то есть сторона главная, а не наша, маленькая, второстепенная. На Той Стороне было все, чего не было у нас: клуб, почта, сельсовет, два магазина, школа. Особые чувства у меня вызывала братская могила времен Великой Отечественной войны с обелиском советскому солдату. Меня охватывало детское благоговение, когда я приходил на то место. Оно, это благоговение, осталось в моей душе на всю жизнь.
Переходить кладку я боялся, потому что она представляла собой ненадежное сооружение – шаткие мостки без перил, нависавшие над водой метра на два, а то и больше. Доски кладки, протянувшейся нестройными рядами метров на двести, местами были гниловаты, а кое-где вообще отсутствовали. Деревянные столбы, на которых она стояла, скрипели и шатались, доски прогибались и пружинили. Одним словом, нужен был навык, чтобы преодолевать это препятствие. Я ходил через кладку всего-то пару раз с бабушкой в магазин, поэтому навык у меня был так себе. Толя и Андрий ходили по ней в школу ежедневно. Каждая доска была им хорошо известна. Так что чувствовали себя они на шатких мостках вполне уверенно. У Сашка опыт был не намного больше моего, но он смело шагнул на скрипучие доски. Я тащился замыкающим, и у меня кружилась голова. Страшно было свалиться с мостков, поскольку плавать друзья меня научили лишь неделю назад, да и то только по-собачьи. Но еще страшней было услышать шуточки в свой адрес. Поэтому я старался не отставать, с ужасом осознавая, что часто ступаю просто наугад. Наконец кладка закончилась, и я незаметно вытер майкой со лба выступивший пот.
– Считай, полдороги прошли, – шепнул мне Сашко. – Сейчас в гору поднимемся и свернем направо. А там – уже рядом.
Действительно, вскоре мы подошли к сельскому парку. Я помнил, что в глубине его стоит здание школы-восьмилетки, фундамент которой и есть основание, на котором до революции располагалась графская усадьба. Ее фундамент был непривычно высок. Сделан он был не из кирпичей, а из каких-то серых камней, которые при свете звезд отливали мрачной синевой. Подойдя к зданию школы, мы остановились перед входом, не зная, что делать дальше. Идеи, которых еще недавно в наших головах было множество, неожиданно куда-то испарились.
– Где будем копать-то? – хрипловатым от волнения голосом спросил Толя.
Его вопрос, скорее всего, был адресован самому себе, но я, не задумываясь, брякнул:
– Под кабинетом графа, где же еще?!
– Ты знаешь, где у графа был кабинет? – с нескрываемым сарказмом спросил он.
– Конечно! – смело соврал я. – Там, где сейчас кабинет директора школы.
Логика моя была, как мне казалось, железобетонной: кабинет главного человека в школе должен быть там, где был кабинет главного человека в усадьбе. А кто в ней был главным? Это было очевидно всем.
– Тогда надо обойти школу со стороны парка, – сказал Андрий. – Меня с батькой вызывали в директорский кабинет за то, что я электрическую лампочку в раздевалке спер. У него окно кабинета прямо напротив телеграфного столба.
– А зачем тебе была нужна лампочка? – удивился я.
– Хотел в курятник дома свет провести, – сказал друг, и все мы отнеслись к такому объяснению с пониманием. Любовь Андрия к курам была хорошо известна.
Мы подошли к телеграфному столбу и дружно посмотрели на окно директорского кабинета.
– Будем здесь копать под фундаментом? – спросил я.
– Нет, – решительно сказал Толя. – Надо залезть под здание школы и копать с внутренней стороны. – Вот под окном слуховое окошко в подвал, видите.
– Так на нем же решетка и замок здоровенный висит, – растерянно сказал Андрий.
– Так зачем тогда топор брали? – хмыкнул Сашко и, взяв его из рук Толи, смело ударил по замку. Замок поддался не сразу, но после нескольких ударов его дужка выскочила из гнезда.
– Что и требовалось доказать! – по-взрослому сказал Толя и первым полез в окошко.
Втиснуться в него каждому из нас удалось с трудом.
– Главное, чтобы голова прошла, – объяснил всезнающий Андрий. – Голова пролезет, проскочит и остальное.
В подвале было сыро и прохладно. Сильно пахло кошками и какой-то гнилью. Я невольно поежился и посмотрел на Сашка, который решительно взял в руки лопату и начал копать прямо возле фундамента.
– Почему именно здесь? – удивился я.
– С чего-то начинать все равно нужно, – просто объяснил он.
Андрий покрутил фонарик, и его луч стал рассеянным, охватив светом большое пространство. Вокруг валялись какие-то обрывки газет, несколько сломанных табуреток и ржавый умывальник.
– Под умывальником копни! – посоветовал зачем-то Толя.
– Вот ты такой умный, сам и копни, – сказал, передавая ему лопату, Сашко.
Толя откинул в сторону умывальник и сноровисто начал копать, словно работал на грядке в огороде. Через какое-то время под лопатой что-то звякнуло, и Андрий поднес фонарик еще ближе к выкопанному в земле углублению. Толя отбросил лопату и осветил белый предмет не очень большого размера, лежавший в земле.
– Бабочка какая-то, – поделился я своим наблюдением.
– Сам ты бабочка, – укоризненно сказал Андрий. – Это, похоже, ангел.
– Что такое ангел? – удивился я.
– Это божье создание такое, оно летать умеет, – заметил Сашко.
– Бога нет! – поделился я своей осведомленностью.
– Бога нет, а ангел есть! – сказал Толя, вытирая свою находку о штаны. – Посмотрите, хлопцы, какой он хорошенький! На Веню нашего похож, только с крыльями.
Мы посмотрели. Ангел, действительно, был хорош. Если бы не крылья, он на самом деле чем-то смахивал на меня, и от этого мне было неловко.
– Он – мальчик или девочка? – задал я практический вопрос.
– Ангел – он просто ангел, понятно? – сказал Толя. Я согласно кивнул, хотя так и не понял, как это можно быть не мальчиком и не девочкой.
Домой мы возвращались с чувством усталых людей, на которых внезапно обрушился успех. Андрий предположил, что этот ангел сделан из серебра и весит около килограмма.
– На базаре в Новомиргороде или в Златополе за него можно знаешь сколько грошей получить?! – спросил меня Андрий. Я не знал. Никто из друзей, правда, не знал этого тоже. Мы договорились, что продадим ангела, а на вырученные деньги отправимся путешествовать в Африку. Эта идея всем очень пришлась по душе. Я так был ею окрылен, что перемахнул кладку через речку с неожиданной легкостью. На улице не было ни души, но по каким-то непонятным нам самим признакам мы чувствовали, что скоро начнет светать. Сашко, попрощавшись, свернул в свой двор первым. Вскоре скрипнул своей калиткой Андрий. Следующая хата была моя.
– Коль ты так на него похож, возьми ангела и спрячь у себя где-нибудь, – неожиданно предложил Толя. Я взял в руку тяжелую фигуру и попытался запихнуть ее в штаны. Не получилось.
– Да не тыркайся ты, – усмехнулся Толя. – Спрячь где-нибудь, сказал он. Хлопнув меня на прощание по плечу, друг зашагал к своему дому.
Я засунул ангела под крышу погреба, где у меня находился тайник. Прятать там было раньше нечего, но тайник я зачем-то оборудовал. Вот и пригодился!
Уснул я мгновенно и спал, вероятно, довольно долго. Бабушка и тетя Маня говорили на кухне, возле печки, нарочито громко, гремя чугунами. Я нехотя вылез из-под теплого одеяла.
– Проснулся, соня-засоня? – усмехнулась тетя. – А я уж думала: кто мне поможет в печь хлебыны ставить? Не бабушку же просить, когда дома мужчина есть.
Я быстро сбегал к умывальнику, налил в него холодной колодезной воды и начал плескаться, как папа – до самого пояса. Мне очень нравилась такая утренняя процедура. Фыркая от удовольствия, словно бригадирский конь по кличке Джонсон, я думал о том, какой же я взрослый: по ночам хожу на Ту Сторону выкапывать клад, умываюсь, как папа, холодной водой и сейчас буду помогать ставить в печь здоровенные хлебыны, каждая из которых размером с ведро, даже больше!
Явившись в кухню, я с готовностью взял длинную деревянную лопату с отполированной от долгого употребления длинной рукоятью и положил ее плоской частью на край печи. Тетушка ловко поставила на нее форму с тестом и кивнула мне: «Двигай!». Я решительно протолкнул лопату в глубину печи, где ярко горели и переливались красно-желтыми красками раскаленные угли.
– Лопату мне спалишь! – проворчала тетя Маня и сноровисто вытащила ее из печи. Форма с будущей хлебыной осталась на углях, словно формочка в детской песочнице. Вежливо отодвинув меня в сторону крепкой рукой, тетушка поставила в печь еще пять форм с тестом и закрыла ее жерло полукруглой металлической заслонкой.
– Спасибо, Веня, помог! – зачем-то поблагодарила она.
– Ничем не помог, – насупился я. – Ты сама все сделала.
– Нет, первую хлебыну, самую дальнюю, ты поставил! – возразила она. – Дальше уже мне проще было. Так что помощник из тебя хороший растет. Иди на веранду, бабушка тебе кашу сварила. А через час горяченького хлеба с маслом покушаешь.
Я послушно пошел на веранду, где стоял большой обеденный стол. Увидев меня, бабушка положила в тарелку гречневую кашу.
– Гречневая! – скривился я. – Манную хочу!
– Каша манная – любовь обманная! Каша гречневая – любовь вечная! – нараспев сказала бабушка.
Спорить я не стал: вечной бабушкиной любви мне хотелось больше, чем каши.
Пришла тетя Маня и тоже села за стол. Бабушка положила кашу в большую глиняную миску и взяла две ложки. Тетя Маня и бабушка Женя ели из общей тарелки, вежливо чередуя свои движения: вот бабушка зачерпнула кашу и поднесла ложку ко рту, а в это время в миску нырнула тетина ложка.
– Вы что, бедные? Экономите на тарелках? – спросил я.
– Нет, мы не бедные, – улыбнулась тетя Маня. – Это привычка такая, традиция, можно сказать.
– А зачем такая традиция?
– Не знаю, – пожала плечами тетя. – Просто традиция. Может, подчеркивает, что мы – близкие люди, не брезгуем друг другом. У нас в семье всегда так ели.
– Тогда почему мне положили отдельно?
– Потому что ты – гость. Тебе особый почет и уважение.
– Не хочу почета и уважения – я не король! Хочу вместе с вами из одной тарелки.
– Хорошо, – сказала тетя. – В следующий раз так и поступим. А пока ешь давай. Скоро хлеб из печи вынимать: тебе силы нужны.
Я ел и мечтал о том, что в следующий раз буду есть из одной тарелки с тетей или бабушкой, потому что мы – родня, самые близкие люди на свете. Конечно, есть мама и папа. Они еще роднее. Но их пока рядом нет. Так что ближе из родичей у меня здесь никого. Есть еще дедушка Никодим и мои браты – Андрий, Сашко и Толя. Я с ними тоже буду есть из одной тарелки.
Вскоре подоспел свежий хлеб. Тетя Маня вынула его из печи, словно фокусник в цирке, и поставила на лежанку рядом, накрыв чистым белым рушником.
– Полотенцем зачем накрываешь? – полюбопытствовал я.
– Ему ж холодно здесь после печи, – улыбнулась тетя. – Пусть согреется пока. Да и черстветь не будет.
– А когда дашь попробовать? – сглотнул я неизвестно откуда подкатившую слюну.
– Сейчас и дам, – сказала тетя и потянулась к огромному ножу с деревянной ручкой.
Хлеб был горячим и душистым. Тетушка щедро намазала его сливочным маслом, но оно мгновенно исчезло. Я изумленно смотрел на огромную краюху.
– Что дивишься? – улыбнулась тетя Маня. – Вот в школу пойдешь, на уроке физики тебе объяснят, почему масло на горячем хлебе тает.
– А ты физики не знаешь? – поинтересовался я.
– Знаю трохы, – хмыкнула тетушка. – Высокие температуры влияют на процесс перехода веществ из одного физического состояния в другое.
– А по-русски можешь сказать?
– Это и есть по-русски, но только по-взрослому.
Интерес к физике у меня тут же пропал. Куда интересней было следить за тем, как растопленное масло втекает в дырочки на теле необъятной краюшки.
– Дай посолю тебе. Будет вкуснее, – сказала тетя и одним точным движением разметала горсточку соли по моей горбушке. Действительно, стало еще вкуснее. Я зажмурился и представил себе, как мы с братами путешествуем по Африке. Мы печем себе такой же вкусный хлеб, охотимся на львов и пляшем с местными жителями, у которых из одежды – только бусы. Хотя нет. Львов мы не стреляем – жалко. Они красивые и обязаны жить, как и все живое. От мечтаний меня отвлек пронзительный свист за окном. Это свистел, вызывая меня погулять, Сашко Пивнык. Его свист – предмет моей зависти. Правда, Сашко обещал меня научить свистеть так же, и это – моя заветная мечта.
– Иди погуляй, Веня: вон твой Соловей Разбойник под окнами круги нарезает! – подтолкнула меня к двери тетушка.
Я рванул, словно космический корабль Гагарина.
– Панамку надень, голову напечет! – послышалось мне вслед, но нижние ступени моего космического корабля уже отвалились и возвращаться за какой-то там дурацкой панамкой времени не было. Вылетев на улицу, я протянул Сашку свой ломоть хлеба.
– Ух ты, еще горячий! – восхитился Сашко, откусывая разом почти половину краюхи. – Моя мамка хлеб не печет, – огорчился друг.
– Не умеет? – удивился я.
– Умеет. Просто батька всю муку, что в колхозе получил, пропил. Вот и не печет.
Мне стало жалко Сашка и его маму тетю Галю. Она у Сашка очень добрая и веселая. А еще она очень красивая. На нее можно смотреть, как на картину. Это даже мне, ребенку, понятно. Сашко любит рассказывать о том, что его отец, дядя Миша, побил много парубков, прежде чем добился взаимности красавицы Гали. У меня по этому поводу есть сомнения, потому что отец Сашка – хромой инвалид. Но я помалкиваю, даже восхищаюсь тем, как самозабвенно врет мой друг и брат.
– Пойдем, хочу тебе одну тайну раскрыть, – почему-то шепотом сказал Сашко.
Тайны я любил, и мы неспешно пошли в сторону Камня. Камень – это наш местный пляж. На самом деле камней там несколько. Они лежат вдоль берега Большой Выси огромными плоскими махинами и напоминают небрежно сделанные бетонные плиты. Камни лежат немного под углом и уходят вглубь реки. Я надеялся, что, когда научусь хорошо плавать и нырять, исследую их на глубине самым внимательным образом. Зачем? Чтобы стать самым лучшим ныряльщиком в селе. Такие вот планы.
– Ты знаешь, откуда берутся дети? – спросил Сашко.
– Родятся как-то, – пожал я плечами.
– Как-то! – скривился в ехидной улыбке друг. – Вы, городские, прямо как малые дети, ей Богу! Садись и слушай.
Он рассказывал мне о процессе деторождения часа два, а, может, и больше. Вряд ли Сашко за свою жизнь встречал более благодарного слушателя. Затаив дыхание, я вникал в суть знакомых и незнакомых слов, изредка нерешительно задавая вопросы:
– Как это, когда встанет? Разве она может как-то встать?! – тайком косил я глаза на свои полинялые трусы.
– Еще как может! – уверенно кивал Сашко, словно рассказывал о своем отце, который побил в молодости несметное количество парубков.
К концу монолога друга я был морально раздавлен и смятен. На меня навалилось столько новой информации и эмоций, что я не знал, что с ними делать.
– Они что, это на кровати делают, или где? – ошарашенно спросил я.
– На кровати, конечно, где же еще?! – удивился моей тупости Сашко.
– А на оттоманке могут? – вспомнил я родительский дом.
– А это что такое? – удивился друг.
– Диван такой, с круглыми подушками по краям, – попытался пояснить я.
– На диване – могут, – почему-то помедлив, сказал он.
Вероятно, мое лицо было таким растерянным, что друг решил сделать мне небольшой подарок:
– Давай свистеть тебя научу.
– Давай! – восторженно закивал я, предвкушая счастье приобретаемого умения.
Домой я вернулся ближе к полднику, пропустив обед и послеобеденный сон.
– Веня, бисова твоя кровь! Ты где болтался?! – грозно закричала с порога на меня тетя Маня. – Бабушка все село оббегала, думала ты с кладки упал!
– Я без спроса на кладку не хожу! – соврал я. – Мы с Сашком на выгон ходили, он меня свистеть учил.
– Научил? – скептически хмыкнула тетушка.
В ответ я свернул язык трубочкой и дунул, что есть мочи. Свист получился не хуже, чем у Сашка. Пара диких голубей, сидевшая на ветке акации, взвилась ввысь. Лохматый пес Пират на всякий случай спрятался в будку.
– Цыц ты, малохольный! – испугалась тетя Маня. – Лучше бы чему путному научился! Пойдем покормлю тебя: борщ четыре раза подогревала.
Борщ – это моя слабость. Но только если его готовит бабушка или тетя Маня. Больше никто-никто на земном шаре готовить его не умеет. Даже мама. Однажды она написала письмо моей тетушке, в котором попросила рецепт борща. Тетя Маня выслала. Мама варила борщ, каждую минуту заглядывая в «инструкцию». Получилась полная ерунда. По цвету – борщ, по вкусу – какая-то помойка. Помню, тетушка говорила, что борщ нужно готовить с душой. Может, у моей мамы душа какая-то не такая? Думаю, душа у нее очень даже хорошая, только для борща как-то не приспособленная.
Наевшись, я настроился на веселый лад. Захотелось немного пошутить, или, как стали говорить спустя многие годы, поприкалываться. Обогащенный новыми знаниями, полученными от Сашка, я был не в силах держать их в себе: меня распирало от жизненной мудрости.
– Теть Мань!
– Чего тебе, Веня?
– А меня в капусте нашли?
– Конечно, а где ж еще?
– Меня туда аист принес?
– Известное дело, аист.
– Он меня нечаянно выронил, потому что у него в клюве зубов нема?
– Может, и так.
– А я в Каменке родился или в Ленинграде?
– В Ленинграде, сынок, в Ленинграде.
– Но в городе на асфальте не растет капуста!
– Я вот сейчас возьму лозыну и надаю тебе по заднице! – резко вышла из себя тетя Маня.
Я знаю, что такое лозына, слишком хорошо: тонкий, чаще ивовый, прут не однажды настигал меня в качестве воспитательного инструмента. Боль от него вполне терпимая, но как-то это унизительно получать по спине и филейному ее окончанию частицей живой природы.
– Наверно, аист в овощной магазин залетел и оставил меня в капусте, – начал я давиться от смеха.
– Ото ж! – согласилась тетя, и мир был восстановлен.
– Теть Мань, а можно я завтра к деду Никодиму в гости схожу? – спросил я, пользуясь хорошим настроением тети.
Теперь, после смерти бабушки Дуни, мое общение с дедушкой вдруг стало носить, как сказали бы взрослые, политический характер. Дело в том, что дед вскоре после того, как остался один, женился на совершенно не знакомой никому бабке Агафье из Златополя. Еще недавно Златополь был самостоятельным небольшим городком, но теперь его объединили с нашим райцентром Новомиргородом в один общий город. Это было несложно, поскольку два города разделяла только наша речка Большая Высь, которая в том месте совсем неширокая. Но люди по привычке разделяли Новомиргород и Златополь, называя первый почтительным словом «Город», а второй – по его прежнему названию. Получалось, что в отличии от Новомиргорода Златополь – «черт-те шо и с боку бантик». Вот в этом-то «бантике» и отыскал себе дед Никодим новую бабку. Сама по себе она была неплоха: улыбчивая, тихая, даже симпатичная старушка. Ко мне относилась хорошо. Но моя мама, узнав о женитьбе своего отца, отказалась от общения с ним навсегда. Передо мной впервые в жизни встал взрослый вопрос: кого поддержать. Если честно, я по этому поводу долго не думал. Дедушку я очень любил и не собирался мстить ему за его неверность покойной бабушке. Мамины чувства я понимал, но позицию ее не разделял. В нашей сравнительно небольшой семье началась собственная маленькая Гражданская война. Отец хотя и не любил деда Никодима, считал, что я должен с ним видеться. У мамы были по этому поводу другие взгляды. Ее поддерживала тетя Маня. Бабушка Женя, подобно Швейцарии, соблюдала нейтралитет.
– Веня, ты видел мой альбом с открытками? – вдруг вкрадчиво просила тетя Маня.
– Конечно! – восторженно ответил я, вспоминая великолепную коллекцию роз.
– Он – твой! – медовым голосом сообщила тетушка. – Только знаешь что, ты не ходи, пожалуйста, к дедушке Никодиму.
– Я люблю дедушку больше, чем твои открытки, – дрожащим голосом сказал я и сделал вид, что пошел в туалет, находившийся в глубине сада. В самом его конце, за яблонями и сливами, росла бузина, плотно обвитая хмелем. Я забрался в заросли хмеля и бузины, дав волю своим чувствам. Я ревел беззвучно, взахлеб, совершенно не справляясь с навалившимися чувствами. Почему-то из носа потекли разливанным морем сопли, хотя было лето и никакого насморка у меня быть не могло. Мне было жалко умершую бабушку Дуню, оставшегося без нее дедушку Никодима, мою милую маму, не простившую своего отца, и даже почти не знакомую мне бабу Агафью. И еще мне было жалко себя. Но дедушку еще больше. Я вспомнил его одышку, стариковское грузное тело, морщинистое лицо, коричневое от работы в саду и на пасеке под жестокими лучами солнца, и зарыдал во весь голос. Ревел я долго, до изнеможения. Окончательно устав, я через сад пошел к хате своего друга и соседа Андрия Постыки. Тот сидел на завалинке и что-то строгал перочинным ножичком. Увидев меня, он ничуть не удивился:
– Вот сопилку мастрячу. Хочешь, подарю?
Я кивнул. Дудочка была сделана из ветки сирени. В ней было три дырочки: одна с торца и две сверху. Андрий приложил к торцевому отверстию губы и заиграл какую-то простенькую, но очень симпатичную мелодию.
– Держи, попробуй, сыграй.
Я начал дуть. Звук был ровный, монотонный.
– Ты дырочки затыкай пальцем по чуть-чуть, тогда музыка получится, – заверил меня Андрий.
Я настолько увлекся этим нехитрым музыкальным инструментом, что на время забыл о своем горе.
– Андрий, Веня часом не у тебя?! – услышали мы из-за забора голос тети Мани. Андрий внимательно поглядел на меня. Я пожал плечами: дескать, говори, что хочешь.
– У меня, Маня Гавриловна, – сказал Андрий и извиняющимся взглядом посмотрел на меня.
– Веня, иди до хаты. Бабушка тебе оладушек твоих любимых напекла.
Я нехотя поплелся к калитке.
– Дудочку забери! – сказал Андрий. Я кивнул на прощание и потащился домой.
После ужина тетя Маня подошла ко мне и словно маленького погладила по голове:
– Прости, Веня, я была неправа. Конечно, иди завтра к деду. И альбом с открытками забери – он твой.
Не знаю, как так получилось, но после ее слов я начал рыдать в голос. Все чувства, что я кое-как сдерживал в себе, прорвались наружу. Пока тетушка пыталась своей взрослой хитростью повлиять на меня, я кое-как сдерживался. Но когда она перестала хитрить и опять стала доброй и родной, я не выдержал и перестал сдерживаться.
– Я взрослый, я не буду плакать! – сказал я сквозь слезы.
– Взрослые тоже иногда плачут, поверь мне, мой хороший, – сказала тетя, и мне показалось, что губы ее дрогнули и она сама вот-вот заплачет.
Утром я собрался в гости к дедушке Никодиму. Пошел рано в надежде, что успею сходить с ним на рыбалку. Но как я ни старался, к моему приходу дедушка уже ушел на речку.

