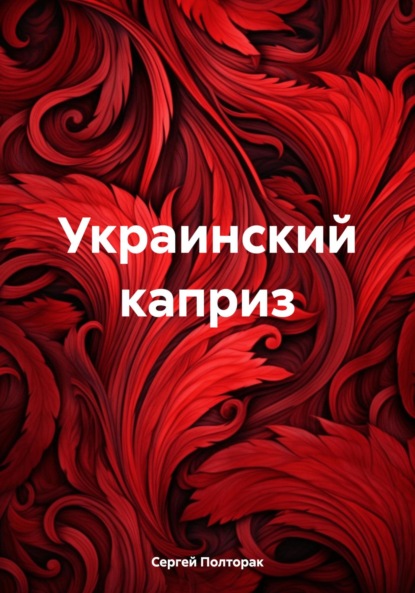
Полная версия:
Украинский каприз
– Чистые сливки, а не молоко! – говорила бабушка и давала мне напиться сразу после дойки прямо из ведра.
Я пил это парное молоко, пахнувшее лучшими запахами на свете! Оно отдавало теплым летом, сочными травами нашего залужья, бабушкиными добрыми руками и милой сердцу Зорькой. Мои желтые кудри норовили упасть прямо в ведро, но бабушка успевала подхватить их и бережно придерживала, пока я пыхтел, втягивая в себя эту божественную влагу.
– Хватит, Веня, отдохни трохи, – уговаривала бабушка. – Я потом тебе еще налью.
Я нехотя поднимал голову и смотрел в бабушкины глаза. Они сидели глубоко-глубоко на ее смуглом морщинистом лице и напоминали мне два голубых озера.
У меня была тайна, которой не знал никто из моих друзей. Ночью я спал не как взрослый – один, а вместе с бабушкой. Так было заведено и это мне нравилось. Бабушку можно было обнимать, как маму, и я этой возможностью очень дорожил. Кроме того, перед сном мы с бабушкой Женей всегда вели интереснейшие разговоры. Они начинались всегда с одной и той же моей фразы. Уткнувшись в бабушкино плечо, я шепотом непременно ей говорил:
– Расскажи мне про древность!
И бабушка всегда что-нибудь рассказывала про дореволюционные времена, и слушать ее было невообразимо интересно.
– Когда-то, давным-давно, – говорила бабушка, – в нашем селе была усадьба знаменитого графа генерала Алексея Александровича Стенбок-Фермора и его жены графини Маргариты Сергеевны, которая до замужества была княжной Долгоруковой. Были у них три дочери и сын. Одна дочь умерла еще маленькой, а две другие выросли красавицами и умницами. У них были добрые сердца и светлые души.
– Светлые души – это как, бабушка? – не понимал я.
– Это как у тебя, – непонятно объясняла мне бабушка. Но это объяснение было бесконечно приятным.
– А сын? Каким был сын графа?
– Сын был военным офицером. Все на красивых лошадях гарцевал и усищами своими девчат наших смущал.
– Как это смущал?
– Вот отрастишь усы, тогда узнаешь.
Я засыпал с мечтой об усах, которыми зачем-то буду смущать каменских девчат, особенно Томку, а еще лучше Ленку, а, может быть, даже саму Светку…
Ночью мне снились замечательные сны. Я купался, сколько хотел, в речке, и бабушка не кричала мне, как всегда:
– Вылезай, а то верба из задницы вырастет!
Снились мне и мамочка с папой, которые приехали ко мне в Каменку, и мы втроем гуляли вдоль реки, вдоль нашей любимой Большой Выси. И в Ленинград мы совершенно не торопились, потому что там нелюбимый детский сад с его Тамаркой Тимофеевной и нет моих закадычных друзей Андрия и Сашка.
Иногда я просыпался ночью оттого, что во сне мысленно разрывался на части между родителями и друзьями. Вот ведь как подло устроена жизнь: либо быть рядом с мамой и папой, но без Андрия и Сашка, либо наоборот. Иногда от этой горькой мысли я начинал во сне тихонько плакать. Бабушка просыпалась и, причитая, протягивала мне кружку с водой:
– Пей, мой хороший, пей. Поспи, все печали забудутся.
Я делал несколько глотков и мгновенно засыпал. Печали, действительно, куда-то пропадали.
Из бабушкиных рассказов «про древность» я узнавал всегда много нового и неожиданного. То она рассказывала, как в графской конюшне содержался настоящий верблюд и жители всего села с изумлением смотрели на эту «хворую конягу», то вспоминала, как девчонкой тайком бегала на помойку возле графской кухни собирать картофельную кожуру:
– Повар графа и его помощницы начистят, бывало, картошки, а кожуру вынесут на помойку. Мы с подружками собирали ее в корзинки и относили домой.
– Вы ели эту кожуру? – с сопереживанием спрашивал я.
– Зачем ее есть? – удивлялась бабушка. – Мы ее в землю сажали и вырастала обычная картошка. Главное, чтобы глазки́ сохранялись на кожуре. Этого хватало для роста. Земля у нас плодородная: палку воткни – яблоня вырастет. А если еще навозом удобрить, то и целый ананас может поспеть.
– Ананас?! – взвизгивал я от радости.
– Шучу-шучу, – шла на попятную бабушка Женя, но было поздно: всю ночь мне снилось, как из картофельной кожуры у нас на огороде вырастают невиданные деревья, похожие на пальмы. И мне понятно, что это – картофельно-ананасовые деревья. Соседи удивляются, Андрий и Сашко страшно мне завидуют, а я хожу вдоль ананасовой плантации и щедрой рукою раздаю направо и налево колючие сочные плоды диковинных картофельно-ананасных деревьев.
Однажды перед сном бабушка раскрыла мне семейную тайну. Она сказала, что, если бы не граф Стенбок-Фермор и его семья, меня бы не было на свете.
– Как это не было бы?! – в ужасе прошептал я.
– А вот так, кудрявая твоя головушка, – ласково сказала бабушка и горячо зашептала мне на ухо:
– Было это очень давно, еще до моего рождения. Моя мама, которую звали Настей, служила горничной у младшей дочери графа, Маргариты, названной в честь своей матери. Сам понимаешь, где графская дочь, а где ее служанка – пропасть! Но были они ровесницами и незаметно подружились. Твоя прабабушка Настя влюбилась до беспамятства в графского конюха, которого звали Иваном. Парубок был видный – краше в селе не было никого. Чуб у него был желтый-желтый, кудрявый и свисал из-под картуза, как ветка спелого крыжовника. А сам Иван был из богатой семьи гагаузов.
– Французов? – на всякий случай уточнил я.
– Каких еще французов? – удивлялась бабушка. – Какие у нас тут французы? Гагаузы – это люди такие, народ такой. Типа турки, только крещеные.
– Брешешь ты все, бабушка! Хоть и старая, а брешешь! Не может быть у нас в Каменке никакого турка.
– А вот и может! – немного разозлилась бабушка. – Ты вот сам упертый, как турка!
– Я не турка, я – Веня, – убежденно сказал я.
Мы долго молчали, и я почувствовал, что еще немного и бабушка заснет.
– Не спи, не спи! Ты мне еще про своего гагауза не рассказала, – начал тормошить я бабушку Женю.
– Он такой же мой, как и твой, бисова твоя душа, – проворчала бабушка и продолжила рассказ. – У нас тут в селе были гагаузы. Не то чтобы много, но были. Люди как люди. И говорили по-нашему, хотя и по-своему тоже лопотали, и в сельскую церковь ходили исправно, и одевались так же. Лицом вот только были смуглее немного, да и только. Даже со светлыми волосами бывали, как тот Иван, например. Они хорошими были хозяевами, скотину любили и умели за ней ухаживать. Через то и богатство у них было. Честно зарабатывали, не жулики какие. Так вот, Настя полюбила Ивана, а он, стало быть, ее. И понесла она от него…
– Что понесла? – не понял я.
– Не что, а кого! Меня, бабку твою, вот кого!
Я с ужасом представил, как молодая девушка Настя куда-то понесла на плече, как мешок с мукой, мою бабушку Женю.
– Зачем она тебя понесла? – очень заинтересовался я.
– Это ты у своего умного папки спроси. А я тебе про древность рассказываю, – ловко вывернулась бабушка. – Так вот, захотели они пожениться, а родители Ивана – ни в какую! Не нужна им невестка из бедной семьи. Богатую им подавай. И отправили они Ивана в далекое село, аж в Защиту, где женили его на богатой, хотя она и старше его была годами. А куда деваться? С папкой и мамкой не поспоришь, женился! Мамка моя, Настя, решила с горя повеситься. Собралась уж было, но побоялась из-за веры нашей православной. Решила, что греха грехом не замолишь, и подалась пешком аж до Киева. А это, считай, все триста верст будет. Долго она шла босая по непогоде, но все-таки дошла. И в самом главном храме Киева усердно молила Господа о прощении за свое согрешение.
– И что же, Бог послушал? – с иронией юного атеиста спросил я.
– Представь себе, послушал. Мужа хорошего приберег ей Господь. А Ивана наказал. Лет через пять, а может чуть больше, ослеп он совсем. Жена выгнала его из дома, и вернулся он в родное село.
– И они с Настей поженились?
– Нет. Говорю же тебе: Господь ей мужа дал, когда я еще у нее в утробе была. После того, как она вернулась из богомолья в Киеве, ей пришлось во всем признаться барыне-подруге – графской дочери Маргарите. Та рассказала своей матери, а графиня, как положено, графу Алексею Александровичу. Тот был добрым и справедливым человеком. Велел он пришлому неженатому мужичку Ефрему принять в жены Настю и дал за нее щедрое приданое: землю под дом, сад и огород и еще денег в придачу на постройку хаты и обзаведение хозяйством.
– Ну, и где же эта хата? – заинтересовался я.
– Ты в ней сейчас на кровати валяешься и глупые вопросы задаешь, – тихо сказала бабушка, и я понял, что она в темноте улыбается.
Я лежал и долго не мог уснуть. Думал о том, что взрослые – очень странные люди. Они не могут жить счастливо, все им надо как-то сделать наперекосяк. Взял бы Иван, да и не послушался своих родителей. Был бы зрячим, и любимая Настя стала его женой.
В этой истории мне было далеко не все понятно, и я решил поподробней расспросить свою тетушку Маню. Хотя уже была середина лета, моя тетушка каждый день ходила на работу в школу – руководила летним пионерским лагерем. Была она там, правда, не очень долго и к обеду возвращалась домой, принимаясь за работу по хозяйству. Улучив момент, я стал расспрашивать ее об Иване. К моему удивлению, тетя ничуть не удивилась и с удовольствием стала о нем рассказывать.
– Да, я хорошо его помню. Видный был такой дед. Высокий, статный. Хоть и слепой, но одет всегда был аккуратно и чисто. Он работал сторожем в колхозном саду – стерег яблони и груши. Мои сверстники часто забирались туда. Свои яблоки дома были не хуже, а колхозные, известное дело, всегда слаще. Услышит, бывало, дед Иван шорох в саду, выскочит из своего шалаша с незаряженной «берданкой» и громко так кричит: «Бачу-бачу вас, хлопцы! А ну геть из сада!».
Слушая тетю, я машинально переводил на русский: «бачу-бачу» – это означает «вижу-вижу», «геть» – «прочь».
– И что, боялись они его?
– Не очень. Все же знали, что дед Иван слепой, да и добрым он был. Свою дочку Женю, бабушку твою, он так никогда и не увидел. Но знал, что у нее четверо детей: нас три сестры, да папка твой. Бывало, идем с друзьями-подружками мимо колхозного сада, смеемся, или просто болтаем, а он стоит возле своего шалаша, смотрит в нашу сторону незрячими глазами и кричит нам:
– Детки, а есть среди вас Женины дочки, или сынок ее?
Кто-нибудь из нас подходил к нему – чаще я, как старшая, а он протягивал яблоки и груши и тихо плакал. Жалко его было так, что мы сами плакали.
– А что было с ним потом?
– Что и со всеми бывает. Помер он вскоре после войны, и схоронили его на кладбище. Что же еще могло быть?
От этого разговора мне стало грустно. Я решил переменить тему разговора.
– Тетя Маня, я уже взрослый?
– Взрослый.
– Тогда можно мне на хутор сходить?
– Не заблудишься?
– Не-а!
– Обещаешь по дороге на Камень не заходить, в речке не купаться?
– Обещаю!
Ходить на хутор означает навещать дедушку Никодима и бабушку Дуню – родителей моей мамы. Я их люблю не меньше, чем бабушку Женю и тетю Маню, но так повелось, что живу я у родственников папы, а к родичам с маминой стороны хожу только погостить на пару часов. Иногда я ночую у них, но это только тогда, когда меня отводит к ним бабушка Женя.
В Ленинграде я один никогда никуда не хожу. Но в селе, вероятно, немного подрос, поэтому мне разрешили. Самостоятельно я отправился на хутор первый раз в жизни. С чем сравнить это счастье и это волнение? Я не знаю с чем и сравнивать мне не с чем, потому что ничего похожего в жизни у меня не было.
По случаю похода в гости бабушка и тетя заставили меня помыть в ведре ноги и надеть сандалии, от которых, бегая все лето босиком, я успел здорово отвыкнуть. Безропотно я натянул и майку, которую тетя Маня и бабушка почему-то называют тенниской, хотя даже не представляют, что такое теннис. Самое гадкое – это белая панамка, которую меня заставили напялить:
– Без панамки не пойдешь, голову может напечь! – строго сказала бабушка.
Смешная она! Неужели не понимает, что и здесь, в селе, и на хуторе, и по дороге к нему солнце-то – одно и то же. И печет оно одинаково. Да я, собственно, и не замечаю этого пекла. Но я согласен на любые условия, лишь бы остаться один на один со взрослостью!
И вот – я взрослый! Шагаю по запыленной улице в сторону выгона – широкой степи, которая отделяет наше село от хутора. До хутора всего несколько сотен метров, чуть меньше километра, но для меня это настоящее путешествие. Никто-никто не скажет мне, как надо себя вести, никто не сделает замечание за то, что я хлюпаю носом или собираю прямо на дороге кучу пыли, чтобы потом прыгнуть в нее. Никто не скажет, потому что я – взрослый!
– Ты куда это собрался наряженный, как петух? – поинтересовался, улыбаясь, незнакомый мальчишка из предпоследней от околицы хаты. Лицо у него красивое, как из журнала «Веселые картинки», сам он крепенький, ладненький на загляденье и старше меня – это сразу видно.
– На Кудыкину гору, – обижаюсь я на «петуха» и с замиранием сердца выхожу на необъятный выгон, словно советский спутник в космическое пространство. За моей спиной село с его пятью улицами. Все они безымянные, но я дал название каждой. Есть Главная улица. Она идет от шляха через все село. Шлях – это тоже улица, точнее, дорога. Она даже главнее нашей Главной, потому что проходит он Новомиргорода аж до Кировограда. Я много раз слышал, как односельчане уважительно произносят эти названия, но смутно понимаю их смысл. Наша улица – вторая по значению в селе. Я ее так и называю – Наша. Она тоже очень важна. Через нее в середине лета идут телеги-обозы с помидорами и огурцами из соседнего села Мартоноши в Новомиргород на консервный завод. Мы, мальчишки, обычно бегаем за этими телегами и жалобно клянчим у возницы:
– Дядько, дайте огурца!
Нам всегда сбрасывают с телеги по несколько огурцов. Они падают в горячую пыль, трескаются, но нам все равно. Мы вытираем их от пыли о трусы и жадно пожираем тут же наперегонки. У каждого из нас дома в огороде такие же огурцы и помидоры. Зачем мы клянчим, я не знаю. Так принято в нашем селе среди мальчишек. Я тоже клянчу, хотя мне очень стыдно это делать. Но я превозмог себя, потому что не хочу отличаться от своих друзей и от других мальчишек из села, которых я уже немного знаю, но с которыми не подружился. Из друзей у меня по-прежнему только Андрий и Сашко.
После того, как мы подружились, бабушка и тетя разрешили мне вместе с ними гулять по селу. Скрепя сердце, но разрешили. Под ответственность Андрия. Сашко, мой ровесник, был не в счет. Да и обалдуй он, это всем известно, даже ему.
Еще в селе есть Кривая улица. Это та, которая идет вдоль речки. Именно на ней находится наш штаб – осокорь в саду деда Яшки. Есть еще две улочки, они самые маленькие. Одна Косая, потому что разделяет село как-то странно, наискосок и упирается в кладбище. Вторая идет вдоль кладбища и выходит в яр – самое красивое место на земле. От кладбища, которое стоит на самом высоком месте в селе, видно разлив Великой Выси и залужье – простор, где пасется сельское стадо.
Странно, но все это пространство я чувствую, словно вижу, своим затылком. Сейчас мой взгляд направлен вперед, туда, где пыльная дорога идет слегка на подъем, к кукурузному полю. До него шагать минут пять. И я переставляю ноги по-взрослому размеренно, сохраняя силы на дальнейшее путешествие. Внутри кукурузного поля лежит хорошо утоптанная стежка. Я маленький и тень от кукурузы приятно закрывает меня от жаркого солнца. Тропинка выводит прямо к балке, за которой начинается колхозный сад. Но мне туда ни к чему. Мои дедушка Никодим и бабушка Дуня живут за два дома до балки, на хуторе, который, как и часть нашего села, примостился к берегу реки. Чтобы не проскочить мимо, я задираю голову и смотрю поверх кукурузы: где-то там должны замаячить семь высоких тополей. Они стоят возле нашего дома. Так и есть – вот они! Я резко сворачиваю к тополям и иду уже по рыхлой вспаханной земле, огибая кукурузные стебли. Дом уже рядом и мне хочется закричать во все горло:
– Здравствуйте, бабушка Дуня и дедушка Никодим! Смотрите, какой я взрослый! Я сам пришел до вас в гости и совсем не заблудился!
Но кричать не приходится, потому что дедушка возле хаты возится с рамкой пчелиных сот, а бабушка кормит кур, громко приговаривая:
– Ципа-ципа-ципа-ципа!
Я остановился у плетня, любуясь дедом. Какой же он у меня красивый! Огромные толстенные серебристые усы, желтые посередине от махорки, и седая борода клинышком. Я – человек наблюдательный и давно понял: усы у деда Никодима, как у Сталина, а борода, как у Ленина. А еще у деда большой красивый живот. С тоской смотрю на свои ребра, обтянутые кожей. «Вырасту, буду похожим на деда!» – твердо решаю я. Все, в том числе и я, знают: дед Никодим до войны учился у самого Мичурина! Мне не известно, кто такой Мичурин, но я все равно этим горжусь.
Куры, увидев меня первыми, перестали клевать зерно и начали настороженно смотреть в мою сторону. Их беспокойство передалось и бабушке Дуне. Она посмотрела на меня и закудахтала громче своих несушек:
– Дед, смотри, Веня к нам пришел! Счастье-то какое! А бабушка Женя где?
Наступил миг моего триумфа:
– Я один к вам пришел погостить! – важно заявил я.
Дед отложил в сторону раму с сотами и огромный нож с кривым лезвием:
– Так если ты такой взрослый, почему такой лохматый?
Мне нечего ответить на этот вопрос. Действительно, почему? Дед Никодим взрослый и пострижен наголо. Друзья мои Андрий и Сашко – тоже. А ведь Сашко Пивнык только чуть-чуть меня старше. Я знаю, что у дедушки есть своя собственная машинка для стрижки, как в заправской парикмахерской, и он сам себя «скубэ», в смысле – стрижет.
– Неси свою машину! – легкомысленно приказал я и сел на сложенные у пасеки бревна. Дед сноровисто обвернул мне шею белым рушником и быстро начал прокладывать борозду от моего лба до затылка шириной, как мне кажется, в стежку на кукурузном поле.
– Бабо! – прокричал он бабушке Дуне через пару минут, любуясь своей работой, – неси из хаты зеркало, нехай Венька на себя подивится.
Бабушка тут же принесла большое круглое зеркало, которое обычно висит над кухонным столом. Я взглянул в него: на меня смотрело испуганное лицо, похожее на курицу. На земле лежала горка соломенных кудряшек, которые еще недавно были моими. Слезы сами стали выскакивать из глаз и бежать, бежать, как дождинки по стеклу, догоняя друг дружку. Я почему-то вспомнил бабушку Женю и начал причитать, как умеет только она, слегка завывая и повышая голос в конце каждой фразы:
– Бедный-бедный Венечка! У собачки есть волосики! У кошечки есть волосики! Только у бедного Венечки нет волосиков!
Никто не учил меня причитать и уж тем более о себе в третьем лице. Но горе мое было столь неожиданным и ошеломляющим, что справиться с ним не получалось. Оно усугублялось еще и тем, что его я спровоцировал сам, желая побыстрее стать взрослым. Оказывается, взрослость красит не всегда.
Потом я сидел с дедушкой за столом и ел белый хлеб с медом, запивая молоком. Дедушка расспрашивал о мамочке и тихо вздыхал. Я понимал, что вздыхает он из-за того, что не любит моего папу. Как один родной мне человек может не любить другого родного мне человека, я не понимал.
– Дедушка, расскажи о войне, – попросил я.
– О ней тебе пусть твой батька рассказывает, у него язык краще подвешен, – вздохнул дедушка Никодим. – Да и что тебе может рассказать простой пехотинец? Упал, окопался, стрельнул. Упал, окопался, стрельнул. Побежал в атаку – очнулся в бинтах в медсанбате. Вот тебе и вся война.
– А ты в Гитлера стрелял? Орденов у тебя много?
Дед тяжело вздохнул и начал из ровненького кусочка газеты мастерить себе самокрутку. Делал он это сноровисто, словно выполнял какую-то замечательную работу. Ловким движение двух пальцев он засыпал крупно нарезанный самосад в газетку, будто солил огурец, и, лизнув край газетки, мгновенно свернул ладненькую цигарку. Дед закурил, и в хате над столом начали парить сладкие облака.
– Даш поиграть орденами? – уточнил я.
– Нет у меня орденов, Веня, не заслужил, – виновато сказал дед. – Вот есть три медальки только, можешь поиграть, но из хаты не выноси.
Он достал из деревянной коробки медали. «За отвагу» – прочитал я на одной из них.
– Это – моя главная медаль, – сказал дедушка. – А вторая – попроще, за взятие Вены 13 апреля сорок пятого.
– Зачем брать вену? – глянул я с опаской на свою хилую голубую жилку на руке.
Дед Никодим улыбнулся, глубоко затягиваясь самосадом:
– Это другая Вена, город такой в Австрии, столица ихняя.
На третьей медали было написано: «Наше дело правое! Мы победили!», и она меня почему-то не заинтересовала. Только подумалось: «Раз дело может быть правым, значит, и левым может быть?».
Бабушка Дуня, невысокая, уютненькая, с доброй улыбкой на лице, хлопотала возле печи.
– Бабушка Женя пирожки тебе печет?
– Печет, с капустой.
– Вот и хорошо. А я тебе в дорогу плачинду с гарбузом испекла, добрая получилась плачинда. В узелок тебе завяжу. Куму Женю угостишь и Маню Гавриловну.
Я вежливо кивнул, понимая, что мне будет доверено нести гостинцы в село. Все-таки новая прическа делала меня немного взрослее.
Дорога назад показалась более короткой. Возле околицы поджидал улыбчивый мальчишка, который назвал меня петухом.
– Зайди ко мне в гости, я тебе что-то подарю.
– Подаришь? – удивился я.
Не часто мне делали подарки. А незнакомые мальчишки – вообще никогда.
Мальчишку звали Толей. Фамилия оказалась Мильниченко. С такой фамилией у нас было полсела. Даже в Ленинграде у моего папы был друг – дядя Федя Мильниченко. Он вместе с женой тетей Фаней и дочкой Людочкой частенько приходил к нам в гости. Почему-то я не стал рассказывать об этом своему новому знакомому. Может, и рассказал бы, но мне было не до того. Толя вынес из хаты лист плотной бумаги, на котором черным карандашом был нарисован мой портрет! Работа была выполнена так талантливо, что волосы казались не черными, а слегка золотистыми. Я беспомощно провел пятерней по своей лысой голове.
– Я по памяти нарисовал, – сказал он. – Волос нет, а память о них теперь есть.
– Ты – художник! – восхищенно сказал я. Толя смутился и на его щеках выступили две глубокие ямочки.
– Скажешь тоже, какой художник? Просто рисую, что понравится.
– Значит, я тебе понравился? – удивился я.
– Да, – просто сказал он. – Ты похож на Кощея Бессмертного в детстве – такой же худющий.
Мы оба рассмеялись и нам показалось, что мы дружим уже давно. Толя был старше меня на два года. Он почему-то говорил по-русски совершенно без акцента. Опережая мой вопрос, Толя сказал:
– Мы с моей мамой и старшим братом ездили в Одессу, там все говорят по-русски. Я и научился. Слова сами ко мне прилипают, я даже не стараюсь их запоминать.
С тех пор мы стали дружить вчетвером: Андрий, Сашко, Толя и я. Как-то само собой получилось, что с Толей мы сошлись ближе всего, хотя со старыми друзьями по-прежнему общались каждый день. Странно, но в нашей кампании не было предводителя. Скорее всего, им мог быть Толя, как самый старший среди нас и, пожалуй, самый авторитетный. Но художники не часто любят лидировать. Андрий на роль вожака не годился тем более – он был стеснительным, даже малость трусоватым. Сашко в нашей иерархии мог бы оказаться последним, но нам это было ни к чему. Что же касается меня, то я обладал лидерскими качествами, но у меня хватало такта понимать, что я в селе всего лишь гость, городской хлопчик, существо здесь временное, сезонное.
Мы полюбили собираться вчетвером в нашем штабе, на осокоре, где Толя оборудовал себе собственный наблюдательный пункт. На первый же сбор штаба он принес настоящий артиллерийский бинокль, чем сразил всю команду наповал. Непривычно было видеть вблизи то, что происходило за километр от нас, а то и за два. Как-то раз я увидел в бинокль, как за рекой в огороде бабка Горпына присела среди грядок по малой нужде. Я так хохотал, что упал с дерева и сильно ушиб ногу.
– Рано тебе еще видеть такое, – твердо заявил Толя и больше бинокль мне не давал.
Но особенно мы полюбили собираться на выгоне среди пахучих степных трав. Кидали друг в друга репейниками, нюхали горькую полынь, капали на руку сок молочая, с любопытством дожидаясь, пока он засохнет, как клей. Валяясь на теплой земле, смотрели в высокое украинское небо. Как здорово мечталось нам тогда!
– Ты, Веня, кем будешь, когда вырастешь? – как-то спросил Андрий.
– Когда был маленьким, мечтал быть водолазом, – вспомнил я свои мечты накануне отъезда на Украину. – А теперь хочу быть паровозным шофером.
– Машинистом паровоза, – уточнил Толя.
– Не получится, – скептически заявил Андрий. – Скоро все паровозы отправят на свалку и вместо них будут тепловозы. А вот лично я буду как Белка и Стрелка в космосе на спутнике летать.
– Ты что, собака, что ли? – засмеялся Сашко. – Людына в космос не полетит, опасно.

