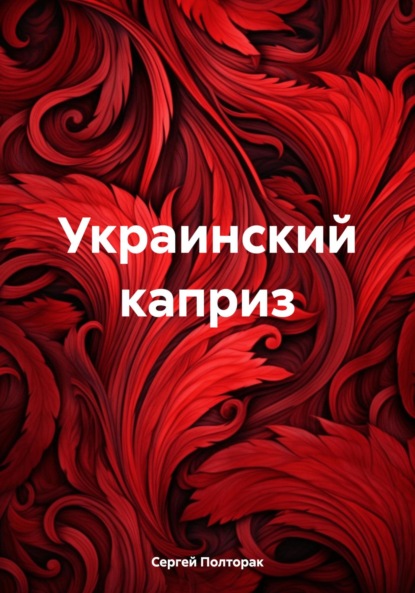
Полная версия:
Украинский каприз
– Полетит, – уверенно сказал я. – У нас дома есть детская энциклопедия и в ней так и написано: «Не далек тот день, когда человек полетит в космос!».
– Брехня это все, – изящно сплюнул сквозь зубы Сашко. – А даже если и не брехня, я краще в Николаев поеду. Устроюсь там на завод, женюсь и буду как кум королю и сват министру.
– Давай, кум, давай, – мечтательно посмотрел в сторону речки Толя. – А я после школы в Одессу поеду и в мореходку поступлю. Буду по морю ходить, разные иностранные порты посещать.
– По морю не ходят, а плавают, – попытался поспорить Сашко.
– Это дерьмо плавает, а моряк – ходит, понимать надо, – строго сказал Толя.
– Кем бы ни стали, когда вырастем, мы никогда не должны расставаться, – дрогнувшим от волнения голосом вдруг сказал я.
– Так ты же первым и расстанешься, – скривился Толя. – Вот приедет твой папка и увезет тебя в город.
– Да, – сказал я, едва не плача, – но я вернусь и привезу тебе, Толя, настоящий альбом для рисования и лучшие на свете краски с кисточками. А тебе, Андрий, самый мощный карманный фонарик привезу.
– Мне картуз с «крабом» привези, как у капитана дальнего плаванья, – упреждая мое обещание, сказал Сашко.
Я согласно кивнул, словно понимал, что такое «краб».
Наступила какая-то торжественная тишина. Казалось, даже стрижи перестали гонять на перегонки в воздухе.
– Нам надо поклясться в вечной дружбе. Даже не так. Давайте поклянемся, что с этой минуты мы – братья навеки! – предложил Андрий.
Идея всем очень понравилась. Толя достал из кармана осколок цветного стекла и смело полоснул себе по руке. Потекла темная кровь. Каждый из нас по очереди подставил под стекло руку и вскоре четыре детские ладони, измазанные общей кровью, плотно сцепились между собою.
– Надо еще земли съесть всем вместе, – со знанием дела сказал Андрий.
Мы вырвали из твердой почвы куст полыни, и каждый по очереди занес окровавленную руку в углубление, в котором еще недавно был корень. Земля оказалась совершенно не пригодной для еды, но мы, давясь, честно проглотили по чуть-чуть. Таинство состоялось.
Незадолго до моего отъезда в Ленинград произошло еще одно событие, которому я не придал особого значения. Как-то к нам в гости пришла бабушка Дуня. Она была одета по-праздничному: пестренький платочек на голове, юбка в мелкий цветочек, белая кофта и такой же белый передник. На ногах – кожаные самодельные тапки, которые в селе все почему-то называли балетками. Бабушка Женя тоже разоделась, как на свадьбу. Тети Мани дома не было: она, как всегда, находилась в школе, руководила летним пионерским лагерем. Обе бабушки почему-то смотрели в этот день на меня с особенной любовью, гладили по голове, на которой уже успел отрасти пучок свеженьких волос.
Неожиданно заскрипела калитка и во двор ввалился тучный дядька в шапке с пышной седой бородой и в длинном черном, как мне показалось, пальто. На груди у него на толстой цепи телепался огромный крест. Мои бабушки как-то странно поджались, немного сгорбились и засеменили к нему, подобострастно улыбаясь, стали тыкать губами в его в пухлую руку. Это меня очень удивило, и я на всякий случай мгновенно взлетел на шелковицу.
– Веня, сынок, – сказала бабушка Женя, – слазь скорее! Батюшка до тебя пришел, крестить тебя будет!
Любопытство взяло верх над страхом и смущением. Я был польщен, что такой необычный дядька пришел до нашей хаты только ради меня. Батюшка оказался очень хорошим и ласковым. Он дал мне сахарного петушка, погладил по голове и поговорил о чем-то непонятном своим красивым голосом. Я разомлел и позволил ему снять с меня майку и трусы, взять на руки, опустить в корыто, которое он почему-то называл купелью. При этом святой отец пел какие-то веселые песенки, а я пытался ему подпевать, не понимая, почему на меня шикали мои милые бабушки. После купания и песнопения батюшка надел мне на шею веревочку, на конце которой был такой же крест, как у него, только гораздо меньше.
Потом под яблоней в саду было застолье. Бабушки угощали этого весельчака варениками и горилкой, а мне налили в маленькую рюмочку того сладкого розового компота, от которого очень хочется спать. Вскоре я и уснул, не дождавшись окончания праздника.
Через несколько дней приехал папа, чтобы отвезти меня в Ленинград. Когда мы сидели за столом и радовались его приезду, я расхвастался, что у меня теперь тоже есть крестик, как у местного попа. Отец побледнел и, не глядя в сторону бабушки Жени, не то спросил, не то простонал:
– Вы что, с ума сошли?! Меня же из партии турнут!
– Не переживай, Коля, – сказала бабушка Женя, – мы же никому не скажем.
Папа махнул рукой и налил себе еще горилки.
Глава 2. Как я опять стал взрослым
Осенью почтальон принес телеграмму, в которой говорилось, что скоропостижно умерла бабушка Дуня. Я знал, что такое смерть: в Каменке мы с мальчишками часто играли на сельском кладбище в войну. Вернее, это в Ленинграде называлось игрой в войну. А в Каменке – игра в «разведки». Именно так, во множественном числе. Прячась от «противников» между могил, стреляя из пистолета пистонами, я понимал, что под землей лежат мертвые люди. Но я никогда не думал, что кто-то из близких мне может умереть.
– Хочешь, возьму тебя с собой на похороны? – со слезами на красивом лице спросила мамочка.
Я не хотел видеть в гробу бабушку Дуню, поэтому нерешительно отказался.
– Ну и правильно, – согласился со мной папа. – Бабушку уже не вернешь, а мы тут с тобой будем картошку на сале жарить и макароны по-флотски варить.
Я согласно кивал: лучше есть жареную картошку и макароны, чем хоронить бабушку.
К тому времени я еще не совсем отошел от украинской жизни и нередко удивлял соседей по коммунальной квартире и друзей во дворе: выдавал что-нибудь по-украински. То воробьев на березе называл горобчиками, то под настроение во все горло запевал «Ридна мати моя, ты ночей нэ доспала». С каждым днем подобное случалось со мной все реже. Украинская культура растворялась во мне под воздействием городской российской повседневности, но не исчезала насовсем, а пряталась до поры в душе и в моем детском сознании. Я опять привыкал к обычной ленинградской суете, которую тоже любил почти так же, как размеренную вольготную жизнь на Украине.
Смерть бабушки Дуни нарушила привычный ритм, хотя это стало понятно не сразу. Мама, вернувшись с похорон, все время о чем-то шепталась с папой. Они горестно вздыхали и печально поглядывали в мою сторону. Не знаю, что происходило в их взрослой жизни, но, когда наступило лето, на Украину меня не повезли, а отправили с садиком в Сиверскую. Там я умудрился заболеть воспалением легких, получил осложнение на сердце и, как переходящее красное знамя, на протяжении почти двух лет передавался из санатория в санаторий, где из меня не вполне успешно пытались сделать здорового ребенка. В конце концов в Ленинград с дипломатической миссией прибыла бабушка Женя, которая объяснила моим родителям, что краще Украины курорта нет. Убедила она их в этом не сразу. Месяц или два она добросовестно просидела со мной, пока родители работали, взяв на себя не только заботу о моем воспитании, но и некоторые секретарские функции, помогая своему сыну. Папа работал тогда на Адмиралтейском заводе каким-то начальником. Часто ему звонили по работе домой и он, стоя в прихожей нашей коммуналки с телефонной трубкой в руке, орал на всю квартиру о своих заводских делах, время от времени повторяя одно и то же слово – «добре, добре, добре». Помню, я очень гордился тем, что понимаю значение этого украинского слова. Оно означало – «хорошо».
Как-то ранним вечером в квартире раздался телефонный звонок. Звонили папе, но ни его, ни мамы еще не было дома. К телефону подошла бабушка Женя и так же, как и папа, громко кричала в трубку: «Добре, добре, добре». Когда родители пришли с работы, бабушка добросовестно доложила:
– Коля, тебе какой-то дядька звонил. Я поняла, из музея…
Весь вечер мои родители провели в разговорах об этом странном звонке. Ни у папы, ни у мамы знакомых в музеях Ленинграда никогда не было. Думаю, что их ожидала бессонная ночь, если бы загадочный «дядька» не перезвонил в тот же вечер. Поговорив с ним, отец вошел в комнату, давясь от смеха.
– Что с тобой, Коля?! – испуганно спросила бабушка.
– Твой знакомый звонил, который из музея! – задыхаясь от хохота, сказал папа.
– И шо?! – удивилась бабушка.
– Он – не из музея! Это мой товарищ по работе, наш начальник планового отдела. Его зовут Зяма Моисеич! – сказал папа, и рухнул на оттоманку, корчась от смеха в судорогах.
Смеялись и мы с мамой. Бабушка смотрела на нас задумчиво, не понимая причины веселья.
Привыкшая к каждодневному труду в саду, на огороде, к хлопотам по хозяйству, бабушка Женя чувствовала себя в городской квартире очень неуютно, устав от безделья. Походы всей семьей в Эрмитаж, поездки в Петергоф, Пушкин, Павловск, Гатчину и Ломоносов не сделали ее отношение к Ленинграду лучше. На вопрос, понравилось ли ей в том или ином музее, она с присущей сельскому человеку деликатностью кратко отвечала:
– Гарно, – то есть красиво, – и с тоской смотрела вдаль, словно силилась увидеть где-то там родное село.
Понимая, что бабушке не хватает общения с односельчанами, мы чаще стали общаться с семьей дяди Феди Мильниченко: то приезжали к ним в коммуналку на Петроградской стороне, из окна которой было видно крейсер «Аврора», то они появлялись у нас на Фонтанке. Дядя Федя, прожив в Ленинграде уже много лет, так и не научился говорить по-русски. Но и украинской его речь назвать было уже трудно. Он сочинил какой-то свой особый язык, который, впитав в себя русский язык и украинскую мову, был все же явлением особенным, самостоятельным, самобытным настолько, что на него можно было бы смело выдавать какой-нибудь патент за филологическое изобретение. Слушая могучий баритон дяди Феди, я ощущал себя кусочком сыра, наслаждавшимся купанием в растопленном масле. Встречаясь с ним, бабушка светлела лицом и попадала в родную стихию. Она не отмалчивалась, а постоянно шутила, вспоминая земляков, и виртуозно копировала односельчан, с точностью до мельчайших деталей повторяя их движения, голоса и еще что-то, что трудно сформулировать словами. Мы все смеялись от души. Только однажды, когда бабушка стала копировать голос тети Ганзи, мамы моего друга Толи Мильниченко, лицо дяди Феди стало немного грустным. Заметив это, бабушка остановилась на полуслове, дядя Федя бережно коснулся ее руки:
– Ничего, ничего, кума Евгенька, все добрэ…
Вероятно, во мне дремал юный аналитик. Весь вечер после ухода от нас семьи дяди Феди, я размышлял о нем, о его перемене в настроении. Внезапно я вдруг сообразил: и мой друг Толя, и его мама, тетя Ганзя, внешне очень похожи на дядю Федю. Этой мыслью я поделился с бабушкой, когда мы легли спать. По старой традиции мы по-прежнему спали вместе.
– Ничего удивительного, – шепнула мне бабушка. – Федя – батько Ганзи и родной дед твоего друга Толи. У них и фамилия одна – Мильниченко. Ганзя Толю родила сама по себе, фамилия у них общая.
Я не понимал, что значит «родить самой по себе», но это для меня было неважно. А вот то, что Толя – внук дяди Феди, для меня было чем-то непостижимым. Это было какой-то страшной тайной. Вспомнилось, что в сарае его двора было много столярного инструмента. Друг рассказывал, что все эти рубанки-фуганки принадлежали его деду, которого «давно нет». Теперь я понимал, почему Толя так говорил, но ясно это было не до конца.
– Это все война, проклятая, сделала, – шепотом продолжала бабушка. – Когда немцы пришли в наше село, они приказали селянам самим выбрать себе старосту. Выбор пал на Федю. Все знали его доброту и честность, понимали, что он никогда ничего плохого людям не сделает. Сколько он народа в войну спас! И от угона в Неметчину, и от всякой другой несправедливости. Евреев из Златополя сам прятал по погребам. А когда наши пришли, его судили. Никто заступиться не решился. Даже те, кого он спасал столько раз. И послали бедного Федю на торфоразработки в Новгородскую область. Там он Фаню свою и встретил. А жена его прежняя, баба Лиза – ты ее помнишь – всем раструбила, что знать его больше не желает. Вот и не вернулся Федор Григорич в родное село. В Ленинграде осел столяром. Папке твоему советом помогает. Добрый человек, хотя и несчастный…
Родители сняли дачу в Сестрорецке. Добротный деревянный дом, покрашенный темно-зеленой краской, кусты жасмина, пахнувшие волшебством, и чешуйчатые сосны. Вроде бы не город, а все равно не то. Бабушка стойко молчала, но тоска ее была заметна даже мне. Родители немного повздыхали и отправились в железнодорожную кассу покупать нам с бабушкой билеты на Украину. Советский гуманизм в отдельно взятой семье восторжествовал!
Дорога из Ленинграда в Каменку с пересадкой в Москве была непроста даже для меня. Чего стоило только мое многочасовое сидение в одиночестве возле чемодана на Киевском вокзале столицы, пока бабушка стояла в другом зале в длиннющей очереди, чтобы закомпостировать наши билеты. Иногда мне казалось, что она бросила меня, и я остался один среди чужих людей. Возможно, я бы даже запаниковал и всплакнул, но полученное от бабули задание – охранять чемодан и сумку с продуктами – не позволяло расслабиться. Среди наших вещей уже не было моего ночного горшка: я достиг той ступени взрослости, когда сам ходил в общественный туалет на вокзале и в вагоне поезда. В этом году мне предстояло идти в школу. Я умел писать печатными и прописными буквами, считал до ста, прилично играл на аккордеоне и даже немного говорил по-английски. Все это было следствием титанических усилий моих родителей по воспитанию ребенка, чтобы в семье «было все, как у людей». К моему счастью, занятия, навязанные родителями, мне нравились. Я любовался отполированной лысиной моего учителя музыки не меньше, чем перламутром своего аккордеона-четвертушки; в юную учительницу английского, приходившую к нам в дом так же, как и аккордеонист, два раза в неделю, я был немного влюблен, что положительно сказывалось на моих успехах в познании языка. Одним словом, в родное село возвращался уже не тот Веня, что был три года назад, а вполне возмужавший, как мне думалось, почти первоклассник.
В Каменку я ехал не с пустыми руками. Папа раздобыл на Адмиралтейском заводе у кого-то из знакомых для Сашка Пивныка настоящую капитанскую фуражку с вышитым золотом «крабом» – красивой, хотя и замысловатой морской эмблемой. Для Андрия он принес роскошный самодельный фонарик с круглыми батарейками. Причем фонарик был неимоверной длины, поскольку вмещал не две, а целых три круглые батарейки и светил гораздо дальше обычного. Мама, работавшая в проектном НИИ, принесла огромный альбом для рисования со страницами из ватмана, сделанный по ее просьбе знакомыми архитекторами. Они же снабдили ее великолепной коробкой акварельных красок, набором каких-то заграничных карандашей и треугольной стирательной резинкой с изображением Эйфелевой башни. Я предвкушал счастье друзей, и сам радовался тому, что они будут довольны моими подарками.
На станцию Новомиргород нас привез уже не паровоз, а, как и предсказал когда-то умный Андрий, новехонький тепловоз, вкусно пахнувший машинным маслом. Этот запах я успел почувствовать еще в Ленинграде, а потом в Москве, когда мы с бабушкой садились в поезд. Мне уже было известно, что время от времени тепловозы и их экипажи остаются на узловых станциях, а состав ведет новая команда в другом тепловозе, который точь-в-точь похож на предыдущий. Не знаю почему, но наш состав пришел в Новомиргород не ночью, как когда-то, а днем. Мы с бабушкой вышли через здание вокзала на площадь, и я увидел картину, от которой почему-то сладко защемило сердце. Посреди привокзальной площади была огромная канава, густо заросшая сочной травой. За ней стояли телеги с распряженными лошадями, а возле телег в тенечке полусидели-полулежали мужчины, поджидая кого-то или что-то. Отдыхая, они вели неспешные разговоры и, словно нехотя, понемножку отпивали что-то прямо из бутылок, закусывая пахучей чесночной колбасой, которую мама в Ленинграде называла «краковской».
– Бабушка, а что это дяди пьют, молочко?
– Да, Веня, молочко. Из-под бешенной коровки, – весело отозвалась бабушка, выискивая кого-то взглядом. Наконец, углядев среди мужиков какого-то знакомца, она решительно направилась к нему, легко таща за собой чемодан и большую сумку из рыжего кожзаменителя.
– Бог в помощь, сосед! – вежливо сказала она, обращаясь к какому-то худосочному молодому мужичку.
– Здравствуйте, баба Евгенька! – ответил он, и я сразу догадался по акценту, что он русский.
– Ты, Генка, кого ожидаешь? – спросила бабушка.
– Почтарьку Клавдию. Она поезд встречала, газеты свежие, вчерашние, принимала из Москвы, что для нашего села предназначены. Сейчас прибежит. А вы, я вижу, с внуком до дому? Этим же поездом приехали?
– Да, Генка, этим же, – сказала бабушка, по-хозяйски устраивая чемодан и сумку на телеге, не дожидаясь приглашения.
Через час, скрепя всеми своими деревянными суставами, телега, запряженная парой рослых вороных лошадей, подкатила к нашей каменской хате. Я узнавал и не узнавал ее. Вроде бы все прежнее: тот же двор, те же куры, похожие со стороны на фигуры, разместившиеся на шахматной доске, но что-то было не то. И вдруг я увидел: вместо очерета на хате блестела на солнце оцинкованная крыша.
– Ого! – восхитился я.
– Ото ж! – хмыкнула бабушка, – Гагарин в космос слетал, а нам что, как при царизме жить?
Наше село, вероятно, обладало какой-то притягательной силой. Время от времени оно притягивало к себе то не пойми откуда взявшегося мордвина, то сумасшедшего профессора-астронома или спившуюся актрису областного драмтеатра. В год моего очередного приезда Каменка притянула к себе странного человека Генку, который подвернулся нам с бабушкой на станции в день приезда. Приехал он почему-то аж из Сибири вместе с женой, двухлетним сыном и старушкой-матерью. Было ему лет тридцать, но называть дядей его совершенно не хотелось, поэтому вскоре даже я, как и все, стал называть его просто Генкой. В общении он был прост, дружелюбен, водился с пацанами-подростками и парубками. Взрослые мужики почему-то смотрели на сибиряка высокомерно, но ему было на это наплевать. Он всегда улыбался и готов был прийти на помощь любому, кто бы ни попросил. Его в глаза и за глаза называли кацапом. Я знал, что это так дразнят русских. Меня тоже так пытались дразнить. Однажды мальчишка с нашей улицы, мой ровесник Ленька, корча рожи, прочитал мне обидный стишок:
Шел хохол –
Насрал на пол.
Шел кацап,
Зубами – цап!
Я ударил его в зубы без каких-то предварительных угроз. Просто влепил сразу после произнесенного слова «цап». На землю, в дорожную пыль, вывалилась горстка молочных Ленькиных зубов. Его мама, тетка Галя, тут же прибежала к нам до хаты ругаться, но ее грозно встретила тетя Маня. Я с удивлением и восторгом щедро пополнил свой словарный запас лексикой, которой вряд ли обучали мою тетушку в пединституте на факультете русского языка и литературы.
Никто больше кацапом меня не называл. Слова «москаль», которое я впервые услыхал многие годы спустя по телевизору, тогда в нашем селе вообще никто не употреблял. Почему? Может, потому, что искренне считали Москву, как и Киев одновременно, своей столицей. И никого такое двуединство не смущало. Это было нормально и совсем обыкновенно. Вскоре, правда, я прочитал у Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» о том, что на украинских свадьбах гости потехи ради иногда изображают «цыган да москалей», но не придал тому значения. Мне приходилось в Каменке бывать на свадьбах, которые я искренне любил за веселье, огромное скопление народа и особо за то, что меня, как ребенка-родича, перевязывали многочисленными шелковыми лентами через плечо. Взрослых мужчин перевязывали рушниками, а женщин – платками. Чем больше у человека лент, рушников или платков, тем он более близкий родственник жениху и невесте: такая вот свадебная иерархия.
Свадьбу в нашем селе всегда гуляли три дня. На последний, когда иссякали съестные запасы и человеческие силы, появлялись те самые гоголевские «цыгане». Они были ненастоящими: просто некоторые из гостей переодевались в лохмотья, разрисовывали себе лица сажей и веселили народ, словно клоуны в цирке. Кто-то из «цыган» отпускал сальные шуточки, кто-то забавно танцевал. Помню, одна гостья, изображая цыгана, плясала, высунув из ширинки кукурузный початок. Народ заливался смехом, а мне тетя Маня сказала, чтобы я на это не смотрел, потому что «это взрослые шутки». Важным элементом представления цыган было воровство кур у соседей. Но воровство то было понарошку, поскольку была предварительная договоренность. Потом такое «воровство» компенсировалось деньгами, чему я был случайным свидетелем.
Москалей же в нашем селе почему-то не изображали. То ли потому, что в отличие от гоголевских персонажей наши селяне проживали сотни на три-четыре километров дальше от России, чем жители Диканьки, то ли потому, что наступили другие времена – советские, когда все мы были просто из СССР.
Взрослые селяне, прекрасно знавшие все мои родственные корни, тем не менее не отказывали себе в удовольствии по-доброму подшучивать над моей «русскостью» горожанина. Улыбаясь во всю ширь своего почти беззубого рта, дед моего друга Андрия – старый хрыч Семен – беседовал со мной, как с равным:
– А шо, Веня, Никита еще не засеял в Ленинграде стадион имени Кирова кукурузой?
– Какой Никита?! – искренне удивлялся я.
– Как какой? Наш, какой же еще? Хрущ который! – в свою очередь поражался моей политической безграмотности дед Семен.
Я смущенно пожал плечами, не зная, что ответить. Однако шутку эту оценил и запомнил. Смешила меня и зубная «чересполосица» Андриева деда. Но все это было на втором плане. На первый же вылезало уважительное отношение ко мне как ко взрослому человеку. Сквозь его иронию просматривался искренний интерес к российской городской жизни и ко мне как к ее носителю.
С Толей, Андрием и Сашком мы встретились, словно близкие-близкие родственники. Никто не успел научить нас тому, как надо встречаться с родными людьми. Эту нехитрую науку мы постигали сами, полагаясь на собственные чувства. При первой встрече мы лыбились, похлопывая друг друга по плечам, говорили друг другу восхищенно что-то типа:
– Какой же ты, брат, стал здоровенный!
При этом слово «брат» для нас звучало не как определение родственной принадлежности, а как осознание единения душ.
Толя был в восторге от альбома, красок и карандашей. Он восхищенно говорил своей маме:
– Вот что значит городской: обещал и слово сдержал. Да еще как!
Андрий, получив трехбатарейный фонарик, долго краснел от счастья и его уши вновь, как и прежде, стали прозрачными. На этот раз уже не от смущения, а от радости. Он с трудом дождался ночи и бродил по огороду, выцеливая фонарем то замешкавшуюся мышь, то ночного мотылька. Жизнь заиграла для него новыми ночными красками.
Сашко отреагировал на подарок из Ленинграда проще всех.
– О! – довольно сказал он, нахлобучив на стриженную башку фуражку с крабом. На этом его благодарности и закончились. Но мне они были не так уж и нужны. Куда важнее для меня было то, что мы с моими братами были опять вместе.
Мне совсем недавно исполнилось семь лет, и я не мог дождаться начала учебы в первом классе. Сашко Пивнык тоже пребывал в нетерпении:
– В школу дуже хочу – там в обед кормят бесплатно, котлету дают и даже эту, как ее, на колбасу похожую…
– Сосиску, – вежливо подсказал я.
– Во-во, ее.
Андрий, перешедший уже во второй класс, поглядывал на нас, как старый морской волк на салаг. Поправив замызганный картуз, он заявил:
– А вы знаете, что наша школа стоит на фундаменте бывшего графского особняка? Под фундаментом старый граф оставил клад для своего сына. Только сын погиб в Гражданскую, а дочки его по заграницу умотали.
– Но граф-то остался? – предположил я.
– Не-а, он от старости помер: ему уже тогда годов тридцать было, а, может, и все тридцать два.
Самый старший из нас, девятилетний Толя, неожиданно предложил ночью сделать под фундамент подкоп и найти спрятанный клад. Идея всем сразу понравилась.
– У меня и фонарик для этого есть, – важно сказал Андрий.
– Я могу лопату принести, – предложил Сашко.
– Без топора в таком деле не обойтись, – подумав, сказал Толя. – Я возьму дедов топор. Он острый, как бритва, им корни всякие можно рубить.
– А ты, Веня, что возьмешь? – спросил Сашко, и все с любопытством посмотрели на меня.
– Меня бабушка ночью не пустит.
Друзья снисходительно заулыбались, а Сашко даже тихонько захихикал, но, получив от меня тычок локтем под дых, скорчил смешную физиономию и замолчал.
В конце концов сообща мы выработали план: ночью друзья бросят в мое окно камешек, я услышу и тихонечко выйду.

