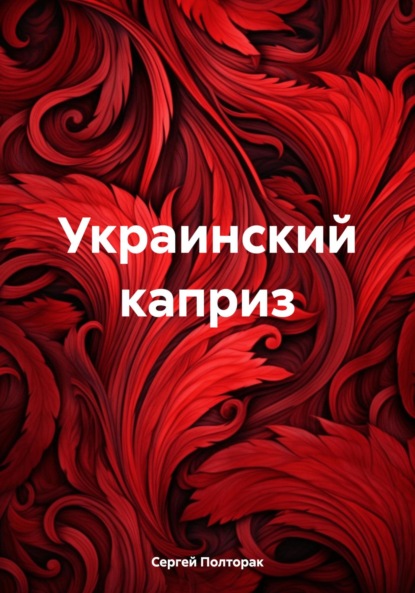
Полная версия:
Украинский каприз
– Он час уж как сел в лодку и поплыл сетку проверять, – сказала бабка Агафья. – Можешь пойти на берег и там его подождать, если хочешь.
Я хотел. Уж лучше сидеть на берегу под вербой и ждать дедушку с уловом, чем вести вежливые разговоры с малознакомой старушкой.
На берегу я пристроился на пеньке, поджав к груди колени, и стал всматриваться в речную даль. Вскоре из-за речного поворота вышел човен, как называли здесь лодку. По неторопливым выверенным движениям весла я узнал деда. Он греб неспешно, экономя силы. Через некоторое время дедушка заметил меня и, как мне показалось, стал грести к берегу немного быстрее. Когда лодка коснулась берега, я проворно схватил цепь, прикрепленную к носу, и с силой потянул ее на себя. Получилось хорошо: човен по инерции аж на треть выскочил на берег.
– Какой ты здоровяк! – удивился дедушка. – Прямо парубок почти.
Мне было лестно это слышать, но я сделал вид, что не обратил на его слова никакого внимания.
Дедушка был собран и молчалив. Я давно заметил: когда он был трезвым, говорил мало. Но стоило ему пропустить рюмочку-другую, поток красноречия захлестывал его, как сильная речная волна поплавок рыбака. Говорил дед Никодим умно и красиво. Не знаю, где он сумел набраться всех этих слов с завитушками, но речи его были нарядными, словно тульский пряник.
С рыбалки он вернулся с полным ведром речных даров. В нем трепыхались жирные желто-зеленые лини, крупная плотва, отливавшая серебром, окуни в чешуе, похожей на маскировочные халаты, караси, напоминавшие по форме крепкую ладонь Сашкиного отца дяди Миши. Поверх всей этой красоты медленно копошились огромные коричневые раки с лихими усами и грозными клешнями. Дед доверил мне нести до хаты ведро, а сам важно шествовал впереди. «Дедушка с веслом», – весело подумал я, глядя ему в спину и любуясь дедовой походкой. Мне представлялось, что именно так когда-то ходил доблестный Илья Муромец по траве-мураве.
Бабушка Агафья на дворе уже растопила летнюю печь, выставила на ней чугунок с водой «под раки». Ополоснув раков колодезной водой, она умело приподнимала им панцири и нашпиговывала их пшенной кашей с укропом. В считанные минуты пара десятков угрюмых речных обитателей оказалась в чугунке на плите. Вскоре на сковородке зашкворчали и четыре отборные линя: баба Агафья проводила прием гостя на высшем уровне.
Дедушка уже успел принять пару чарок горилки. Взгляд его потеплел, жесты стали походить на взмахи рук дирижера.
– Вот скажи ты мне, Веня, почему твоя мамка так ко мне жестока?! – вопрошал дед. – Я ж ее выучил, выкормил, в город-герой направил за главным образованием. А она – вона как.
Под раки и жаренного линя дедушка расслабился окончательно. Он непрерывно говорил о своей любви к маме, ко мне, к Ленинграду и ко всему человечеству. Крупные слезы текли по его красивому лицу и тонули в седых усищах. Как я любил в этот момент своего дедушку Никодима, как я жалел его, сострадал и сопереживал. Я был готов умереть за то, чтобы он больше никогда не плакал! Вдыхая сладкий запах его махорки и впитывая в душу горечь дедовых слез, я физически ощущал процесс своего взросления.
Возвращался я с хутора в село не коротким путем через поле, а обходным – через Камень. Хотелось побыть одному, подумать о дедушкином страдании, да и самому нужно было остудить собственную разгоряченную душу. На Камне почему-то не было почти никого. Только моя сверстница хуторская девочка Тома сидела на камушке в позе Аленушки с известной картины, висевшей на стене в нашей детсадовской группе. С Томой мы временами дружили. Не сильно, потому что она – девчонка, но больше, чем с другими. Тома была красивой и молчаливой. И то, и другое мне в ней нравилось. Однажды мы с ней даже играли во взрослых: взяв по большой плетеной корзине, ходили по дорогам вокруг колхозных полей и собирали конский навоз для того, чтобы, смешав его с глиной, мазать хаты. Так поступали взрослые, и нам хотелось на них походить.
– Здравствуй, Веня! – улыбнулась мне Тома. – К деду в гости ходил?
Я кивнул. Красивые девочки всегда вызывали у меня смущение, и Тома не была исключением. Смущался я ее еще и потому, что она здорово умела плавать и нырять. Ее ладненькая фигура вызывала у меня некоторую оторопь, которую я пытался скрыть своим безразличием.
– Хочешь, научу тебя нырять и плавать краще всех в нашем селе? – спросила вдруг она. Я опять кивнул.
– Тогда снимай майку и айда за мной! – скомандовала она. Мне не разрешалось купаться без ведома тети Мани и бабушки.
По этому поводу мальчишки подтрунивали надо мной, за что не единожды получали от меня по зубам. В этот раз я не мог опозориться: быстро скинув майку и сандалии, плюхнулся в воду. Тома учила меня, как могла. В основном вдохновляла личным примером. Но были и маленькие тонкости. Она научила меня правильно работать руками и ногами. К концу первого занятия я, к своему изумлению, уже плавал не по-собачьи, как прежде, а делая широкий замах руками, словно взрослые парни.
– В следующий раз я тебя нырять научу! – пообещала Тома.
Мы договорились встретиться завтра утром. В это время на Камне никого нет: народ, в основном дети и приезжие отдыхающие, подтягивается часам к одиннадцати, не раньше.
С тех пор мы встречались с Томой на Камне почти каждое утро. Недели через две я плавал и нырял не хуже нее.
– Ты швыдко учишься! – однажды сказала мне она, и я в очередной раз смутился.
Приобретенные умения в плавании и нырянии я использовал в состязаниях с мальчишками-сверстниками. Если в плавании наперегонки я приходил первым далеко не всегда, то в нырянии с преследованием равных мне не было. Суть этого состязания была такова. Один из мальчишек прыгал с камня в воду и нырял как можно глубже и дальше. Задача прыгавшего в воду вслед за ним состояла в том, чтобы коснуться предыдущего ныряльщика рукою. Эдакие пятнашки в воде. Я придумал маленькую хитрость, которой не делился ни с кем, даже со своими братами и Томой. Прыгая с камня в воду, я не старался плыть под водой как можно дальше. Наоборот: нырнув, я делал под водой круг сверху вниз и ложился на самое дно. Через мгновение я чувствовал, что мой преследователь «гонит волну» в полуметре надо мной, пытается искать меня где-то впереди, стремясь угадать направление моего нырка. Переждав несколько секунд, я неспешно проплывал под водой несколько метров в сторону, чтобы оставить свой маневр в секрете, и выныривал на поверхность. Эта нехитрая придумка срабатывала и многие годы спустя, когда мы уже взрослыми мужиками развлекались подобными догонялками.
Вскоре мой авторитет пловца и ныряльщика настолько вырос, что даже взрослые парни стали приглашать меня ловить раков. Я быстро поднаторел в этом деле, наловчившись вытаскивать их из прибрежных нор и из плавней. Время от времени в норах оказывались крупные окуни, а подчас и ужи, что меня не особо смущало. Все мои пальцы были в отметках от клешней. Особенно больно почему-то щипались некрупные раки. Но вскоре я привык к их щипкам и, как ни странно, получал даже удовольствие от легкой саднящей боли. Не думаю, что во мне проснулись какие-то мазохистские наклонности. Скорее организм проявлял защитную реакцию на сопротивление этих членистоногих.
В конце лета мы с братами неожиданно подружились с сибиряком Генкой. Он оказался заядлым рыбаком. Не тем, что часами готов наблюдать за движением поплавка. Генка ловил рыбу бреднем, или, как говаривали в Каменке – волоком. Делал он это не столько из любви к рыбалке, сколько из желания прокормить семью, которой жилось не очень-то вольготно. Для ловли рыбы бреднем ему нужен был помощник, которым поначалу стал его ближайший сосед Сашко Пивных, а потом уже и я. Андрий и Толя участия в такой рыбалке не принимали, поскольку были заняты в работе по хозяйству у себя дома – помогали родным. Помогая Генке ловить рыбу волоком, мы с Сашком никогда не брали себе даже небольшую часть улова. Нам было ясно, что Генке эта рыба куда нужнее. Самую крупную Генка продавал по соседям, а ту, что помельче, отдавал своей семье. Кое-как концы с концами сводил.
Мы с братами видели, что Генкиным близким живется трудно. Мать старушка едва управлялась по хозяйству: куры, утки, коза и пара поросят требовали постоянного внимания. Жена занималась воспитанием маленького сына Вовки и готовила еду для всей семьи. Видя все это, мы с братами решили помочь им по-соседски. Этой помощи было посвящено совещание нашей братии в Раскопанной Могиле. Это был скифский курган, которых в округе встречалось немало. Он находился неподалеку от села и еще в дореволюционные времена был раскопан и разграблен неизвестно кем. В наше время он представлял собой высокую земляную насыпь с огромным углублением внутри, похожим на воронку от снаряда, на которые мы насмотрелись в кинофильмах о войне. Раскопанная Могила стояла посреди кукурузного поля и походила на глаз гигантского циклопа. Она уютно заросла бурьяном и была отличным местом для наших сборищ. Во время одного из них Толя предложил помочь Генкиной семье. Мы с братами горячо поддержали его предложение, но чем мы могли помочь?
– Давайте продадим нашего ангела, а деньги отдадим Генке, – предложил Толя.
– А как же путешествие в Африку?! – ахнул Сашко.
– Подождет твоя Африка, – сказал Андрий.
– А ты, Веня, что думаешь? – спросил Толя, и все посмотрели на меня.
– Меня бабушка Женя все равно в Африку не пустит, – честно признался я. – Так что валяйте, продавайте.
После долгих разговоров было решено поручить продажу ангела Андрию. У него в Городе, в единственной на всю округу действовавшей церкви, был знакомый священник, приходившийся ему какой-то дальней родней. Идея была не менее завирущая, чем путешествие в Африку, но Андрий после свойственных ему колебаний согласился попробовать. Я в тот же день достал из тайника ангела, помыл его с мылом в теплой воде, обтер тряпкой и отдал другу. Ангел после водной процедуры отливал синевой и выглядел очень привлекательно. На какой-то миг мне даже стало грустно от мысли, что придется с ним распрощаться. Но, поскольку я не особо верил в то, что ангела кто-то купит, чувство расставания мною не ощущалось. Каково же было наше всеобщее изумление, когда в воскресенье, после обеда, вернувшись из Города, Андрий с гордостью выложил из носового платка, запрятанного в нагрудный карман рубахи, хрустящую фиолетовую бумажку с ликом Ильича.
– Это что такое? – растерялся Сашко, глядя, как зачарованный, на купюру.
– Это – двадцать пять карбованцев за ангела! – с гордостью сказал Андрий. – Отец Онуфрий сказал, что наш ангел – из храма, который когда-то был в Каменке. В коллективизацию каменскую церковь разобрали, иконы пожгли, а утварь попрятали, что смогли. Вот и ангела этого кто-то закопал. Батюшка – честный человек. Он сказал, что ангел сделан из чистого серебра, но дело даже не в том. Он – настоящая реликвия. Его храму подарил сам Потемкин!
– Тот самый?! – ахнул Толя.
– Я ж кажу, тот самый! – кивнул Андрий. – Батюшка сказал, что ангел гораздо дороже стоит, но у него больше грошей нема.
– Ничего, Генке и это будет хорошей допомогой, – сказал Толя.
Ночью мы опять встретились всей честной кампанией возле моей хаты и отправились к Генкиному двору.
– У него калитка не запирается и собаки нема, – сказал Сашко. Мы положили на порог Генкиного дома деньги, завернутые в тетрадный лист. На листе написали: «Вовке – на морковки!». Лист придавили кульком пряников, который Андрий тоже привез из Города.
Все мы были счастливы, но больше всех – я, потому что авторство надписи принадлежало мне, и этот были первые стихи в моей жизни.
Лето в тот год неслось особенно быстро. Родители решили забрать меня из Каменки дней на десять раньше, чем обычно: подготовка к первому классу – непростое занятие. Дней за пять до их приезда тетя Маня вдруг спохватилась: давно не бывала в гостях у родственников в селе Защита, что километрах в пятнадцати от нас. Бабушка засобиралась тоже. Но я уезжать из села отказался наотрез! Не хватало мне последние денечки пребывания на Украине проводить в незнакомом селе, вместо того чтобы насладиться напоследок общением с братами. Родичи по-всякому пытались воздействовать на меня, но в конце концов, обозвав меня упертым хохлом, сдались. Приглядывать за мной оставили нашу дальнюю родственницу Таню, красивую тихую девушку лет пятнадцатишестнадцати с темными вьющимися волосами и огромными карими глазами. В Таню я был втайне влюблен, но она была настолько взрослой и хорошенькой, что мне самому себе было боязно признаться в своей влюбленности. Весь первый день мы ладили с ней вполне нормально. Я немного капризничал и кокетничал, скрывая свою робость, но Таня была человеком добрым и терпеливым. Она кормила меня заранее заготовленными бабушкой и тетей вкусностями, разогревая их на летней печке, а вечером, перед сном, дала мне пол-литровую банку парного молока, которой зачерпнула эту божественную влагу прямо из ведра после дойки нашей Зорьки.
Когда начались приготовления ко сну, я категорически отказался спать один, заявив, что всегда сплю только с бабушкой. Немного поколебавшись, Таня согласилась лечь вместе со мной. Должен признаться в том, о чем до сих пор не решился написать. В детстве я был ребенком довольно избалованным и привык к тому, что большинство моих желаний исполнялось. Не все и не всегда, но все же я умел проявлять настырность, о которой в более поздние годы часто сожалел. Среди моих детских привычек до школы сохранилась одна очень странная. Я не мог уснуть, если в моей руке не было маминой груди. В Каменке эту мою детскую блажь была вынуждена терпеть бабушка Женя. Когда мы с Таней легли в кровать, я без раздумий по-хозяйски полез к ней под ночную рубашку и в ответ услышал испуганный вопль. Какое-то время Таня долго пыталась высвободиться от моих неожиданных посягательств, но я оказался непреклонен. Устав сопротивляться, она тяжело вздохнула и укоризненно сказала:
– Какой же ты…
Но дальнейших слов я не слышал, потому что уснул. Спал я крепким сном победителя.
Глава 3. Комплекс Репки
Вероятно, ребенком я был не совсем нормальным. Об этом, например, говорит тот факт, что школу я принял восторженно. И это чувство не покидало меня. Каждый день был праздником. Я поглощал знания, как пирожки с повидлом за пять копеек в школьной столовой: в огромном количестве и с прекрасным аппетитом. Единственной четверкой в моем табеле была оценка за поведение, поскольку дрался я с мальчишками не только из своего класса, но и из двух параллельных тоже. Меня, как и других детей, конечно, воспитывали в школе и дома. Но, быть может, главным педагогом была все же улица со своими законами, представлениями о чести и нравственных ценностях. Улица поощряла «кулачки», презирала ябедничество, ненавидела душевную сытость. Она была великим педагогом – жестким и бескомпромиссным. Улица научила нас играть в хоккей обычными палками и заполненной гудроном консервной банкой, восхищаться самой малой жизненной малостью: например, едва появившимися и бывшими в колоссальном дефиците шариковыми ручками, от пасты которых пахло терпким запахом грецкого ореха. Нас воспитывали своим примером почти случайные люди. Среди них – актеры, снимавшиеся в кинофильме «Балтийское небо». Один из фрагментов рождался прямо возле нашего дома – на углу Фонтанки и «клина», к которому сходились улица Мясникова и Большая Подьяческая. Мы часами смотрели, как артисты десятки раз повторяли, казалось бы, простые сцены, как самозабвенно они совершали одни и те же действия. Я таким бесконечным трудом был зачарован, осознав уже тогда, что работа актера – занятие тяжелое, достойное восхищения. Но те съемки, как ни странно, научили меня, тогда еще совсем ребенка, ценить и уважать человеческий труд.
Моим кумиром был главный герой гайдаровского «Тимура и его команды». Пренебрегая авторскими правами выдающегося детского писателя, я создал в классе «тимуровскую команду», которая по собственной инициативе выискивала одиноких старушек и помогала им по мере сил. Мы бегали для них в магазин, мыли полы в коммуналках, когда наступала их очередь, к праздникам дарили бабулечкам скромные подарки, сделанные своими руками. Я настоял на том, чтобы наш тимуровский отряд был тайной организацией: о нем не знал ни один взрослый, ни одна девчонка. Помимо учебы в школе, я с удовольствием учился в музыкальной школе. Аккордеон был заброшен, и я учился по классу шестиструнной гитары, а также ходил в кружок английского языка при пединституте имени Герцена и три раза в неделю занимался футболом в клубе «Адмиралтеец» при Адмиралтейском заводе, где по-прежнему работал мой папа. У меня на все хватало времени. На все, даже на тоску по моей любимой Каменке.
Моя душа была устроена каким-то странным образом. Девять серых городских месяцев я рассматривал как время подготовки для поездки летом на Украину. В Ленинграде у меня были приятели-одноклассники, товарищи по занятиям музыкой, языком и спортом, но друзья, мои дорогие браты, по-прежнему были только на Украине. Я не мог объяснить этот феномен. То была данность – обстоятельства, в которых проходило мое октябрятско-пионерское детство. Мне еще было невдомек, что детство протекало счастливо, и главная жизненная печаль состояла в том, что году эдак в 1963-м Хрущев не ответил на мое письмо с просьбой принять меня в отряд космонавтов.
Оглядываясь назад, я не стыжусь своих детских амбиций, но мне неловко за то, что безоглядно везде и во всем желал быть только первым.
К счастью, в 1966 году, когда я учился четвертом классе, судьба меня немного лягнула своим золотым копытцем и поставила на место. Было это так. Наш класс готовился к празднованию всеми любимого Международного женского дня восьмого марта, который с того года стал выходным. Классная руководительница Лидия Яковлевна предложила нашему четвертому «а» поставить для мам кукольный спектакль по знаменитой русской народной сказке «Репка». Идея была горячо поддержана. Я в знак одобрения орал громче всех, на что учительница сказала:
– Вот и хорошо, Веня, будешь играть главную роль.
Поначалу я был счастлив и горд. Какому актеру не хочется сыграть главную роль?! Но когда участникам спектакля раздали самые настоящие театральные куклы, включая мышку, а мне вручили плоскую картонную репку, я осознал всю трагичность ситуации. На репетициях и во время самого спектакля я тупо держал картонный овощ, не проронив ни слова! После спектакля для мам и бабушек все его участники вышли из-за ширмы и весело раскланялись своими дедками-бабками-внучками-жучками, а я, как последний идиот, тряс ненавистным корнеплодом. Такого позора в моей честолюбивой жизни еще не было. Вечером в нашем доме был праздничный ужин. В гости приехала семья Мильниченко. За столом зашел разговор о прошедшем спектакле и о моем участии в нем. Узнав, что я играл роль репки, гости весело смеялись. Под улыбки и шуточки я пытался объяснить, что исполнение роли репки требовало особого умения.
– Представьте, – доказывал я, – как быстро нужно было махнуть рукой, когда вырывали репку, чтобы никто моей руки не заметил!
– Но ведь ты мог в тот момент репку просто отпустить, – сказала мама, и все опять засмеялись.
В тот вечер я был в ужасном настроении. Не порадовала даже красивая открытка с традиционной розой от тети Мани и бабушки, в которой они поздравили маму со «святом».
– Мама, а почему по-украински праздник – это «свято»? – спросил я.
– Думаю, потому что любой праздник – день необычный, святой по состоянию человеческой души, – задумчиво ответила мама.
Ее ответ мне понравился. Правда, в моей душе вместо святости была беспросветная грусть: «синдром репки» надолго выбил меня из колеи.
Но, как говорится, нет худа без добра. С тех пор я заметно поубавил свои амбиции, поняв, что скромность – не самое плохое человеческое качество. Перестав со временем быть хвастуном, выскочкой и горлопаном, я ощутил, что жизнь бывает куда интересней, когда проживаешь ее неспешно, незаметно, словно поглядывая на нее со стороны. Через год меня трудно было узнать. Куда-то подевались мои явные лидерские качества, моя завышенная самооценка. Нет, я не сник и не стал самоедом. Но мне стало нравиться пропускать в лидеры других, чтобы, следуя за ними, молча ощущать в себе собственный потенциал, способный, если надо, дать мне желаемый рывок вперед.
Мы по-прежнему жили в многолюдной коммуналке, но материальное благополучие шаг за шагом отвоевывало свое пространство. В доме появился пузатый холодильник «Ока», а вслед за ним «комбайн» «Беларусь-5» – огромный лакированный ящик, вмещавший в себя кроме телевизора проигрыватель и шикарный радиоприемник, принимавший программы на длинных, средних и ультракоротких волнах. У «комбайна» были вместо кнопок широкие белые клавиши, напоминавшие пианино. Этот чудо-телевизор родители поставили в дальнем углу комнаты, на место моей любимицы печки, которую мы топили дровами. Не так давно печку разобрали и вынесли на помойку. Теперь вместо нее в комнате появилось паровое отопление, что мне категорически не нравилось. Во мне почему-то прочно укоренился консерватор. Я даже к холодильнику относился с отвращением, потому что из-за него был лишен удовольствия забираться на подоконник, открывать форточку и доставать из-за окна, снимая с гвоздика, авоську с маслом и докторской колбасой, которые хранились, как говорила мама, «на свежем воздухе». Правда, к пылесосу и электрополотеру я отнесся благосклонно: пылесос подкупал меня своим мощным ревом, напоминавшим трактор, а на электрополотере втайне от взрослых я просто катался в комнате по паркету.
Единственным оплотом старой жизни оставалась дровяная колонка в ванной, в которой жильцы мылись, соблюдая строгую очередь. Топить колонку было моим любимым занятием. Я с самых ранних лет усвоил премудрости ее растопки, что позже пригодилось уже во взрослой жизни. Но ванну я любил не очень, поскольку она не шла ни в какое сравнение с Усачевскими банями, куда мы ходили с папой по субботам. У отца было немного странное представление о моем воспитании. Например, он считал, что после бани любой человек непременно должен выпить кружку пива. И одиннадцатилетний – в том числе. У меня и сейчас звучат в памяти его слова, обращенные к продавщице пива в бане: «Красавица, налейте, пожалуйста, одну холодненькую большую кружечку для меня и одну маленькую – с подогревом – для молодого человека!». Только ради того, чтобы папа назвал меня молодым человеком, стоило ходить в баню. Попробовав пива, как, впрочем, и «компотика» – домашнего вина – еще до школы, я не только не пристрастился к спиртному, но остался к нему совершенно равнодушным с годами, хотя при необходимости мог выпить наравне с любым крепким мужчиной.
К концу пятого класса я окончательно полюбил больше молчать, чем говорить, с интересом наблюдая окружавший меня мир. Родители считали, что я меняюсь не в результате осознания своих прежних ошибок и самовоспитания, а лишь потому, что приближается подростковый период моей жизни. Я же не считал себя подростком. К лету я тайком прочитал все собрание сочинений Мопассана, почти всего Тургенева и Лескова. Мой взгляд на мир был взрослым и усталым. Я по-стариковски неспешно решал, чем заняться в перспективе – историческими науками или каким-нибудь разделом биологии. Последнее привлекало, вроде бы, больше. Возможно, сказывалось то, что учительницей биологии готовилась стать моя двоюродная сестра Люся. Но к концу пятого класса моя душа просила отдыха, который наконец-то настал.
На этот раз в Каменку меня привезла Люся, ехавшая в родное село после окончания института. Ей предстояла работа школьной учительницы биологии, и она волновалась, как первоклашка. Меня тоже переполняли чувства: Каменку я считал даже не второй родиной, а неделимой частью единой Родины, которую половинить было невозможно. Ленинград – крупный российский город и Каменка – украинское село средних размеров – были при всех своих отличиях в моем детском сознании одним общим местом, где я чувствовал себя Дома. Только в этих двух точках планеты душа моя пела от счастья! Только здесь я ощущал себя Сыном Земли. Отними у меня одну из них, и я стал бы духовным инвалидом.
Поскольку Люся училась в институте заочно, выпускные экзамены она сдавала в конце апреля, а дипломную работу защитила сразу же после первомайского праздника, не то третьего, не то четвертого числа. На следующий день мои родители уже купили нам билеты до Новомиргорода. Мой обаятельный и фантастически инициативный отец к тому времени второй год был председателем родительского комитета нашей школы и водил дружбу с самим директором Борисом Федоровичем, который преподавал у нас математику. Папе не стоило большого труда уговорить своего друга отпустить меня из школы на три недели раньше положенного времени. Так что в Каменку мы с Люсей прибыли незадолго до 9 мая.
В советской Украине, пережившей гитлеровское нашествие, к Дню Победы все относились трепетно. Каменские фронтовики 9 мая надевали вышиванки или белые рубахи, а поверх них – кургузые пиджаки забытого покроя с медалями. Ордена у местных фронтовиков были тоже, но довольно редко.

