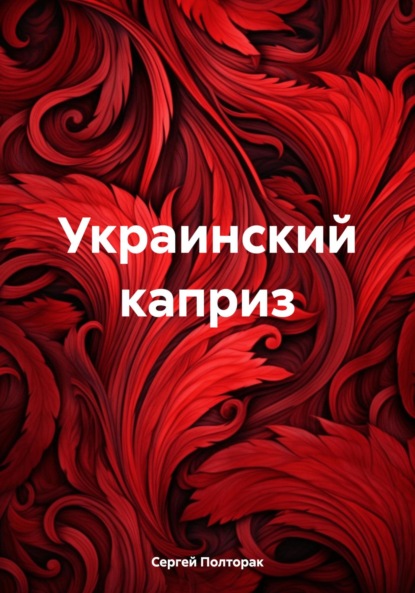
Полная версия:
Украинский каприз
– Орденоносцы уже в могилах лежат: кто еще на войне лег, кто-то едва до хаты доехал, ушел от ран, – объяснил мне дядька Илько, одноногий инвалид, воевавший с моим отцом в одном взводе. – Те, что выжили, редкие везунчики. В основном хлопцы из последнего военного набора декабря сорок четвертого. Мы и повоевать-то толком не успели. Батьку твоего контузило слегка и ранило маленько, а мне вот – меньше повезло, – пнул он костылем свою деревяшку под культяпкой. – Но мы ж не задаром себя под немецкие пули подставляли: все – ради кращей доли, ради счастливого майбутя – будущего по-вашему, ради еще не народившихся деток своих. Вот ты, Веня, кем хочешь стать, когда вырастешь?
– Лепидоптерологом!
Дядька Илько посмотрел на меня встревоженным взглядом:
– Точно не космонавтом, а этим лепи… – он вытер тыльной стороной ладони пот под картузом и вдруг просиял:
– А! Понял тебя, сынок! Лепить будешь? Типа скульптуры там всякие, да?
– Не, дядька Илько. Лепидоптерология – это просто раздел энтомологии, который изучает чешуекрылых, понимаете?
– Вы там в своем городе, похоже, совсем с ума посходили, – задумчиво сказал он, ковырнув землю протезом. Эта деревяшка чем-то была похожа на ракету, и я с интересом смотрел на необычное продолжение человеческой ноги.
– По-людски можешь пояснить?! – вернул меня к разговору дядька Илько.
– Это наука про бабочек, – пожал я плечами.
– Тю! Это те, что в поле летают?! – изумился он.
– Не только в поле, но и в тропиках, и в северных лесах, – вдохновился я разговором на любимую тему.
– Ты бы, Веня, еще червяков изучать вздумал! – хмыкнул мой собеседник и захохотал над собственной шуткой.
– Меня не интересует ни гельминтология, ни нематология! – твердо сказал я.
– Чего нема? – растерялся дядька Илько.
– Я говорю, нематология – наука о круглых червях. Она меня не интересует. Как и наука о червях-паразитах, которых изучает гельминтология.
– Червяк – он червяк и есть, Веня. Нехрен его изучать, делом надо заниматься! – назидательно сказал дядька Илько и, похлопав меня по плечу, заковылял по своим делам.
Мне стало ясно, что со взрослыми не всегда нужно быть откровенным, поскольку у них странный взгляд на окружающий мир.
Утром 9 мая все наше село собралось на Той Стороне возле братской могилы и памятника солдату-освободителю. На маленькой площади возле памятника все желающие не поместились, многие стояли на соседних улочках, неподалеку. Был митинг, кто-то что-то громко говорил, потом к братской могиле возложили цветы, и все разошлись по кладбищам. Их в Каменке аж три. На Нашей Стороне – свое кладбище. Его я знаю до мелочей. На нем мы с хлопцами играли «в разведки», облазав его вдоль и поперек. Кладбище не совсем обычное. Оно за годы своего существования невольно разделилось на три части. Самая старая, ближняя к центральной улице, особенно неинтересная. Она представляет собой чистое поле, на котором видны многочисленные ямки – следы от затоптанных могил. Бабушка Женя рассказывала, что, когда еще до войны с немцами, в начале тридцатых годов, был голодомор, на этой части кладбища колхозникам варили в огромных котлах борщ и кашу. Люди приходили за едой, и стояли за ней в очереди прямо на могилах предков. Могилы не выдерживали веса человеческих тел и проваливались. Я, будучи ребенком, не мог отделаться от ощущения, что могилы проваливались от стыда за своих потомков, которые ради еды были готовы топтать свое прошлое. Наверное, мне, сытому, легко было рассуждать. Что бы я сказал тогда, году в тридцать втором? Так или иначе, но эта часть кладбища рассматривалась селянами, как «прелюдия» к кладбищу как таковому.
На этой части погоста часто можно было встретить подростков и взрослых людей, косивших траву для коров, коз и кроликов. Поскольку местность была неровной, большими косами траву там косить было неудобно. Косили скисками – маленькими косами, по размеру больше схожими с серпами. Однажды мы с бабушкой косили там траву для нашей коровы и увидели, как парень с соседней улицы – Васька Сывак – нечаянно порезал себе скиском ногу. Кровь хлестала здорово. Бабушка оторвала от своей нижней юбки-спидницы лоскут и ловко перевязала ему ногу. Васька хныкал от боли, а я думал о том, что кладбище так объясняет людям, что не следует своими житейскими делами отвлекать усопших от мирного лежания.
Вторая часть кладбища представляла собой большой участок, заросший деревьями и кустами – в основном сиренью и колючей дерезой. Там находились могилы усопших в конце тридцатых – в начале пятидесятых годов. Именно здесь было основное место наших игр «в разведки». На самой дальней части кладбища мы не играли: на ней были относительно недавние захоронения и совсем новые могилы. Место было голое, открытое и выходило на крутой берег Большой Выси.
Перед началом игры «в разведки» всегда возникала почти неразрешимая проблема: никто не хотел быть фашистом, всем хотелось сражаться на стороне красноармейцев. Только один мальчишка, Гришка Забелий, по прозвищу Фюллер, всегда с готовностью шел играть за врага.
– Я – фюллер, фюллер! – радостно орал он. – Кто будет в моей команде?!
Доморощенного фюрера никто терпеть не мог, но команду набирать было нужно – иначе какая же игра? Бросали жребий. Счастливчики попадали к красным, неудачники играли за фашистов, за этого самого Фюллера.
Как-то раз удача отвернулась от меня, и я попал в команду Гришки. В самом начале игры я напал на него, от души отлупил и скрутил ему руки за спиной прочным травяным жгутом.
– Так не честно! – плевался в ярости Фюллер. – Ты должен играть за меня, а не драться!
– Мне можно. Я – заговорщик-антифашист! – объяснил я и для убедительности влепил Фюллеру пендаль. Больше сельские мальчишки меня играть «в разведки» не брали, как я ни просил. Объясняли, что я – скаженный. Было досадно, но я смирился.
9 мая каждого года в Каменке отмечался и печальный праздник – День скорби по ушедшим близким, который местные жители называли «Гробки». После митинга на Той Стороне все жители Нашей Стороны возвращались домой, брали с вечера приготовленные узелки с едой и самогонкой и шли на кладбище поминать близких. Обходили могилы родных, здоровались подчеркнуто уважительно с другими пришедшими. В конце концов каждая семья устраивалась возле могилы одного из самых ближайших родственников и начинала поминать его и всю остальную родню. Особенность состояла в том, что по большому счету родственниками в селе были все или почти все. Чем больше длилось поминовение, тем рельефней проявлялись родственные чувства собравшихся. Ближе к обеду народ набирался основательно, и слезы печали по ушедшим перемешивались со слезами умиления по поводу здравствующих. Со стороны это выглядело очень трогательно. Глядя на участников «гробков», я почему-то проникался чувством глубокого почтения и к мертвым, и к живым.
Весной 1967 года мне было двенадцать лет. Казалось, взрослее уже некуда. Но я по-прежнему спал с бабушкой, и она перед сном иногда рассказывала мне «про древность». Теперь, правда, рассказчиком чаще был я. Пересказав бабушке Жене «Повести Белкина», «Записки охотника», «Севастопольские рассказы», я уж было собрался перейти к проблемам биологии, как вдруг случилось неожиданное: я познал Любовь. Точнее, получил о ней очень четкое представление, хотя самой любви, пожалуй, не испытал. По причине раннего взросления я зачастил в клуб на танцы, и нашим с бабушкой вечерним побрехушкам перед сном наступил конец.
Все это случилось совершенно внезапно во второй половине июня. До того момента мы с братами вели роскошный образ жизни: купались, ныряя прямо с лодки, ходили в поход в единственный в округе лесок, где росла лещина с замечательно душистыми орехами, по вечерам купали в реке колхозных лошадей, ловили рыбу и раков. Одним словом, дышали полной грудью воздухом свободы и вольной жизни.
Однажды Сашко рассказал, что к Генке приехали родственники из Ленинграда: муж с женой и их дочь, окончившая восьмой класс. Мне это было почему-то безразлично. Ленинградских девчонок я насмотрелся вдоволь, и никакого интереса они у меня не вызывали. Спустя пару дней после того разговора я решил заглянуть к Саше домой, чтобы позвать его на речку. Дома его не оказалось:
– Он у Генки толкается, с гостями ихними любезничает, – сообщила мне Сашкина мама.
Дойдя до соседнего двора, я остановился у калитки и увидел вальяжную даму с папиросой в руке и с огромным пестрым попугаем на плече. Дама была похожа на иностранную киноактрису, а попугай – на цветастую некрупную курицу. Признаться, прежде я никогда не видел курящих женщин. Попугаев видел в зоопарке, но так, чтобы в домашней обстановке – не приходилось.
– Здравствуйте, – вежливо сказал я. – Скажите, пожалуйста, Сашко у вас?
Вопрос я задал, естественно, по-русски, чем обратил на себя внимание дамы.
– Мальчик, это ты из Ленинграда? – поинтересовалась она.
Я ответил утвердительно.
– А в какой школе ты учишься? – из вежливости спросила она.
– В триста семьдесят седьмой, – ответил я. И уточнил: – Это в Московском районе.
Дама посмотрела на меня почему-то удивленно, обернулась к открытому в хате окну и громко сказала:
– Ира, иди сюда! Тут мальчик из твоей школы.
Тут же на пороге появилась совершенно взрослая красивая девушка, которая больше была похожа на молодую женщину, чем на школьницу.
– Привет! – улыбнулась она и сверкнула здоровенными голубыми глазищами. – Ты вправду из триста семьдесят седьмой?
Я пожал плечами, потому что сам засомневался в таком совпадении. Мыслимо ли в глухом украинском селе встретить человека, с которым учишься в одной школе в городе за полторы тысячи километров отсюда? Да и лицо мне ее показалось незнакомым. Такую красивую старшеклассницу вряд ли я мог не приметить. Мы разговорились, и стало ясно, что мы действительно учимся вместе. Точнее, учились. Ира только-только сдала выпускные экзамены и поскольку наша школа – восьмилетка, поступила в девятый класс в другую школу. Сашко, наблюдавший наш разговор, удивлялся этой встрече, казалось, больше всех:
– Тут без магии не обошлось! – уверял он. – Не бывает таких совпадений без магии!
Неожиданно общение с Ирой стало для меня на время главным занятием. Закадычные друзья Сашко, Андрий и Толя оказались на обочине моей личной жизни. Странное дело, без меня они жили сами по себе, почти не общаясь друг с другом: помогали родителям по хозяйству, ходили купаться на Камень, рыбачили с берега самодельными удочками. Я же был поглощен новым знакомством. Ира притягивала меня своей взрослостью и красотой. Часами мы просиживали в маленькой комнатке в сарае, слушая раздолбанный радиоприемник. Ира была меломаном. Она сходила с ума по «Битлз», «Роллинг Стоунз», «Пинк Флойд», «Дорс», «Траффик» и еще каким-то группам, о которых я не слыхал. Еще год оставался до появления «Дип Перпл», но их гениальные мелодии, казалось, уже витали в воздухе.
Я был далек от ее увлечения западной музыкой, благосклонно относясь лишь к советской эстраде. Точнее, к двум песням Эдиты Пьехи: «Город детства» и «Замечательный сосед».
– Ты еще маленький, поэтому у тебя такие вкусы, – улыбнулась как-то по этому поводу Ира. Мне было неловко, что я такой никакой. Но почему-то специально взрослеть ради красивой Иры совершенно не хотелось.
– Скучная у них музыка, – пожимал я плечами, когда мы слушали «Желтую подводную лодку» группы «Битлз». – Какая-то там не пойми кто ела «Поморин», – намекал я на популярную в то время зубную пасту.
– Не ела «Поморин», а «yellow submarine», – снисходительно поглядывала на меня Ира. – Это по-английски, понимаешь?
– Что тут понимать? Я эту песню благодаря тебе сто раз слушал и выучил наизусть. Жаль, гитары нет! Я б тебе ее сыграл и спел не хуже этих волосатиков.
– Хвастунишка! – засмеялась Ира красивым грудным смехом. – Ты английский язык начал учить только год назад. Как ты мог запомнить слова?! Про гитару вообще молчу!
Мне не хотелось хвастаться перед этой взрослой девушкой и рассказывать ей, что у меня прекрасная память, что я уже восемь лет изучаю английский язык и окончил пять классов музыкального училища по классу гитары. Скептическая улыбка Иры почему-то делала меня робким и стеснительным, да и «комплекс репки» по-прежнему не отступал.
– Была бы гитара, я бы тебе доказал, – выдавил я из себя.
– Гитара? Я видела какую-то допотопную с бантом здесь на чердаке. Или, как вы тут его называете – на горище. Хочешь, достану?
Я кивнул.
– Тогда подержи лестницу, я мигом! Кстати, как будет лестница по-украински?
– Драбына.
– Вот и держи эту самую драбыну.
Ира ловко стала забираться по лестнице на горище. Я придерживал драбыну снизу и завороженно смотрел вверх на загорелые Ирины ноги, на ее белые трусики. Никогда еще мне не приходилось видеть почти обнаженную девушку так близко. Очень захотелось дотронуться до ее стройных ног, но я с ужасом отогнал от себя эту неожиданную мысль.
Через несколько секунд девушка опять появилась в чердачном проеме и начала спускаться вниз. В ее левой руке была гитара, и поэтому Ира спускалась немного неуверенно, медленно. Я опять смотрел на нее снизу-вверх и понимал, что она знает, что я разглядываю ее. Мне даже показалось, что ей это нравится. Неожиданно ее нога соскользнула с лестничной перекладины, и девушка полетела вниз. Я подхватил ее удивительно удачно и, хотя мы оба упали, падение было мягким и даже приятным. Только гитара жалобно чирикнула и задрожала расстроенными струнами. Ира лежала на мне, не выпуская гитары из руки. Мне захотелось, чтобы так продолжалось вечно. Она поднялась, посмотрела на гитару, а потом на меня и неожиданно спросила:
– Ты когда-нибудь влюблялся?
– Давно, в детском саду, – покраснел я.
– Хорошая была девочка?
– Да. Ее тоже Ирой звали. Ира Жиляева. Мы потом даже вместе в первом классе учились.
– А что было потом?
– Она оказалась дурой и осталась на второй год.
Ира опять рассмеялась своим потрясающе красивым смехом, но вдруг насупилась:
– Смотри, а верхняя струна-то порвалась, когда я с драбыны вниз летела. Паганини, правда, и на одной струне мог сыграть. Знаешь, кто такой Паганини, или вы еще это не проходили?
– Знаю. Его как моего папу звали – Николаем, Николой в смысле. Почти Мыкола по-украински. Только он на скрипке играл, а не на гитаре. Паганини – автор двадцати четырех знаменитых каприччио для скрипки.
– Двадцати четырех чего?
– У нас в стране это слово чаще произносят как «каприс», а то и «каприз» – так привычней для нашего уха. Когда стану взрослым музыкантом, напишу «Украинский каприз» на тему народных мелодий.
– Значит, Вениамин Николаевич, услышать в вашем исполнении «Yellow Submarine» мне не судьба? – дурашливым голосом спросила Ира.
– Если мисину найти, можно струну ею заменить, – предположил я.
– Что найти?
– Мисину, так в Каменке говорят. Ее еще называют «волосинь».
– Я просто не знаю, как это называется по-русски.
– Ты точно ленинградец? – шутливо нахмурилась Ира.
– Точно. Просто в Неве я рыбу не ловлю, а в Большой Выси – почти каждый день.
– Постой, волосинь, говоришь? На волос похоже, – предположила Ира. – Может, это леска?
– Конечно, леска! Знал, но забыл! – хлопнул я себя по лбу.
– Так этой лески у Генки, как у дурака махорки! – радостно сказала Ира, открывая ящик стола. Действительно, в ящике лежало несколько мотков лески, аккуратно намотанных на газетные скрутки. Я выбрал самую тонкую, потому что порванной была верхняя струна.
Ира с любопытством смотрела, как я настраивал гитару. Работалось мне привычно быстро, так что взгляд девушки все больше утрачивал ироничность. Наконец я был готов. Встав на табуретку с короткими ножками, я голосом бывалого конферансье сообщил:
– Группа «Битлз», песня про желтую подводную лодку, проще говоря, «Yellow Submarine».
Услышав мое приличное английское произношение, Ира слегка вздрогнула от неожиданности и с интересом посмотрела на меня. Я запел, с удовольствием смакуя английские слова, подыгрывая себе нехитрым экспромтом. Мне было весело с этой красивой голубоглазой девчонкой, не чувствовалось никакого волнения. Мое пение можно было даже назвать кривлянием, потому что об этой рок-группе у меня, советского ребенка, было слегка искореженное представление, привнесенное родной школой и улицей. Если школьные учителя говорили о тлетворном влиянии Запада, то взрослые парни из подворотни, наоборот, едва ли не обожествляли Джона Леннона и его друзей. Я же выбрал из этих двух взглядов, не имея своего, какой-то средний, результирующий, слегка карикатурный образ. Но моя раскованность делала свое дело: Ира была в восторге! Когда я закончил петь, она, сияя, спросила:
– Ты почему не говорил, что так классно исполняешь битлов?!
– Потому что я никогда их не исполнял.
– Врешь, этого не может быть!
– Честное пионерское! – сказал я и для большей убедительности перекрестился.
– Идиот, – констатировала Ира.
– Бабушка тоже так считает, – честно признался я.
В тот день я много играл на гитаре, но с особым чувством – песни Пьехи, особенно «Где-то есть город, тихий, как сон…». Ира задумчиво смотрела на меня, а потом вдруг спросила:
– Ты умеешь целоваться?
– В щечку – да, а как в кино – нет.
– Хочешь, я тебя научу?
Я стыдливо закивал и, наверное, покраснел. Ира легонько прикоснулась к моим губам своими волшебными устами. Мне было страшно.
Потом мы целовались и целовались. Все больше и больше. Все дольше и дольше. Наконец я осмелел так, что сам начал ее целовать.
– Не кусайся, Веня! Я не такая вкусная, чтоб меня есть! – попросила Ира. Мне было неловко от всего на свете: от моей неумелости, от моего малолетства, от ее красоты и своей невзрачности. Словно угадав мои мысли, она сказала, скользнув взглядом по моим вылинявшим треникам:
– Тебя бы немного приодеть и был бы полный порядок.
Я понимающе промолчал.
Потом Ира рассказывала о себе и о своей любви. У нее был парень. Взрослый. Совсем взрослый. Он хотел, чтобы они спали.
– Понимаешь, о чем я говорю, Веня?
– Конечно! – криво ухмыльнулся я, давая понять, что владею проблемой не хуже Мопассана. Того самого, который Ги де. Но Ира Мопассана не читала и даже о нем не слышала. Немного странной была эта девушка, но ее взрослость и красота были куда важней прочей ерунды.
– Так ты ему, значит, не даешь? – по-взрослому уточнил я.
– Целовашки-обнимашки – это пожалуйста. Все остальное – только будущему мужу. Так я решила. Это не современно, но это правильно.
– У нас с тобой тоже целовашки-обнимашки? – поинтересовался я.
– У тебя, Веня, курс молодого бойца! – командирским голосом сказала Ира.
– А у тебя тогда – курс пожилого бабца! – съехидничал я.
– Сейчас дам тебе по шее и больше не пущу на порог.
– Могу и сам уйти! – решительно сказал я и направился к выходу из сарая.
– Постой, постой, ты чего?! Дурачок обидчивый! – ласково сказала Ира. Она подошла ко мне и поцеловала так, что у меня все поплыло перед глазами. Я их закрыл, но это совсем не помогло: комната ходила ходуном.
– Вот с тобой бы, Веня, я переспала, но, боюсь, у тебя еще «переспалка» не выросла, – серьезно сказала она.
– Давай поженимся, когда я стану взрослым? – предложил я.
– Хорошо, я буду тебя ждать, – пообещала она, и я почему-то понял, что это вранье.
– Фамилия у тебя есть, жених? А то как-то неловко: замуж собралась, а свою будущую фамилию не знаю.
– Хвыля.
– В каком смысле?
– Фамилия моя – Хвыля.
– Смешная у тебя моя будущая фамилия! – улыбнулась Ира.
– А у тебя какая?
– Васильева. Представляешь, тоска какая?! Просто предок был Василием, вот и все. То ли дело у тебя.
– Хвыля по-украински – волна, – объяснил я.
– Значит, у тебя – волнительная фамилия, – заметила Ира и по-хозяйски прильнула к моим губам затяжным поцелуем.
Так я в очередной раз повзрослел. Моя взрослость развивалась какими-то рывками. Отношения с Ирой стали прыжком в бездну. Это были совершенно новые ощущения, происходившие в сознании и в теле. Я не знал, как выглядит любовь. Что-то мне подсказывало, что с Ирой у нас – не любовь, а что-то другое. Может, она и в самом деле права, назвав наши отношения курсом молодого бойца?
Меня распирало от гордости, что такая красивая и взрослая девушка дружит только со мной. Действительно, ей не были интересны местные парубки, которые поглядывали на нее маслянистыми глазами.
– Она замужем? – спросил меня взрослый парень с Той Стороны, когда мы с Ирой под ручку впервые пришли в сельский клуб на вечерний сеанс, после которого были танцы.
– Нет, в разводе, – зачем-то соврал я.
– Дети у нее есть? – деловито осведомился парубок.
– От первого брака, – сообщил я.
Со стороны мы, вероятно были странной парой: вполне созревшая городская девушка и двенадцатилетний подросток. Никто, разумеется, и представить себе не мог, чем мы занимались изо дня в день в Генкином сарае. Правда, мы не только целовались и слушали музыку, но и очень много говорили о жизни.
– Ты кем хочешь стать, когда вырастешь? – как-то поинтересовалась моя подруга. Наученный общением с дядькой Илько, я уже не говорил правду, а немного хитрил:
– Точно не технарем. Скорее, биологом, или историком. А может быть, музыкантом или поэтом.
– Ты что, стихи пишешь? – удивилась Ира.
– Нет, но может быть когда-нибудь начну, – отбрехивался я.
На самом деле я уже пару лет как писал стихи. Получалась такая абракадабра, что самому было противно от написанного. Но удовольствие от писания получал большое. Непонятно устроен человек!
Мне было неясно, почему Ира не обращает внимания на местных парубков. Среди них были и симпатичные. Взять, к примеру, моего друга Толю Мильниченко. Он был старше меня на два года и выглядел уже совсем взрослым парнем. Когда мы купались на Камне, его ладная бронзовая от загара фигура поражала рельефностью мускулатуры. Рядом с ним я был мелким городским недоразумением. Толя называл меня «хилое дитя каменных джунглей», хотя знал, что завожусь я с пол-оборота и всегда сначала хренячу парням кулаком в лицо, а уж потом думаю, зачем я это делаю.
– Это у вас просто порода такая скаженная, – объяснял он мне. – Старики говорят, что у тебя батька был такой, когда в парубках ходил, а уж дед твой – Гаврила – вообще драчун был знаменитый. Его не только Каменка, но и вся округа боялась. А если, бывало, село на село ходили драться, дед твой Гаврила Филиппович всегда шел впереди, как Чапай. Правда или нет, не знаю, но сказывали, что удар у него был смертельный. Если попал в голову – считай хана человеку! Какому-то дядьке в драке он в сердце ударил: не поверишь, сердце просто остановилось и разорвалось. Судить его тогда были должны, но призвали на войну, на Первую мировую. Он с нее героем пришел: два Георгия на груди. А там революция, а он, как всегда, в активистах. Грамотный был и речистый на удивление. Потому его и первым председателем колхоза выбрали. А кого еще, как не Гаврилу Хвылю?
– Мой дед погиб в сорок четвертом, в декабре, – встрял я.
– Да, я знаю. Только про моего деда мне неизвестно ничего. Кого ни спрошу, никто ничего не знает.
– Может, что еще и выяснится, – спрятал я от Толи потупившийся взгляд. Как мне хотелось ему рассказать, что дед его жив, что он в Ленинграде, что дружит с моим папой! Но это была не моя тайна, и я не рассказывал о дяде Феде даже своему самому-самому близкому другу и названному брату.
Однажды, пребывая в каком-то странном порыве, я спросил у Иры, почему она общается только со мной, хотя в селе есть немало симпатичных взрослых парней.
– Не люблю скобарей! – надменно ответила она и шутя щелкнула меня по носу.
Ее слова вызвали у меня смешанные чувства. С одной стороны, было, конечно, лестно, что из многих она выбрала именно меня. Но Ирино высокомерие было мне неприятно. Тем более что скобари здесь вообще ни при чем. Скобарями издавна называли жителей Псковщины, потому что они прославились изготовлением скобяных изделий, а каменских жителей не называли никак. Не прославились ничем, значит.
Взрослые парни стали мне завидовать еще больше, когда мы с Ирой впервые пришли на Камень загорать. Она скинула свой легкий сарафан в горошек, и все, кто был на пляже, уставились на ее точеную фигуру в модном купальнике. В ней все было очень пропорционально и свежо. Юное пышущее здоровьем спортивное тело, казалось, улыбалось, говоря: «Видите мою красоту? Наслаждайтесь созерцанием, пока я здесь». Толя смотрел на Иру, сглатывая слюну и поигрывал своей мускулатурой.
– Веня, пойдем купаться! – сказала Ира, взяв меня за руку.
Мы решительно вошли в воду, но на глубину девушка идти побоялась, потому что плавала плохо.
– Поучи меня плавать возле берега! – попросила она.

