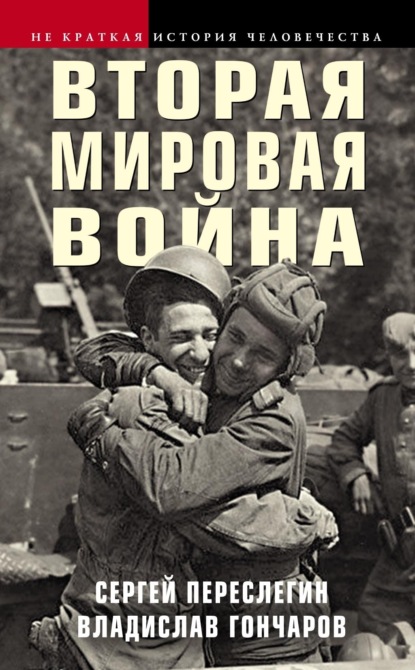
Полная версия:
Вторая мировая война
От немецких мемуаристов часто приходится слышать жалобы на то, что далеко не вся германская артиллерия была оснащена механической тягой, и значительную часть пушек приходилось возить по старинке, лошадьми. Между тем, в начале 40-х годов еще не у каждой пушки лафет был вообще пригоден для буксировки автомобилем или трактором – не говоря уже о том, что в сельскохозяйственной стране корм для лошадей отыскать проще, чем топливо для машин. Да и передвигаются по грязи лошадки не в пример лучше грузовиков.
Именно поэтому зимой 1941/42 года под Москвой гужевая тяга для немцев неожиданно стала основной, а оставшиеся без горючего, поврежденные либо просто вмерзшие в грязь танки и грузовики пришлось бросать на дорогах, после чего они частично пополнили ряды Красной армии. Между прочим, лошадей у вермахта на Восточном фронте к началу войны тоже было больше – два миллиона против одного миллиона у Красной армии.
Итак, мы видим, что немцы имели сравнительно мало танков отнюдь не от бедности. Нет, они просто не делали ставку на одни лишь танки, обеспечивая боевую силу и подвижность механизированных войск другими видами техники. У Гудериана если об этом и говорится, то вскользь, между строк. Между тем, еще в 1931 году советский теоретик танковых войск К. Б. Калиновский отмечал, что моторизация важнее механизации (т. е. оснащенности танками):
«Вообще получается, как это ни странно, что моторизованное соединение… оснащенное соответствующими средствами разведки, обладает самостоятельностью большей, чем подобного рода механизированное соединение… [Но] с точки зрения наступательных возможностей наступательная способность механизированного соединения выше, чем моторизованного…
Способность удерживать местность у моторизованного соединения полная, а у механизированного соединения эта способность будет равна почти нулю, сила механизированного соединения – в движении и в огне».[25]
Вот мы и добрались до главного назначения танков: они обеспечивают усиление моторизованной пехоты при операциях в глубине обороны противника, но при этом не способны к самостоятельным действиям. Поэтому процитированное выше утверждение о том, что «пехота поддерживает действия танковых частей, а не наоборот» является ошибочным. Пехота важнее танков, именно танки используются для ее поддержки, а не наоборот. Опыт Второй мировой войны наглядно показал, что отсечение танков от пехоты ведет к неизбежному провалу танковой атаки. При том, что пехота без танков при наличии должных способностей командования и необходимого превосходства в силах способна выполнить весь спектр боевых задач – просто медленнее, с большими усилиями и более высокими потерями.
Изначально танки были созданы как раз для поддержки пехоты. И таковая поддержка остается их главной задачей и по сей день. Да, поначалу немцы старались не использовать танки непосредственно в прорыве обороны противника, предпочитая вводить их в уже готовый прорыв – но и в советских уставах 30-х годов четко разделялись функции непосредственной поддержки пехоты (НПП) и танков дальнего действия (ДД). Первые входили в состав танковых батальонов, придаваемых пехотным соединениям, вторые – в состав танковых дивизий и корпусов, предназначенных для введения в прорыв; их использование для «допрорыва» обороны уставами допускалось, но не одобрялось.
Немцы же, ориентируясь на опыт 1918 года, полагали свою пехоту вполне способной прорвать вражескую оборону и без танков, используя тактику «штурмовых групп», – естественно, при активной поддержке авиации и артиллерии. Для крайних случаев у них существовали дивизионы штурмовых орудий – полный аналог танков НПП. В ходе кампании на Востоке, столкнувшись с необходимостью раз за разом прорывать прочную оборону, немцы постепенно наращивали количество штурмовых и самоходных орудий в пехоте, а с 1943 года были вынуждены начать создание специальных танковых частей НПП – тяжелых танковых батальонов. Эти батальоны состояли из танков «Тигр», они придавались пехотным (а не моторизованным!) дивизиям и корпусам и должны были усиливать немоторизованную пехоту как в обороне, так и в наступлении.
Танки и моторизованные войска
Попробуем же сформулировать общие принципы тактики танковых (точнее сказать, мотомеханизированных) войск, как они проявились в ходе войны:
1. Подвижные (мотомеханизированные) части предпочтительно вводить в чистый прорыв, минимизируя их потери при преодолении вражеской обороны.
2. Подвижные части захватывают не территорию, а ключевые пункты в тылу противника, – желательно там, где они не обороняются или слабо защищены.
3. Эффективность подвижных войск достигается хорошей разведкой и связью, которые определяют правильный выбор цели, неожиданность и быстроту в ее захвате, а также связь с авиацией – выполняющей в данном случае функции тяжелой артиллерии.
4. Мало просто захватить ключевой пункт – надо еще его удержать. Для этого подвижное соединение, во-первых, должно иметь достаточное количество пехотного наполнения, а во-вторых – артиллерийскую поддержку.
5. Успех подвижных сил следует как можно скорее закрепить переброской в захваченный «шверпункт» дополнительных сил, а также обеспечением их коммуникаций – то есть закреплением за собой занятой территории.
Нетрудно заметить, что во всех описанных выше случаях, ключевую роль в закреплении достигнутого успеха играет пехота. Особенно же важна ее роль в окончательном блокировании коммуникаций окруженной группировки и пресечении ее путей отхода.
Даже в эпоху моторов пехота продолжает оставаться основной боевой силой сухопутной армии. Именно она обеспечивает достижение окончательного результата любой операции – закрепление достигнутого успеха и физическое уничтожение живой силы противника. Ни танки, ни авиация, ни кавалерия, ни артиллерия на это не способны – ни тогда, ни сейчас.
Танки могут несколько усилить пехотную оборону, но их главное качество – подвижность – в обороне бесполезно. Здесь они в лучшем случае будут выполнять роль самоходной артиллерии, с учетом же ТТХ танков 30-х годов – легкой и слабо защищенной. Конница для обороны также вынуждена спешиваться, то есть в оборонительном бою кавалерийская дивизия будет представлять собой пехотный полк с соответствующей артиллерийской поддержкой.
Уже в 20-е годы, при сохранении кавалерии, роль основных подвижных сил начала отводиться моторизованной пехоте, передвигающейся на автомашинах. Уже в ходе Второй мировой войны к ним добавились бронетранспортеры. Такой пехоте требовалось сопровождение моторизованной же артиллерией – это предъявляло дополнительные требования и к разработчикам артиллерийских систем, поскольку большинство пушечных лафетов времен Первой мировой не имели соответствующего подрессоривания и были приспособлены лишь для небыстрого перемещения на конной тяге.
Впрочем, как уже упоминалось выше, в немецкой концепции блицкрига роль артиллерии поддержки отводилась штурмовой авиации – в первую очередь знаменитым пикирующим бомбардировщикам «Юнкерс» Ju.87 «Штука». Правда, уже в 1940 году выяснилось, что пикировщики в полной мере эффективны только против достаточно крупных объектов: кораблей, мостов, пунктов тыловой дислокации войск и штабов (со всеми сопутствующими службами), позиций береговой и полевой артиллерии, крупных долговременных укреплений. Даже борьба с танками (особенно движущимися) требует от пикировщиков очень высокой подготовки пилотов и в итоге оттягивает непропорционально большие ресурсы. А против отдельных огневых точек (в том числе противотанковых пушек), пехоты в рассыпанном строю, а тем более окопавшейся, пикирующие бомбардировщики оказались бессильны.
Забегая вперед, напомним, что в ходе войны задача действий непосредственно на поле боя или в ближнем тылу противника перешла к горизонтальным самолетам-штурмовикам, в роли которых часто использовались обычные тяжелые истребители. Они действовали с горизонтального полета на предельно малой высоте, поражая противника бортовым стрелковым оружием и россыпью мелких бомб либо реактивными снарядами.
Для борьбы с бронетехникой такие самолеты начали оснащать более мощными пушками: 30- и 37-мм в Германии, 23- и 37-мм в СССР, 40-мм в Англии; американцы попытались поставить на свой двухмотороный «Гризли» даже 75-мм пушку. Правда, очень быстро выяснилось, что пушки в громоздких подкрыльевых контейнерах резко ухудшают аэродинамику самолета и приводят к низкой точности стрельбы, поэтому эффективнее использовать реактивные снаряды. После Второй мировой функции штурмовиков во многом приняли на себя вертолеты, однако в конце 1960-х в американской армии вновь возродились «ганшипы» – тяжелые самолеты, оснащенные пулеметами и артиллерией для борьбы с наземными целями в условиях слабой ПВО (т. е. против партизан в джунглях.
Таким образом, опыт войны привел немецкое командование к пониманию необходимости оснащения танковых соединений более мощной артиллерией – в том числе за счет сокращения количества танков. В идеале эта артиллерия была самоходной, базирующейся на танковом шасси.
Танк, родившийся в годы Первой мировой как средство прорыва, оказался крайне полезным средством сопровождения подвижной пехоты (и кавалерии) в глубине вражеской территории. Поскольку во вражеском тылу не ожидалось встречи с хорошо организованной и подготовленной обороной, главным для танка дальнего действия (англичане именовали его крейсерским) была дальность хода и подвижность, определявшиеся не только табличными характеристиками, но и надежностью машины. До войны считалось, что высокая скорость отчасти сможет послужить и защитой от вражеского артиллерийского огня. Это оказалось верным, но именно для действий против слабой и наскоро организованной обороны, где плотность противотанковых орудий было незначительна.
При отсутствии необходимости прорывать подготовленную оборону крейсерским танкам не требовались тяжелые орудия. Главной их целью должны были стать либо отдельные огневые точки, либо танки, которые противник имел возможность перебросить к месту боя быстрее всего. Для борьбы с теми и другими, по взглядам 30-х годов, вполне хватало 37-мм пушки или даже 20-мм автомата – именно такими орудиями оснащалась пехота того времени в качестве противотанковых. Таким образом, даже Pz. II с его 20-мм пушкой (напомним – автоматической) и высокой надежностью являлся вполне подходящей машиной для маневренной войны даже по меркам конца 30-х годов. Да, он никак не был приспособлен к прорыву вражеской обороны, но тогдашняя тактика немецких танковых войск этого и не предусматривала.
В мае 1940 года «двоечка» оказалась бессильной против французских пехотных танков с их незначительной скоростью, но мощной броней. Однако та же тактика блицкрига подразумевала, что танки с танками не воюют. Пользуясь своим преимуществом в маневренности и управляемости, немецкие танковые подразделения должны были уходить от прямого столкновения с вражескими танками, против которых выбрасывался заслон из противотанковых пушек на механической тяге. Для штурма отдельных вражеских опорных пунктов немецкие танковые дивизии имели собственную полевую артиллерию 75-мм калибра, а также «артиллерийские» танки – Pz. IV, оснащенные короткоствольной пушкой такого же калибра. Это казалось достаточным – и в большинстве случаев на первом этапе войны действительно было достаточным.
Пехотным танком (они же танки НПП) по довоенным представлениям надлежало иметь солидную защиту, мощное вооружение (пулеметы и короткоствольные пехотные орудия, желательно – во множественном числе) при невысокой скорости и сравнительно небольшой дальности хода. На практике достичь таких качеств оказалось гораздо сложнее, ибо усиление брони и установка мощного вооружения требовали значительного утяжеления машины, для чего был нужен мощный двигатель, а главное – принципиально новая ходовая часть, значительно усиленная по сравнению с традиционными моделями.
Теория и практика
Надо сказать, что не только в 20-е годы, но и много позже, вплоть до Второй мировой войны, многие военные теоретики продолжали считать, что танки вполне способны действовать в прорыве и тылу врага без поддержки пехоты; моторизация пехоты все еще рассматривалась ими в основном как средство быстрой переброски по собственным тылам, а действия в глубоком вражеском тылу оставались прерогативой кавалерии.
Вот что по этому поводу писали советские военные теоретики:
«Стадия развертывания оперативного маневра рисуется в следующем виде. Механизированные соединения, стратегическая конница (1-й эшелон оперативного маневра), устремляющиеся в прорыв вместе с мощной штурмовой и бомбардировочной авиацией, встречными столкновениями ликвидируют подходящие пешком, на автомобилях оперативные резервы противника.
Дезорганизация тыла противника – узлов управления, снабжающих баз… производится рейдирующими механизированными соединениями и стратегической конницей, сопровождаемыми десантами с воздуха.
Одновременно войсковые соединения (второго эшелона оперативного маневра) развертывают маневр на автомобилях (автомобильный маневр), поданных из состава авторезерва главного командования…»[26]
Обратим внимание – речь идет не о моторизованной пехоте, а об обычной пехоте, временно посаженной на транспорт, выделенный из состава РГК. Во многом именно теория глубокой операции, а вовсе не блицкриг, стала порождением бедности – недостаточного уровня моторизации войск, когда из массы армии предполагалось выделять автономный кулак, по своей подвижности многократно превосходящий основные силы. Задачей этого кулака являлся не удар по уязвимым точкам вражеской тыловой структуры с последующим перехватом коммуникаций, а «размягчение» самой обороны вкупе с противодействием вражеским подвижным резервам, перебрасываемым к месту прорыва из тыла либо с других участков фронта.
Именно такими виделись действия механизированных сил творцам теории «глубокой» операции. Необходимость существования чисто моторизованных сил ставилась под сомнение – через пять лет уже упоминавшийся нами выше Ф. Новослободский в своей статье повторял то же самое:
«Войска, обладавшие только средствами оперативной подвижности, не имевшие в бою преимуществ перед обыкновенными, вызывали бы лишь ненужные расходы. Придача оперативной подвижности любому войсковому соединению может быть осуществлена путем перевозки специальными автотранспортными отрядами».
Проще говоря, моторизация пехоты – отдельно, танки – отдельно. Если мы не имеем средств на полную моторизацию, хотя бы в масштабах объединения, тогда отдадим приоритет танку как средству, дающему реальное и решительное превосходство, пусть лишь в определенном месте и в определенный момент. Между прочим, это один из вариантов все того же принципа Гудериана «Klotzen nicht Kleckern!» – «Бейте, а не шлепайте!», сиречь не пытайтесь достичь успеха везде, а сосредотачивайте максимум наличных средств и ресурсов в одном месте, где вы чувствуете себя наиболее сильными.
В данном случае Советский Союз, не имевший к началу 1930-х годов вообще никакой автомобильной промышленности, не мог даже надеяться соперничать с крупнейшими армиями мира по уровню моторизации. Но использование танков давало шанс уравновесить это отставание достижением преимущества в другой области, поэтому нет ничего удивительного в том, что советская военная теория сделала основной упор на танки, а не на подвижную войну, сиречь блицкриг. Хотя, как мы убедились, еще на рубеже десятилетий Калиновский прекрасно понимал суть блицкрига, сформулировав ее гораздо яснее, чем Гудериан.
Впрочем, спор о том, кто же был истинным «отцом» теории блицкрига – Гудериан, Фуллер, де Голль или Калиновский, – не имеют особого смысла, ибо надо учитывать одну важную вещь: на поле боя войска руководствуются не книжной теорией, а практическим опытом, полученным в ходе предыдущих боевых действий.
История не знает случаев, когда те или иные теоретические достижения позволяли добиться решающего перевеса над противником. Даже введение технических новинок давало эффект только тогда, когда сопровождалось технологической возможность применения подобных новинок в массовом порядке. Что с того, что дредноутную схему линейного корабля придумал в 80-х годах XIX века русский инженер Степанов, если впервые она была использована англичанами двадцать лет спустя? Первые многомоторные бомбардировщики были спроектированы и построены в России и Италии, но на ход боевых действий Первой мировой войны это не оказало ровным счетом никакого влияния и волнует сейчас только любителей искать родину слонов в своем Отечестве.
Зато реактивные истребители, причем второго поколения, впервые массово применил Советский Союз, сразу же добившись весомого влияния на ход боевых действий в Корее. И это при том, что технический приоритет в создании и применении реактивной авиации, безусловно, принадлежит немцам, а превосходство в общем количестве реактивных машин к началу 1950-х годов бесспорно держали Соединенные Штаты Америки.
Точно так же приоритет в изобретении блицкрига и приоритет в применении этой тактики на поле боя вполне может принадлежать разным людям и разным армиям. Более того, часто случается так, что, придумывая одну вещь, изобретатель создает совсем другую. Один из пионеров электрического освещения, русский ученый Лодыгин, вообще-то разрабатывал вертолет – разведывательный геликоптер с электромотором, питаемым с земли по кабелю. По его мысли, такое устройство должно было заменить на войне привязные аэростаты, используемые для наблюдения за противником. А электрическая лампочка предназначалась всего лишь для освещения кабины аппарата – но именно благодаря ей имя Лодыгина осталось в истории…
Вот и Гейнц Гудериан, в середине 1930-х годов пропагандируя необходимость создания танковых войск, представлял себе танковую войну совершенно не той, какой она оказалась пять-семь лет спустя. Внимательно читая его книгу «Внимание: танки!», с удивлением обнаруживаешь, что пишет он о совершенно другой войне – вовсе не той, что в реальности вела Германия. Бессмысленно искать в этой работе описание той тактики танковых войск, какую вермахт использовал в своих победоносных наступлениях 1939-1942 годов. Ее там просто нет.
Куда более развернуто оперативных приемов и принципов танковых действий Гудериан касается в своей послевоенной работе «Танки – вперед!», хотя и здесь скорее склонен обсуждать организационные, нежели теоретические моменты. Он не говорит даже тех элементарных вещей, что мы изложили выше. Конечно, можно заподозрить, что «Быстроходный Гейнц» чего-то недоговаривал, чтобы не облегчать жизнь потенциальному противнику, но, судя по всему, многие вещи просто казались ему самоочевидными, не требующими специального подчеркивания. Это вообще очень распространенная ситуация: специалист ведет речь для специалистов и опускает элементарное, а дилетант видит в этом пропуске особый смысл.
Следует оговориться, что блицкриг никогда и нигде не был сформулирован в виде единой теоретической доктрины. Это позволяет отдельным исследователями утверждать, что блицкрига как явления не было вообще – а немецкие победы были либо случайностью либо следствием крайне низких боевых качеств их противников.
Действительно, с военной теорией в Германии 1930-х годов вообще все обстояло очень плохо. Генералитет старой школы (к которой принадлежали Гальдер и Браухич) стремился воевать без риска, главным фактором победы считая превосходство германской армии в уровне организации и в боевых качествах солдат. Именно поэтому Гальдер жаловался, что «солдат нынче не тот».
Сторонники танков (их можно условно назвать «молодой школой») пропагандировали маневренную войну. В ней мотомеханизированные войска обеспечивали не только успех операций на окружение, но и быстрый разгром противника с быстрым завершением кампании. Отметим, что в быстротечной операции высокий уровень организации был особенно важен: любая рассинхронизация приводила к нехватке какого-либо ресурса и в итоге к поражению. Но высокие организационные качества германской армии и германских штабов были настолько очевидны, что никто не стал бы их специально прописывать в военной теориии и военной доктрине…
Однако существовала и третья сторона: нацистское политическое руководство. Находясь в конфликте со «старым генералитетом» (ниже мы подробнее остановимся на причинах этого конфликта), оно неизбежно должно было обратить внимание на «молодую школу». Но куда важнее то, что Гитлер как политик очень боялся войны на измор – впрочем, мы видели, что от нее предостерегал еще сам Шлиффен. И когда сторонники «танковой войны» предложили такое средство, Гитлер их активно поддержал.
Следует учесть, что произошло это довольно поздно – только в начале 1940 года, в ходе подготовки плана войны против Франции. Лишь по ее итоговому плану, известному как «план Манштейна»,[27] танковые войска, объединенные в танковую группу Клейста, стали главным инструментом разгрома противника в Бельгии.
Таким образом, блицкриг представлял собой выражение немецкого стиля войны, помноженного на новейшие теории танковых действий. Но не менее важно, что он являл собой представление о войне, существовавшее у нацистов как революционной партии: победу должен обеспечивать быстрый натиск, подавляющий противника психологически. Ведь именно так Гитлер добился своих внешнеполитических (а затем и военных) успехов в Австрии, Чехословакии, Польше: оппоненты (англичане и французы) оказались растеряны и деморализованы действиями Германии, в результате не решились дать им отпор – хотя стратегически имели такую возможность.
Французская кампания показала правоту Гитлера (и «молодых генералов»): подвижная танковая война обеспечивает быструю победу даже над противником, превосходящим численно и не уступающим технически. Здесь можно сказать, что такой результат был достигнут в первую очередь за счет использования маневренных сил. Однако мы имеем два примера, когда победа была одержана исключительно действиями по принципам блицкрига: Норвегия и Крит.
В Норвегии англо-французские силы имели явное преимущество и в морских, и в сухопутных силах. ОКХ было против этой операции, считая ее безнадежной. Гитлер был вынужден планировать «Везерюбунг» с помощью «конкурирующего ведомства», ОКВ. Он пошел на огромный риск – и выиграл.
Справедливости ради надо признать, что окончательную победу в Норвегии обеспечил успех на Западном фронте, вызвавший эвакуацию англо-французских войск. Но факт остается фактом: немцы смогли высадить десант и закрепить за собой плацдарм в условиях полного господства противника на море. Да, германский флот понес существенные потери – но потери британского флота оказались не меньше, а при таких условиях победа стороны, выполнившей свою задачу, является неоспоримой.
Следующим примером «чистого блицкрига» стал Крит в мае 1941 года. И вновь эта операция планировалась без участия ОКХ, силами ОКЛ (Главное командование «Люфтваффе»). И опять задача выглядела нерешаемой: британцы не просто господствуют на море – у немцев вообще нет флота, за исключением пары-тройки итальянских миноносцев. При этом силы противника на Крите вдвое превосходят все, что немцы могут собрать для высадки с воздуха, к тому же немецкие войска могут перебрасываться не сразу, а малыми порциями.
О превосходстве в технике говорить просто бессмысленно: британские войска имели многочисленную зенитную и береговую артиллерию и хорошо оснащались автотранспортом, у них были даже пушечные танки «Матильда». Парашютисты могли противопоставить всему этому лишь минометы и 37-мм противотанковые пушки, бессильные против 60-мм английской брони. Немцы имели лишь превосходство в воздухе, но по британским отчетам (не мемуарам и не позднейшим документам) воздействие «Люфтваффе» на сухопутные войска было в основном психологическим.
И тем не менее безумная операция увенчалась успехом. Британское командование было подавлено в первую очередь психологически: сначала оно ожидало высадки с моря, затем не смогло вовремя сосредоточить против парашютистов достаточных сил, потом постоянно запаздывало с принятием решения – и шаг за шагом отступало. Войска оказались деморализованы этим отступлением, в итоге превратившимся в бегство.[28]
Блицкриг, которого не существовало, победил.
«Никогда не сдавайся!»
Требования, сформулированные еще Сектом в наставлении 1921-1923 годов «Управление и взаимодействие родов войск в бою», подразумевали необходимость для офицера (а также солдата и унтер-офицера) обладать не просто рядом определенных знаний, а также неким набором привычек и навыков. Эти привычки и навыки можно было отработать только на практике, механическое заучивание уставов и наставлений (не говоря уже о теоретических работах) здесь не помогало.
Точно так же боевая реальность вносила коррективы в уже набранный на учениях опыт. И если мы еще можем проследить изменения организационной структуры под влиянием опыта боевых действий, то изменение личного (в том числе и плохо вербализуемого) опыта солдат и офицеров отследить крайне трудно. Можно лишь констатировать, что тактика блицкрига была гибкой и постоянно менялась как под воздействием полученного опыта, так и под влиянием обстановки.



